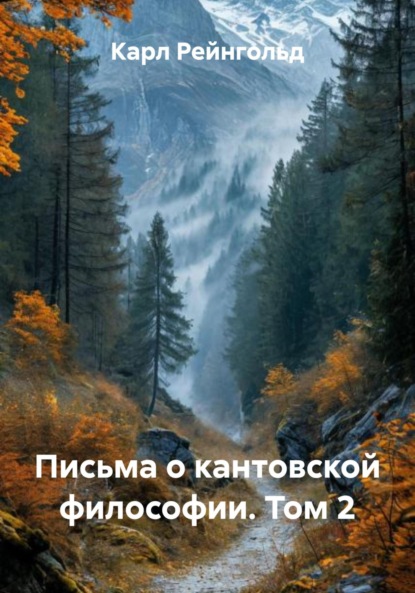
Полная версия:
Письма о кантовской философии. Том 2
То, что при таком способе объяснения добра и зла всё внутреннее различие между справедливостью и несправедливостью упраздняется, достоинство человечества уничтожается, а благо и горе человека подчиняются слепому случаю, а его представитель – голому деспотизму, – об этом уже много сказано и показано, но это никоим образом не привело к тому, чтобы эта отвратительная теория не была взята за основу значительным числом государственных деятелей в их политической системе государственного устройства и управления. Поэтому пагубные последствия, с помощью которых [одни лишь] чувства тщетно пытались опровергнуть этот тип концепции, будут продолжать угнетать и унижать человечество до тех пор, пока причины её не будут опровергнуты всеобщими принципами, о которых до сих пор нельзя было и помыслить. Против морального чувства будут напрасно выступать, пока оно допускает различные толкования и, выражаясь терминами, остаётся двусмысленным, колеблющимся и непонятным, пока не будет открыта и признана единственно верная, единственно возможная и неизменно определённая концепция действующей причины его возникновения.
Единственно правильное объяснение нравственного чувства, которое, как я убеждён, ещё не дано и которое никогда не может быть дано на основе принципов всей предшествующей философии, должно было бы объединить в себе истинное, содержащееся в каждой из других испытанных [гипотез], и исключить ложное, которое ставит их в противоречие друг с другом. Через него должно стать ясно, как философский разум приходит к различным гипотезам, с помощью которых пытались объяснить это чувство. Первым делом необходимо было найти причину разногласий между представителями естественного права и объяснить, почему ни одна из этих гипотез не способна привести к всеобщему удовлетворению. Через это объяснение, с одной стороны, должны быть поняты, доказаны и обоснованы бескорыстие, необходимость и всеобщность причины ощущения добра и зла, а вместе с ним и реальность естественного права – против его противников; с другой стороны, однако, [должна быть показана] несостоятельность естественного права как науки – против его прежних защитников.
Я убеждён, что этот метод объяснения должен основываться на принципах философии Канта и будет общепризнан самостоятельно мыслящими людьми будущих поколений. Я знаю, однако, что в настоящее время я сам могу выдвинуть его лишь в качестве гипотезы, то есть должен довольствоваться изложением одних лишь её следствий. Разработка его причин предполагает совершенно новую теорию способности желания и воли, к которой я и хочу подготовить вас, дорогой друг, этими предварительными замечаниями, – и могу лишь подготовить.
Третье письмо.
О будущем согласии философствующего разума с самим собой относительно источника долга и права.
Я должен еще раз напомнить вам, дорогой друг, что не следует ожидать здесь изложения оснований, на которых зиждется предлагаемый способ объяснения действующей причины чувства добра и зла. Поэтому мне едва ли удастся избежать изложения некоторых положений, которые представляют для вас интерес в сем отношении, но которые могут показаться темными лишь постольку, поскольку они для вас еще не доказаны – и должны оставаться таковыми до времени.
Для меня они доказаны «Критикой практического разума» Канта, для вас же я пока представлю их в виде гипотезы:
1. Что источник нравственности, определяющее основание морального закона, а следовательно, и активное начало морального чувства, никоим образом нельзя отыскать в восприимчивости к удовольствию и неудовольствию или в инстинктах влечения. Можно считать сей инстинкт измененным воспитанием, гражданским устройством или благоразумием; можно именовать его разумным себялюбием, стремлением к счастью или даже инстинктом совершенства и искать закон, по коему он должен давать санкцию воле, в человеческом или божественном разуме, либо в необходимой связи вещей самих по себе – [но все сие будет заблуждением].
2. Моральный закон выделяется среди всех действительных и возможных законов тем, что он есть предписание, содержащее основание своей необходимости в самом себе, посему является законом без какой-либо внешней санкции, и, следовательно, повиноваться ему можно лишь ради него самого.
3. Что источник сего закона лежит исключительно в самодеятельности разума, который именуется практическим разумом поскольку он дает воле закон, получающий свою абсолютную необходимость и всеобщность единственно от него и который может быть исполнен или нарушен лишь благодаря свободе воли.
Сие понятие практического разума, с одной стороны, должно отличаться своей новизной, а с другой – быть отлично от неверных его характеристик, проистекающих из прежних неопределенных наших понятий о разуме вообще.
Для всякого, кто еще не изучал и не постиг «Критику практического разума», в способе усвоения сего понятия заключена тьма, которую я постараюсь прояснить, по крайней мере, настолько, насколько то необходимо для моего нынешнего намерения. Поскольку метод, коим сия концепция развивается в упомянутом сочинении, при всем его совершенстве, на мой взгляд, не позволяет сделать внятное извлечение, мне не остается ничего иного, как осветить его следующими результатами моих собственных размышлений, дальнейшее развитие коих я оставляю для другого случая.
Я понимаю разум как способность человека давать самому себе правила (предписания) для действий, возможных через его иные способности.
Всякое правило, для которого разум должен иметь основание помимо своей собственной способности, называется в сем отношении теоретическим, а способность человека возводить данные основания ко всеобщности правила или производить правила из данных оснований называется теоретическим разумом. Поиск оснований для таковых правил называется рассуждением.
Правило, для которого разуму не дано никакого основания, кроме его собственной способности, называется практическим, а способность человека дать правило, основание коего заключается в его простой самодеятельности, называется практическим разумом.
Устанавливать таковые правила – значит действовать по чистому разуму (не рассуждать, но еще и не волить).
Теоретическое предписание становится абсолютно необходимым, то есть законом, не по простому разуму, а лишь по причине, данной разуму извне. Посему оно условно, то есть является законом разума, зависящим от условия, находящегося вне самого разума.
Практическое предписание становится абсолютно необходимым предписанием, или законом, благодаря одному лишь разуму, в коем заключено его основание. Посему только оно одно есть абсолютно безусловный закон разума, независимый от всех условий, не зависящих от простой самодеятельности.
Поскольку практический закон состоит в том предписании, основание коего лежит в самодеятельности разума, постольку он называется законом свободы.
Поскольку теоретический закон состоит в том предписании, основание коего дано не в самодеятельности разума, а вне ее, постольку он называется законом природы.
Поскольку практический закон не имеет основания, кроме способности предписывать себя, он может состоять лишь в таком предписании, которое не имеет иной цели, кроме самого предписания; в правиле, которое действует только само по себе; в законе, который не нуждается в санкции, ибо содержит ее в себе. Первоначальный, единственно возможный, неизменный образ действий практического разума (закон его природы), следовательно, состоит в безусловном законодательстве, в установлении правила ради правила, в автономии разума.
Поскольку практический закон основан только на чистой самодеятельности человека, те способы действия, которые не зависят от человека как личности, никоим образом не могут быть ему подчинены. Посему практический закон не есть закон инстинкта или непроизвольного влечения. Поэтому правила, предписываемые разумом для простого влечения, суть правила чисто теоретические, получающие основание своей необходимости от стремления к удовольствию и являющиеся естественными законами способности желания.
Практическому закону может быть подчинено лишь такое действие, которое зависит исключительно от человека как личности. Оно состоит исключительно и только в хотении или действии человека, посредством коего он определяет себя (не в соответствии с требованием [влечения], а в соответствии с [требованием] удовлетворения или неудовлетворения самого по себе). Закон практического разума, таким образом, не имеет иного объекта, кроме воли; и практический разум предписывает закон не для [удовлетворения] требований [влечения], а для удовлетворения или неудовлетворения [этих требований] since они зависят от свободы человека, которая может быть соблюдена лишь благодаря сей свободе – лишь добровольно – но по сей же причине может быть и нарушена.
Итак, как закон для воли, как закон, коему человек может подчиниться лишь через свободу, он есть практический закон, закон свободы, и существенно отличается от всякого чисто теоретического закона влечения (к коему относится и закон стремления к счастью) как простого закона природы.
Практический разум – это не воля, а воля – это не практический разум, и даже не чистая воля. Чистая воля – это самоопределение к удовлетворению или неудовлетворению влечения ради практического закона. Действие чистой воли – это действие по сему закону. Действие же практического разума есть установление самого закона в самосознании. Первое есть действие чистого разума, который имеет сей единственный способ действия; второе есть действие свободы воли, которая имеет два способа действия: она может действовать как чистая или как нечистая воля.
Нравственность, в самом узком смысле сего слова, есть добровольное удовлетворение и неудовлетворение потребностей способности желания. Практический закон называется моральным законом поскольку ему подчинены сии удовлетворения и неудовлетворения, и законом чистой воли поскольку его объектом есть чистое воление.
Долг – это все, что необходимо по моральному закону; правильно то, что возможно по оному; неправильно то, что невозможно по оному.
Сознание соответствия или противоречия волевого акта моральному закону сообщает о себе в способности чувства удовольствием или неудовольствием, и в сем состоит моральное чувство.
Итак, поскольку законность или беззаконие, правильность или неправильность, возвещаемые моральным чувством, зависят от морального закона, постольку практический разум является действующей причиной морального чувства.
Естественное право, правда, ограничивается правом, которое может быть обеспечено принуждением, и правом, которое может быть предотвращено принуждением, и, следовательно, имеет дело лишь с одним видом права, которое, однако, поскольку оно принадлежит к роду права, определяется моральным законом.
Несмотря на то что принуждение предполагает наличие физических сил и данных внешнего опыта, а следовательно, и иных фактов и убеждений, кроме сознания морального закона, все же по всем этим фактам и убеждениям можно определить лишь применение практического закона, но не сам закон, от коего зависит правомерность всякого принуждения. Посему чувство добра и зла во всех своих возможных видах и проявлениях является следствием практического разума; и как таковое, во всех своих проявлениях, сколь бы разнообразны они ни были, – даже там, где оно действенно в ошибочном сознании, – оно, согласно своему источнику, необходимо и всеобще, согласно своим объектам неизменно, согласно своей природе бескорыстно и непогрешимо.
А теперь испытаем, можно ли и в какой степени объяснить различные особенности или характеры чувства добра и зла, кои не остались незамеченными в прежних способах объяснения сего чувства, но ни в одном из них не были соединены воедино.
Новый способ объяснения должен быть понят целостно.
Как следствие практического разума, чувство добра и зла никоим образом не предполагает научной культуры, а лишь ту ступень общего употребления разума, на коей человек начинает размышлять о делах своего эгоистического инстинкта, или, что то же значит, об удовлетворении своих чувственных потребностей, и об отношениях, в кои он поставлен ими по отношению к другим людям; ступень, на коей пребывает даже самый испорченный человек в каждом гражданском обществе. Практический разум никоим образом не может возвестить свой закон прежде, нежели он станет применим в сознании. Сия применимость не может иметь места до тех пор, пока теоретический разум не сможет представить себе случаи, предполагающие применение сего закона и кои могут быть получены лишь из данных внешнего и внутреннего опыта. Посему до тех пор, пока в грубом сыне природы инстинкт все еще поглощен своими делами; пока предметы его потребностей не изменены, не усовершенствованы, не увеличены, не приумножены силой мысли; пока, словом, человек еще не начал рассуждать о своих благах и горестях: столь долго дремлет в нем его личность; столь долго не пробудилась в нем способность пользоваться и сознавать свою свободу; столь долго нет в нем еще воли, способной либо повелевать инстинктом согласно моральному закону, либо служить ему; столь долго он не ведает ничего, кроме физических чувств, и от бесчувственного животного его отличает лишь внешняя форма и внутренняя способность, которая еще не перешла в действующую силу. Таким образом, получается, что «буржуа», помимо всех буржуа, является «буржуа». [Данное предложение, по-видимому, является опечаткой или ошибкой перевода, нарушающей смысл. В контексте абзаца, описывающего "грубого сына природы", оно выглядит лишним и, вероятно, требует исключения или глубокого переосмысления, которого в оригинале нет. Было оставлено как есть, так как это явная лакуна или ошибка в предоставленном тексте.]
Чем многочисленнее и разнообразнее случаи, кои представляет практическому разуму опыт и кои побуждают его повторять, представлять и прививать свой закон в виде многообразных предписаний и запретов, – тем чаще, живее, разнообразнее должны становиться и выражения чувства добра и зла. Посему действующую причину сего чувства следует искать не в гражданском обществе и его установлениях, а в той пружине человеческого духа, что не заведена извне, но которая, тем не менее, требует для выражения своей самодеятельности того опыта, коий можно обрести лишь в лоне общества.
Как следствие практического разума, моральное чувство зависит от рассудка не более, нежели сознание личности, с коим оно берет начало из одного источника. Закон, заявляющий о себе через сие чувство, имеет свое основание в самом разуме, а именно в том его проявлении, в коем разум не зависит ни от чего, кроме себя самого. Сознание сего закона поэтому всегда истинно и непогрешимо, хотя суждение о его применении к отдельным случаям может быть посему обманчивым, и часто действительно обманчиво, ибо зависит от теоретических следствий разума, а через них – от данных оснований, кои не всегда нам подвластны. Отсюда и ошибочная совесть; так, под непогрешимым сознанием, что выражает закон, [здесь, вероятно, пропущено продолжение мысли, например: "может скрываться ошибочное суждение о фактах".]
Посему чувство, коим возвещаются добро и зло, в отношении своего действительного объекта не предполагает некой определенной меры теоретической проницательности или какого-либо просвещения, зависящего от внешних обстоятельств и внутренней степени способностей: но оно пробуждается (не посредством, но) при посредстве силы мысли, изменяющей инстинкт, каким бы то ни было способом, и пребывает, защищенное ненарушимостью, чистотой и святостью своего источника, в самом низком человеке рядом с глубочайшим невежеством и грубейшими заблуждениями, равно как и в самом образованном уме рядом с самыми искусными теориями (так часто отрицающими его реальность и возможность) с одинаковой неизменной истинностью. Все тонкие и грубые ошибки, коими доселе неправильно понималось моральное чувство, как в отношении причины его возникновения, так и в отношении применения закона, в нем проявляющегося, могут, конечно, ограничить благотворные последствия сего чувства, но никоим образом не его действующую причину. Они не могут умалить ни самодеятельности практического разума, устанавливающего свой закон, ни той свободы воли, по которой человек действует либо согласно, либо вопреки сему закону, и от коей одной зависит нравственность или безнравственность, правота или подлость, словом, внутренняя ценность человека – со всеми большими или меньшими просветлениями головы, со многими или немногими невольными ошибками.
Помыслите о нравственности, дорогой друг, как о продукте, с одной стороны, практического разума, то есть разума, который не рассуждает, но необходимо повелевает, и, с другой стороны, свободной воли, коя в каждом конкретном случае может воспользоваться практическим законом или пренебречь им; – и вам бросится в глаза, почему и до какой степени нравственность может и должна быть признаваема всеми мудрыми и добрыми всех времен как высшее и притом достижимое благо для каждого человека, как единственное благо, возможное лишь через него самого, определяющее его внутреннюю ценность независимо от его внешних судеб.
А теперь помыслите о нравственности как о продукте, с одной стороны, теоретического разума, то есть разума, который размышляет и зависит от заданных оснований, и, с другой стороны, влечения к удовольствию, кое отчасти связано с результатами сего самого разума, а отчасти – с природой его объектов, – и вам придется почесть упомянутые выше изречения мудрых и добрых не более чем риторическими фигурами или добросердечными мечтаниями. Но поскольку для вас и для меня нет и не может быть истины вышей, чистейшей, определеннейшей, нежели та, что содержится в сих изречениях: тогда все теории покажутся вам непоследовательными и отвратительными, согласно коим нравственность, как простое следствие силы мысли внутри нас и вещей вне нас, должна была бы в равной степени зависеть от научной культуры и от случая; согласно коим праведность была бы подчинена простым теоретическим догадкам и принуждению естественной необходимости, что скоро порождает ее, скоро уничтожает; согласно коим, наконец, истинное чувство добра и зла предполагало бы некое определенное и правильное понятие о нравственности, и потому отсутствовало бы не только у простого человека, но даже у философов учености, у всех тех партий, что в своих противоположных доктринах, из коих либо лишь одна, либо вообще ни одна не может быть истинной, упустили бы его.
Благодаря нашему методу объяснения, – и лишь благодаря ему, – становится понятным, как чувство добра и зла, несмотря на всю обманчивость представлений о нем, о его объекте и причине возникновения, может и должно быть тем не менее непогрешимым. Моральное чувство, с одной стороны, есть непосредственное следствие практического разума. Понятие же, с другой стороны, является результатом работы мыслящего разума и в этом отношении зависит от внешних обстоятельств, и поэтому отнюдь не является непогрешимым; или, скорее, оно не является делом одного лишь разума до тех пор, пока не производится чистым, незамутненным и в этом отношении полностью развитым, самопознающим разумом, который отличает собственное свое дело от влияния иных способностей духа. Я говорю здесь о завершенных, правильных, абсолютно истинных понятиях, которые по сей самой причине должны быть чисты от всех привнесений воображения, не должны оставлять в своем составе ни одной существенной черты невыявленной, ни одной лишней, и поэтому должны быть, путем полного расчленения своего содержания, доведены до предела постижимого, исчерпаны. На такую концепцию можно надеяться лишь в философии, коей человеческий дух еще не достиг, и которая может начаться только с открытия окончательной универсальной основы всего философского знания. До тех пор каждое философское понятие добра и зла будет более или менее приближаться к своим объектам, но никогда не достигнет их, и, при всей истинности отдельных характеристик, будет ложным как фундаментальное понятие, как представление о сущности своего объекта; оно будет истинным лишь до тех пор, пока его смешивают в его полной неотчетливости с самими моральными чувствами – оно станет неверным, как только его возведут в степень отчетливости. До тех пор любое действие, которое не проистекает из простого нравственного чувства, а совершается, например, в соответствии с выводом, сделанным из неверной концепции морали, может считаться нравственным, но от того не станет нравственным. В этом отношении наше прежнее философствование о морали должно было бы отменить всю мораль, если бы она зависела от мыслящего разума и от понятий вообще. В то же время философия, благодаря неправильности, содержащейся во всех ее до сих пор установленных концепциях морали, нанесла реальной нравственной культуре столько же вреда, сколько пользы она нанесла ей благодаря правильности, рассеянной в этих концепциях. Ибо если последним она возбуждала и поддерживала нравственное чувство, то первым она стимулировала и укрепляла эгоистический инстинкт, в котором она возвела принцип самолюбия, иногда явно, иногда под другим названием, в ранг нравственной движущей силы.
Эстетическое чувство имеет общее с нравственным чувством, помимо всего прочего, в том, что, предоставленное самому себе, оно непогрешимо – но ошибочно оценивается в понятиях, которые не являются работой философии, основанной на универсальных принципах – и, в той мере, в какой эти понятия приобретают влияние на суждения художников и ценителей искусства, препятствует его чистой и полной действенности. Благодаря известному стечению благоприятных обстоятельств чувство прекрасного пробудилось у древних греков в его первозданной чистоте и энергии и породило шедевры искусства, которые до сих пор остаются недосягаемыми. Я полностью согласен с автором эссе «Искусство и эпоха» в «Талии», когда он утверждает, что вкус и определяемое им чувство искусства греков, далеко не восстановленные нашими теориями, скорее сделаны ими невозможными (в той мере, в какой они на них влияют). Чувства не могут быть заменены понятиями, тем более объекты непогрешимых чувств не могут быть представлены двусмысленными, колеблющимися, полуправдивыми понятиями, не пробуждая принципов, противоречащих этим чувствам. Но я убежден, что вкус греков не только возродится, но и получит поддержку, которой он никогда не имел, и благодаря которой ему будет обеспечена вечная продолжительность, когда философский разум сумеет не предписывать то, что можно только чувствовать, а напротив, вывести активную причину эстетических чувств из установленной науки о способностях духа, и установить понятие красоты, которое не менее непогрешимо, чем ощущение ее.
Я возвращаюсь к нашему способу объяснения чувства добра и зла, чтобы показать, как с его помощью можно понять происхождение различных предыдущих основных понятий долга и права и определить в них истинное и ложное.
Поскольку долг и право основаны только на законе практического разума, независимого от всякого рассуждения, то они не могут первоначально заявить о себе в сознании вообще через понятия, но только через чувства, и только через такие чувства, которые существенно отличаются от всех чувств, производимых физическими впечатлениями, и которые составляют единственное практическое, независимое от всякого рассуждения и универсально действительное основание убеждения для морального закона и естественного права. Отсюда понятно, как английские защитники морального чувства пришли к тому, чтобы искать последнюю основу и действительную причину морали и права в простом чувстве, которое не может быть объяснено из его объекта, потому что этот объект определяется им только в сознании; которое посредством удовольствия и неудовольствия сообщает воле, что она должна делать и от чего должна воздерживаться; но которое, между прочим, не может рассматриваться ни как эффект теоретических представлений, ни как внешнее впечатление на чувственность, и, следовательно, не может быть получено ни от рассудка, ни от чувственности.
Однако при таком способе объяснения, во-первых, первоначальное основание убеждения в долге и праве, которое бесспорно существует в моральном чувстве, смешивается с основанием возможности и реальности этих объектов, а моральное чувство, которое может быть только следствием моральной движущей причины (Grundfeder), принимается за саму эту движущую причину.
Во-вторых, утверждение, что для нравственности нельзя дать никакого критерия, кроме простых чувств, и что нравственное чувство непостижимо в отношении его активной причины, причисляет долг и справедливость к qualitates occultas [скрытым качествам], а разум лишается всякой возможности отличить нравственное чувство от безнравственного. Правда, согласно этим системам, характер нравственности и безнравственности в достаточной степени объявляется в сознании моральным удовольствием и неудовольствием. Но как распознать нравственный характер этого удовольствия и неудовольствия, благодаря которому эти удовольствия и неудовольствия можно отличить от всех других, если они должны возникать в сознании только как следствия совершенно неизвестной причины, а никак не как продукт практического разума, который сам по себе очевиден?



