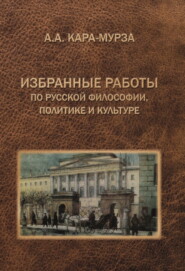скачать книгу бесплатно
Капустин Б.Г, Мюрберг И.И., Фёдорова М.М. Этюды о свободе. Понятие свободы в европейской общественной мысли. М., Аквилон, 2015.– 288 с.
Карамзин Н.М. Неизданные сочинения и переписка. Ч. 1. СПб.: Тип. Н. Тиблена, 1862.– 250 с.
Карамзин Н.М. Из записной книжки. М., 1982.
Кара-Мурза А.А. Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса Н.М. Карамзина // Филология: научные исследования, 2016, № 1. С. 101–106.
Кара-Мурза А.А. Свобода и порядок. Из истории русской политической мысли XIX–XX вв. М.: МШПИ, 2009.– 247 с.
Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. Свобода и вера. Христианский либерализм в российской политической культуре. М.: Институт философии РАН, 2011.– 184 с.
Леонтович В.В. История либерализма в России (1762–1914) (пер. с нем. И. Иловайской; предисл. А. Солженицына). М.: Русский путь, 1995.– 444 с.
Очерки истории западноевропейского либерализма XVII–XIX вв. (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы). М.: Институт философии РАН, 2004.– 226 с.
Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1956.– 848 с.
Российский либерализм: идеи и люди (ред. и сост. А.А. Кара-Мурза). М.: Новое издательство, 2004.– 616 с.
Российский либерализм: идеи и люди (2-е изд., расш. и доп.) (ред. и сост. А.А. Кара-Мурза). М.: Новое издательство, 2007.– 904 с.
Испытание философией Философия в императорской России перед «великими реформами» 1860-х гг
«Просветители» против «погасильцев»
Хорошо известна сентенция А.И. Герцена о двухпартийности как прочной константе российского бытия: «партия народного просвещения» всегда борется у нас с «партией народного затемнения». Еще ранее, в конце 1810-х гг., эту извечную русскую антиномию: «просветители против погасильцев» — искусно варьировал в своих выступлениях на полночных заседаниях «Зеленой лампы» ее интеллектуальный лидер, литератор и дипломат А.Д. Улыбышев[57 - Улыбышев А.Д. Письмо другу в Германию о петербургских обществах // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951, т. 1. С. 279–280; подробнее см.: Кара-Мурза А.А. Улыбышев и Пушкин о «дурном синтезе цивилизаций» («Азиопа» в свете «Зеленой лампы», 1819–1820) // Полилог, 2020, т. 4, № 4. С. 3.].
Заинтересованному современнику или исследователю-историку остается только верно определить истинную «партийную принадлежность» конкретных «акторов» на ниве отечественной политики и культуры, периодически натыкающихся на рецидивы «внутреннего варварства»[58 - См.: Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995.]. Занимаемые этими персонажами посты и позиции, равно как и показные одежды, в которые они периодически рядятся, не должны вводить объективного наблюдателя в заблуждение: инициаторами очередного «затемнения» у нас зачастую становились официальные «министры просвещения», а то и первые лица государства.
Будущий декабрист А.Е. Розен, одно время служивший в гвардии под началом Великого князя Николая Павловича, вспоминал, как однажды будущий император, недовольный дисциплиной во вверенной ему дивизии, произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Господа офицеры, займитесь службою, а не философией: я философов терпеть не могу, я всех философов в чахотку вгоню!»[59 - Розен А.Е. Записки декабриста. Иркутск: Восточно-Сибирское изд-во, 1984. С. 114.] Кто бы мог тогда предположить, что слова, вырвавшиеся из уст энергичного дивизионного начальника, третьего сына императора Павла I, не имевшего, казалось, никаких перспектив на престол, со временем станут идейным кредо долгого (1825–1855) и во многом определившего судьбу России царствования.
Впрочем, гонения на Просвещение начались еще при позднем Александре Благословенном, впавшего, как известно, в последние годы жизни в откровенный обскурантизм (от лат. obscurans – «затемняющий», аналог русского «мракобесия»). Характерна в этой связи судьба одного из мэтров отечественного образования, воспитанника Геттингена и Гейдельберга Александра Петровича Куницына (1783–1840), преподававшего философию права, а также логику, психологию и этику в Царскосельском лицее, Главном пединституте, а затем и в воссозданном в 1819 г. Санкт-Петербургском Императорском университете. Определяющую роль Куницына в гражданском становлении культурного юношества той эпохи отчеканил талантливейший из его учеников – в черновиках к «Лицейской годовщине 19 октября 1825 г.» («Роняет лес багряный свой убор»):
Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена…
Закономерно, что начавшееся в 1820 г. очередное контрнаступление родного мракобесия против отечественного же Просвещения (вошедшее в историю как «дело профессоров») поначалу было направлено персонально против А.П. Куницына. Одиозную славу «первого погасильца» примерил тогда на себя член Главного правления училищ Д.П. Рунич, усмотревший в труде правоведа и философа Куницына «Право естественное»[60 - Куницын А.П. Право естественное. СПб.: Тип. Иос. Иоаннесова, 1818.] противоречие «истинам христианского вероучения». Данная книга, доносил тогда Рунич, «есть не что иное, как пространный кодекс прав, присвояемых какому-то естественному человеку, и определений, совершенно противоположных учению Св. Откровения. Везде чистые начала какого-то непогрешимого разума признаются единственною, законною проверкой побуждений и деяний человеческих… Здесь говорится о каком-то внутреннем чувстве, похожем на совесть»[61 - Цит. по: Феоктистов Е.М. Магницкий. Материалы для истории просвещения в России. СПб.: Тип. Кесневиля, 1865. С. 13–14.].
Настояв на увольнении Куницына из Санкт-Петербургского университета и обезглавив тем самым тамошнюю «партию просветителей», Рунич, получивший к тому времени пост попечителя округа, завершил в 1821 г. зачистку столичного университета, жертвой которой стали в том числе и профессора философии. Так, Александр Иванович Галич (1783–1863), автор двухтомной «Истории философских систем» (и, кстати, еще один царскосельский наставник Пушкина) был принужден к публичному покаянию, прося «не помянуть грехов юности и неведения…»[62 - Жуковская Т.Н. «Дело профессоров» 1821 г. в Санкт-Петербургском университете: новые интерпретации // Ученые записки Казанского университета. Сер.: Гуманитарные науки, 2019, т. 161, кн. 2–3. С. 96–111.]. Донос был написан и на престарелого профессора логики Петра Дмитриевича Лодия (1764–1829): в нем говорилось, что последняя книга философа[63 - Додай П.Д. Логические наставления, руководствующие к познанию и различению истинного от ложного. СПб.: Тип. Иос. Иоаннесова, 1815.] «полна опаснейших по нечестию и разрушительности начал; а автор превзошел открытостью нечестия и Куницына, и Галича»[64 - Цит по: Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. Т. 2. Материалы. Реконструкция Татьяны Щедриной. М.: Российские пропилеи, 2009. С. 575.].
Аналогичную роль гонителя Просвещения сыграл в те же самые годы другой «попечитель», М.Л. Магницкий, – уже по отношению к Казанскому университету. В юности грешивший либерализмом и входивший в ближний круг реформатора-конституционалиста М.М. Сперанского, Магницкий, после опалы бывшего патрона, быстро переметнулся в ряды обскурантов. Отставленный в конце концов от всех постов за казнокрадство, он и в 1830-е гг. продолжал писать доносы на Сперанского, обвиняя того в подготовке «тайного масонского заговора».
Удивительно похожи типажи наших «погасильцев». В юности, тот же Рунич, пользуясь протекцией отца-губернатора, входил в круг «золотой молодежи», переводил сочинения Дидро, вольнодумствовал и много шалил. Похоже, именно к тем временам относятся воспоминания, которыми Рунич в глубокой старости (1854) опрометчиво поделился с пришедшим навестить его соседом по имению Д.Н. Родионовым: «Мне не спалось, и вдруг воскресло передо мной давно былое время моей юности. Я видел себя в Москве, в том обществе, которое слыло самым образованным, потому что наизусть знало Вольтера, Дидерота и Руссо; но не знало преград в удовлетворении своих хотений, среди роскоши и распутства»[65 - Воспоминания Д.Н. Родионова // Русская старина, 1898, кн. 8 (август). С. 389–390.].
Впав в неслыханную для него откровенность, Рунич припомнил один эпизод: «У князя N. после обеда барыни ушли на свою половину, а мужчины отправились в диванную. Нам подали халаты, мы одели колпаки и на турецких подушках, в комнате, освещенной пламенем от горевшей жженки, пели богохульные песни. Серебряная миска была неисчерпаемая, а гости становились все беспутнее и беспутнее. Песни, крики, говор, плеск вокруг синеватого огня: всё кружилось при хохоте и песнях этих ужасных!..»[66 - Там же. С. 390.]
И далее полубезумный старик поведал гостю о своих ночных кошмарах, не подозревая, что картины его сумеречного подсознания когда-нибудь всплывут в открытой печати: «И вот, всё это воскресло предо мной в ночной тиши, и через более полустолетия повторял я слова давно забытой той страшной песни, и ни от слов, ни от напева не мог я отделаться!.. Так вот, теперь понял я те муки, которые души отшедших претерпевать будут в загробной жизни: им вспомнится до мельчайшей черты их деяний дурных, и это неотвязчивое воспоминание, при уразумении их нравственной нищеты и зла, которое от этого последовало, и составит тяжесть загробной кары!»[67 - Там же. С. 390–391.]
Выходит, что талантливый, возвышенный, совестливый философ Куницын и его товарищи-профессора пали жертвой персонажа, не только беспринципного, но и глубоко порочного. Нечто подобное случилось тремя десятилетиями ранее (в начале 1789 г.) с юным Николаем Карамзиным – ближайшим сотрудником лидера тогдашних «просветителей» Н.И. Новикова. Карамзин вынужден был бежать из России и долгие четырнадцать месяцев скитался по Европе: мы до сих пор как-то слишком буквально повторяем предельно самоироничное название его сочинения – «Письма русского путешественника»![68 - Кара-Мурза А.А. Философские дилеммы «Писем русского путешественника Н.М. Карамзина // Философские науки, 2016, № 11. С. 59–68.].
А причиной фактической эмиграции 22-х летнего Карамзина были преследования со стороны обер-прокурора московского Сената, князя Г.П. Гагарина, которого свидетельница той драмы А.И. Плещеева метко назвала «Тартюфом»[69 - Крестова Л.В. А.И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина // XVIII век. Сб. 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи. Л.: Наука, 1975. С. 266; Кара-Мурза А.А. Загадка «Тартюфа». Неизвестные страницы европейского путешествия Н.М. Карамзина (1789–1790) //Николай Карамзин и исторические судьбы России. К 250-летию со дня рождения (общ. ред. и сост. А.А. Кара-Мурзы, В.Л. Шаровой, А.Ф. Яковлевой). М.: Аквилон, 2016. С. 361–375.]: за показной набожностью Гагарина (как впоследствии и Рунича) скрывалась все та же нечистая совесть, полное осознание собственной червивости, а за обскурантистским активизмом – тот же тайный ужас перед Всевидящим оком Высшего судии. В 1780-х гг. Гавриил Гагарин, полиглот, автор философско-эзотерических текстов, большой поклонник Сведенборга, уловив смену настроений Екатерины II, покаялся перед императрицей и получил назначение на высокую должность в Москве, где, войдя в доверие к Новикову, занялся подготовкой разгрома московских масонов. В 1792 г. он выступит главным свидетелем на процессе против Новикова и его друзей-мартинистов.
Уже после смерти Гагарина граф Ф.В. Ростопчин представит в 1811 г. императору Александру I свои «Заметки о мартинистах», где о покойном «князе-оборотне» Гаврииле Гагарине сказано следующее: «Этот человек был гроссмейстером тайной масонской ложи в Москве и решился пристать к мартинистам; но, узнав, что им грозит гонение, счел за лучшее избавиться от всякой ответственности и выслужиться посредством разоблачения вверенных ему тайн. Он сделался предателем единственно из страха… Это был человек умный, опытный в делопроизводстве, но корыстный, склонный к пьянству, погрязший в долгах и никем не уважаемый»[70 - Ростопчин Ф. Мысли вслух на Красном крыльце. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 140–141.].
Отечественные «Тартюфы» поистине неистребимы, и первыми жертвами их, как правило, становятся по-настоящему верующие и искренние люди – Карамзин, Новиков, Сперанский, Куницын, etc., действительно озаренные «искрой Божией».
Европейские революции и конец «уваровского» Просвещения
Революционные вспышки в Европе 1848 г. всерьез напугали императорский Двор, только недавно отрешившийся от воспоминаний о попытке «декабристского» переворота и от последовавшей затем суровой расправы с дворянской фрондой. За неимением достоверной информации из Европы, петербургские власти (впрочем, и общество тоже) долгое время пробавлялись, преимущественно, слухами.
«События идут так быстро, что все догадки, ожидания и расчеты на будущее остаются далеко позади, – записал тогда в своем дневнике постепенно выходивший на государственную авансцену П.А. Валуев. – Наши псевдогосударственные мужи не знают, за что взяться. Другие придумывают сумасбродные распоряжения… В городе разносят уже бесчисленные нелепости о дальних областях самой империи. Вчера утверждали, что Тифлис и Варшава вспыхнули, и что в Риге в каком-то клубе из мебели состроили баррикады»[71 - Валуев П.А. Дневник графа Петра Алексеевича Валуева (1847–1860) // Русская старина, 1891, № 4 (апрель). С. 173.].
Любопытен и взгляд на те же самые события «с другой стороны» – например, от набиравшего общественный вес молодого доцента университета С.М. Соловьева, будущего отца философа В.С. Соловьева. «11 февраля 1848 года я женился, – вспоминал историк. – Но и медовый месяц был потревожен: не помню которого числа, после обеда тесть мой (морской офицер В.П. Романов, в 1826 г. привлекавшийся по «декабристскому делу». – А.К.), в доме которого я жил после свадьбы, принес журнал с известиями о февральской революции (в Берлине. – А.К.); прочитавши известия, я сказал: “Нам, русским ученым, достанется за эту революцию!” Сердце мое сжалось черным предчувствием»[72 - Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М.: Изд-во Московского университета, 1983. С. 308.].
Соловьев-старший как в воду глядел: репрессии в адрес русской науки и образования не заставили себя ждать. «Чудна эта земля Россия! – записал в дневнике один из самых известных мемуаристов XIX в., доктор философии (и одновременно государственный цензор) А.В. Никитенко. – Полтораста лет прикидывались мы стремящимися к образованию. Оказывается, что это были притворство и фальшь: мы улепетываем назад быстрее, чем когда-либо шли вперед. Дивная, чудная земля!»[73 - Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. Т. 1. 1826–1857. Л.: Художественная литература, 1955. С. 312.]. Никитенко отмечает, что, когда совсем недавно некоторые «горячие головы» пророчили закрытие университетов, «многие считали это несбыточным»: «Простаки! Они забыли, что того только нельзя закрыть, что никогда не было открыто»[74 - Там же.].
Спустя несколько дней, записи Никитенко становятся еще тревожнее: «События на Западе вызвали страшный переполох на Сандвичевых островах… Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему… Еще немного – и всё, в течение полутораста лет содеянное Петром и Екатериной, будет вконец низвергнуто, затоптано… И теперь уже простодушные люди со вздохом твердят: “видно, науки и впрямь дело немецкое, а не наше”»[75 - Там же. 315.].
Странна и двояка в те годы была роль такого видного персонажа русской истории, как граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855) – министр просвещения, верный столп николаевского режима, а когда-то активный член либерального общества «Арзамас» с дружеским прозвищем «Старушка». Уварова нельзя назвать в полной мере ни «просветителем», ни «погасильцем»; в зависимости от обстоятельств (конкретно, от настроений наверху), он равно мог быть и тем, и другим – и очень убедительно.
«Двуликий», как у римского божества Януса, образ Уварова хорошо уловил близко знавший его С.М. Соловьев, нами уже цитированный. «Уваров, – пишет историк о многолетнем (1833–1849) министре просвещения, – был человек, бесспорно, с блестящими дарованиями… Но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным (курсив мой. – А.К.). Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно аристократического; напротив, это был лакей, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце лакеем»[76 - Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. Пг.: Прометей, 1915. С. 100.].
Вот это очевидное расхождение способностей умственных (которых у Уварова было в избытке) и его же способностей сердечных, и не позволяет в полной мере причислить Уварова к «партии культуры» – в отличие, например, от министра народного просвещения эпохи «великих реформ» А.В. Головнина, чье нравственное кредо полностью соответствовало занимаемому посту.
Нельзя, конечно, согласиться и с теми радикалами, которые, вслед за Белинским и Герценом, бескомпромиссно причисляли Уварова к «партии народного затемнения». Следует признать, что в своем противостоянии (пусть даже чисто карьерном) с такими одиознейшими «кромешниками», как Магницкий или Рунич, Уваров часто бывал на стороне Просвещения – так, как он его понимал.
В начале 1849 г., когда слухи о неизбежном закрытии университетов и замене их узкоспециальными учебными заведениями (на манер Училища правоведения) достигли апогея, министр Уваров, с целью успокоения общественности (а заодно и некоторого умиротворения властей предержащих) поручил своему личному другу, профессиональному философу и талантливому литератору Ивану Ивановичу Давыдову (1794–1863), поклоннику Бэкона и Шеллинга, написать программную статью «О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании», напечатанную потом при посредстве П. А. Плетнева в мартовском номере «Современника»[77 - Давыдов И.И. О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании // Современник, 1849, т. XIV. С. 37–46.].
Статья эта, по-видимому отредактированная самим Уваровым, стала последовательным изложением «консервативно-просветительской» программы уваровского министерства. Задачей статьи было показать, что, в отличие от Европы, всегда готовой вспыхнуть от любой случайно брошенной в общество «горячей» идеи, Россия – цивилизация особая и напитанная высшими смыслами – имеет к таким «поджогам» иммунитет, помогающий выдержать любые испытания философией.
«На Западе, – писал Давыдов, – страсть к преобразованиям, недовольство своим состоянием, пренебрежение к преданиям – общий недуг людей без прошедшего и будущего, живущих для одного настоящего. Но в православной и боголюбивой Руси благоговение к Провидению, преданность государю, любовь к России – эти святые чувствования никогда не переставали питать всех и каждого; ими спасены мы в годины бедствий; ими возвышены на степень могущественнейшей державы, какой не было в мире историческом»[78 - Там же. С. 37.].
Залог крепости и стабильности российского Просвещения, по мнению Давыдова (и стоящего за ним Уварова), – верность «классическим образцам», в том числе философским. «Нынешние заговоры и смуты на Западе, – читаем мы в статье, – представляют нам в числе кровожадных мятежников и философов, и юристов, и историков… Но станем ли осуждать за это и учение веры, и науку? Разве виновна религия или наука в том, что фанатики, во зло употребляя их имя, бестрепетно попирают ногами всё для человека священное?»[79 - Там же. С. 42.]
Впрочем, по мнению Давыдова, некоторые «новейшие умы» всё-таки виновны в европейских смутах: «Кто из древних писателей может сравниться в унижении человеческого достоинства с новыми французскими и немецкими, которыми думают заменить греческих и римских классиков? Какой яд ужаснее того, который подносят в позлащенных чашах Виктор Гюго и Кабе, Штраус и Фейербах? Для этого, однако, никто не подумает истребить в училищах языки немецкий и французский?»[80 - Там же.]. Впрочем, добавляет автор, «европейские эксцессы» вряд ли могут представлять опасность для России, где «образованные, благородные юноши ежегодно исходят на верное служение обожаемому Монарху»[81 - Там же. С. 46.].
В таком контексте основным средством противодействия спонтанно проникающим в Россию с Запада радикальным идеям провозглашалась система «суверенного Просвещения»: «Для идей нет ни стен, ни таможен: при всей бдительности, они, неудержимые и неуловимые, переносятся через моря и горы; против них один оплот – народное образование, основанное на благоговении к православной вере, преданности к православному государю и любви к православной России. Университеты и их учебные заведения этими священными чувствами глубоко проникнуты»[82 - Там же. С. 45.].
Несмотря на очевидно верноподданический характер статьи Давыдова, она вызвала серьезное недовольство императора. В октябре 1849 г. последовала отставка Уварова, а в январе 1850 г. министром народного просвещения был назначен князь-академик П.А. Ширинский-Шихматов.
Путь к интеллектуальной катастрофе
Хорошо осведомленный о настроениях при Дворе барон М. А. Корф (сам метивший в министры) приводит следующую версию нового назначения: «Мне сделалось известным обстоятельство, послужившее непосредственным поводом к назначению князя Шихматова министром. В продолжение управления своего министерством в качестве товарища (князь некоторое время был заместителем Уварова. – А.К.), он представил государю записку о необходимости преобразовать преподавание в наших университетах таким образом, чтобы впредь все положения и выводы науки были основываемы не на умствованиях, а на религиозных истинах (курсив мой. – А.К.), в связи с богословием»[83 - Корф М.А. Записки. М. – Берлин: Директ-Медиа, 2019. С. 577.]. Корф продолжает: «Государю так понравилась эта мысль, что он призвал перед себя сочинителя записки, и Шихматов устным развитием своего предложения до того успел удовольствовать августейшего своего слушателя, что немедленно по его выходе государь сказал присутствовавшему при докладе цесаревичу: чего же нам искать еще министра просвещения? Вот он найден»[84 - Там же.].
По мнению раздраженного чужим назначением Корфа, «бедный князь не пользовался никаким общественным уважением, его считали за человека ограниченного, святошу, обскуранта и жалели, что именно в такую эпоху, при тогдашнем положении дел и настроении умов, к занятию поста, столь важного для будущности России, выбор пал на подобное лицо»[85 - Там же. С. 575–576.]. К тому же, столичные острословы упражнялись тогда переиначивать фамилию нового министра с Шихматова на «Шахматова» и шутили, что «с назначением его и министерству, и самому просвещению в России дан не только шах, но и мат»[86 - Там же. С. 576.].
Комментируя всю эту ситуацию, барон Корф делал глубокомысленный вывод: «Среди этих насмешек, эпиграмм и общего хохота, всегда столь опасных в самодержавном правительстве, где подданные привыкли верить и должны верить в непогрешимость монарха, выборы [министров] последнего времени, так мало удовлетворявшие ожиданиям, приводили на память людям более серьезным достопамятные слова, сказанные некогда Сперанским Александру I: “Не одним разумом, но более силою воображения действует правительство на страсти народные и владычествует ими. Доколе сила воображения поддерживает почести и места в надлежащей высоте, дотоле они сопровождаются уважением; но как скоро, по стечению обстоятельств или вследствие неудачных выборов, сила сия их оставит, так скоро и уважение исчезает”»[87 - Там же. С. 576–577. См. также: Жукова О.А. Субкультура власти и социальный порядок в России: реформаторский опыт М.М. Сперанского // Полис. Политические исследования, 2013, № 2. С. 179–188.].
Ширинскому-Шихматову ничего не оставалось, как демонстрировать решительность в искоренении «крамолы». Поводом для новых гонений на философию явилась безобидная речь профессора И. Г. Михневича: «Опыт простого изложения системы Шеллинга в связи с системами других германских философов»[88 - См.: Михневич И.Г Сочинения. Киев: НГУ им. М. Драгоманова, 2014. С. 77–109.] для торжественного собрания Ришельевского лицея в Одессе, изданная в 1850 г. отдельной брошюрой. Бдительная цензура, «на всякий случай», вставила в доклад императору вопрос общего характера: «Может ли быть полезен и благодетелен для умственного и нравственного образования юношества преподавать ему философию?…»[89 - Цензура в царствование Николая I // Русская старина, 1903, № 9 (сентябрь). С. 652.]
Николай I поспешил отреагировать и так оценил речь одесского философа о Шеллинге: «Весьма справедливо; одна модная чепуха. Министерству народного просвещения мне донести, отчего подобный вздор преподается в лицее, когда и в университетах мы его уничтожаем»[90 - Там же.].
По приказанию царя до его сведения было доведено имя сочинителя речи: Иосиф Михневич. На докладной записке статс-секретаря барона Корфа последовала Высочайшая резолюция: «Тем более должно обратить на него внимание, что он по-видимому, поляк»[91 - Там же.]. Уточнение министерства, что профессор И. Г. Михневич – великорусский человек и даже сын православного священника, не слишком успокоили императора.
Слухи о новом наступлении на философию быстро распространились в обществе. В марте 1850 г. А.В. Никитенко записал в дневнике: «Опять гонения на философию. Предположено преподавание в университете ограничить логикой и психологией, поручив и то и другое духовным лицам… Говорят, Блудов настаивает, чтоб в программу была включена и история философии. Министр [Ширинский-Шихматов] не соглашается»[92 - Никитенко А.В. Дневник в 3 томах. Т. 1. С. 334.]. «У меня был Фишер, – продолжает Никитенко (профессор философии СПб университета, академик. – А.К.)… и передавал свой разговор с министром. Последний главным образом опирался на то, что “польза философии не доказана, а вред от нее возможен” (курсив мой. – А.К.)».[93 - Там же.]
Именно с таким умонастроением правящего класса, соединяющего в себе тотальную подозрительность к свободному гуманитарному творчеству – с полным самодовольством и чувством исключительности, Россия вползла в состояние европейской самоизоляции. Впереди были Крымская катастрофа, трагическая смерть императора Николая Павловича и… «Великие реформы» 1860-х гг.
Литература
Валуев П.А. Дневник графа Петра Алексеевича Валуева 1847–1860 // Русская старина, 1891, т. 70, № 4 (апрель). С. 167–181.
Воспоминания Д.Н. Родионова // Русская старина, 1898, август, кн. 8. С. 389–390.
Давыдов И.И. О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании // Современник, 1849, т. 14. С. 37–46.
Жукова О. А. Субкультура власти и социальный порядок в России: реформаторский опыт М.М. Сперанского // Полис. Политические исследования, 2013, № 2. С. 179–188.
Жуковская Т.Н. «Дело профессоров» 1821 г. в Санкт-Петербургском университете: новые интерпретации // Ученые записки Казанского университета. Сер.: гуманитарные науки, 2019, т. 161, кн. 2–3. С. 96–111.
Кара-Мурза А.А. Загадка «Тартюфа». Неизвестные страницы европейского путешествия Н.М. Карамзина (1789–1790) // Николай Карамзин и исторические судьбы России. К 250-летию со дня рождения (общ. ред. и сост. А.А. Кара-Мурзы, В.Л. Шаровой, А.Ф. Яковлевой). М.: Аквилон, 2016. С. 361–375.
Кара-Мурза А.А. Улыбышев и Пушкин о «дурном синтезе цивилизаций» («Азиопа» в свете «Зеленой лампы», 1819–1820) // Полилог, 2020, т. 4, № 4 [Электронный ресурс].
Кара-Мурза А.А. Философские дилеммы «Писем русского путешественника Н.М. Карамзина // Философские науки, 2016, № 11. С. 59–68.
Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: изд-во ИФРАН, 1995.—212 с.
Корф М.А. Записки. М. – Берлин: Директ-Медиа, 2019.– 813 с.
Крестова Л.В. А.И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина // XVIII век. Сб. 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи. Л.: Наука, 1975. С. 265–270.
Куницын А.П. Право естественное. СПб.: Тип. Иос. Иоаннесова, 1818.– 135 с.
Лодий П.Д. Логические наставления, руководствующие к познанию и различению истинного от ложного». СПб.: Тип. Иос. Иоаннесова, 1815.– 303 с.
Михневич И.Г. Сочинения. Киев: НГУ им. М. Драгоманова, 2014.– 336 с.
Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. Т. 1. 1826–1857. Л.: Художественная литература, 1955.– 543 с.
Розен А.Е. Записки декабриста. Иркутск: Восточно-Сибирское изд-во, 1984.– 480 с.
Ростопчин Ф. Мысли вслух на Красном крыльце (сост., предисл., пер. с франц. А.О. Мещеряковой). М.: Институт русской цивилизации, 2014.– 704 с.
Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М.: Изд-во Московского ун-та, 1983.– 440 с.
Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. Пг.: Прометей, 1915.– 174 с.
Улыбышев А.Д. Письмо другу в Германию о петербургских обществах // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951, т. 1. С. 279–285.
Феоктистов Е.М. Магницкий. Материалы для истории просвещения в России. СПб.: Тип. Кесневиля, 1865.– 227 с.
Цензура в царствование Николая I // Русская старина, 1903, № 9 (сентябрь). С. 641–666.
Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. Т. 2. Материалы. Реконструкция Татьяны Щедриной. М.: Российские пропилеи, 2009.– 864 с.
Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст
Учитывая общую тему нашего семинара «Философия в публичном пространстве», был велик соблазн назвать доклад «Как философии превращаются в идеологии?» Я, однако, не пошел по этому пути, посчитав, что понятие «философия» (предполагающее высокую степень системности) в данном контексте будет избыточной генерализацией и не даст раскрыть суть процесса.
В свое время на меня большое впечатление произвела созданная в эмиграции концепция культуры нашего соотечественника Владимира Васильевича Вейдле, в основе которой лежит противопоставление им «мировоззрения», которое всегда вырабатывается творческим личностным усилием, – и «идеологии», всегда тяготеющей к массовидности и партийному упрощению.
Приведу цитату из работы Вейдле «Только в Россию можно верить», написанную в 1974 году. «Мировоззрение, – пишет Вейдле, – нестрогое единство, мыслительная протоплазма личности… Идеология – система идей, более или менее умело, но всегда нарочито и для известной цели спаянных друг с другом; система мыслей, которых никто более не мыслит. Их принимают к сведению и тем самым к руководству; мыслить их, это значило бы подвергнуть их опасности изменения. К личности идеология никакого внутреннего отношения не имеет, она даже и навязывается ей не как личности, а как составной части коллектива или массы, как одной из песчинок, образующих кучу песка»[94 - Вейдле В. Только в Россию можно верить // Вестник РСХД, 1974, № 114. С. 247.].
Мне кажется, что выражение «мыслительная протоплазма личности» – это, хотя и метафора, но в данном случае оно лучше, чем понятие «философия» (которая, конечно, «более строгое единство») отражает тот объект, который затем подвергается идеологизации. Я предпочел в первом приближении максимально нейтральное слово «идеи» – идеи, как некие «кванты» любого мыслительного процесса. Думаю, примерно с тем же успехом можно было взять просто слово «мысли», а вместо идеологий подставить, к примеру, слово «доктрины». Тема тогда звучала бы так: «Как мысли превращаются в доктрины?» – суть проблемы от этого не меняется.
Главное, что меня интересует, – это соотношение этих двух смыслов, мутация первого во второе: идей – в идеологии; или: мыслей – в доктрины. Поэтому, вслед за Вейдле, ограничусь пока таким осторожным определением: идеи промысливаются – идеологии постулируются. В любом случае, заявляя свою тему, я отдаю себе отчет в том, что вхожу в одну из самых сложных и дискуссионных тем философского знания. Здесь крайне важны исследовательские самоограничения и предельная неторопливость, ибо чрезмерные амбиции чреваты запредельным риском. Не раз в истории мысли бывало так, что попытка азартного «разминирования» проблематики «мутации идей в идеологии» вела, напротив, к быстрому «самоподрыву». Есть такая хорошая русская поговорка: «Пошел за шерстью, а вернулся стриженым…»
Яркий пример тому – хорошо известная «Немецкая идеология» Маркса и Энгельса. Попытка двух авторов развенчать идеологические амбиции Бруно Бауэра или Макса Штирнера и создать чисто научное, практическое знание, привела к тому, что работа Маркса и Энгельса сама стала в еще большей степени идеологическим текстом, чем достаточно скромные опыты Бауэра или Штирнера. Ну а потомки, как известно, довершили дело: найденная и опубликованная только в 1930-е гг. рукопись «Немецкой идеологии», во многом черновая и неоконченная, о которой сами авторы скромно писали: «Наша цель была – уяснить дело самим себе», превратилась из кабинетного аналитического опыта (местами остроумного и полезного) в одну из главных идеологических дубин «всепобеждающего учения».
Собственно, на интуитивном уровне мы все хорошо понимаем, что значит «превращение идей в идеологии». Россия весь XX век пребывала в этих «переплавках». Мы знаем, как мутировала в России левая коммунистическая идея: сначала идеологически «надулась», а потом лопнула. Нечто подобное, может быть, менее трагическое, но зато куда более фарсовое, случилось на наших глазах с либеральной идеей. И я сегодня намерен показать, что и тот, и другой процессы, при всей разнице идейной начинки, произошли примерно по одному и тому же сценарию.
Впрочем, сейчас стало модным приводить эту аналогию и ей ограничиваться – аналогию между процессами деградации в России коммунистической идеи и идеи либеральной. И на то, и на другое зачастую печально сетуют примерно одни и те же западнически настроенные головы: мол, взяли на Западе хорошую идею, но «русская почва», как обычно, всё опошлила… Я, однако, не готов сегодня останавливаться в этом месте – это станция заведомо промежуточная. Хочу напомнить, что в русском контексте хронологически первой была проведена философская работа по анализу вырождения не какой-либо западнической, а самой что ни на есть самобытнической идеи – а именно идеи славянофильской, и сделано это было еще в конце позапрошлого века.
Есть замечательная статья В. С. Соловьева «Славянофильство и его вырождение», впервые опубликованная в «Вестнике Европы» М.М. Стасюлевича в 1889 году, первоначально в составе работы «Очерки по истории русского сознания», а затем вошедшая во второй выпуск сборника «Национальный вопрос в России». Я впервые внимательно прочел эту работу в двухтомнике Соловьева, выпущенного во всем нам известном многотомном приложении к журналу «Вопросы философии» в 1989 г., и уже тогда обратил внимание (остались конспекты) на прекрасные комментарии к этой статье очень уважаемых мною авторов – Николая Всеволодовича Котрелева и Евгения Борисовича Рашковского, которые оценили «своеобразие» самого соловьевского метода (их слова) «исторической морфологии национализма», когда Соловьев прослеживает деградацию националистического сознания от форм возвышенного идеализма – и «до низменной ксенофобии».
Котрелев и Рашковский отметили: «Превознесение эмпирического и бессознательного, ставка на стереотипы обыденного массового мышления, отрицание идеальных ценностей и векторов культуры – всё это, по убеждению Вл. Соловьева, ведет не только к идейной апологии, но и прямой практике насилия и палачества». Поэтому, по их мнению, работа Соловьева «имеет прямое отношение не только к истории национализма в России, но и к истории европейских тоталитаристских движений XIX–XX веков»[95 - Соловьев В.С. Славянофильство и его вырождение // Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1989. С. 677.].
Когда я думал над сегодняшним докладом и заново перечитал весь этот соловьевский контекст, я понял, что эти слова, написанные в 1989 году, не были преувеличением времен «горбачевской перестройки». Беда как раз в другом: мы в свое время недооценили и до сих пор недооцениваем значение этого виртуозного анализа процесса «вырождения славянофильства» Владимиром Соловьевым.
Постараюсь предельно кратко воспроизвести соловьевскую логику. Он исходит из того, что история славянофильства есть «постепенное обличение той внутренней двойственности непримиренных и непримиримых мотивов, которая с самого начала легла в основу этого искусственного движения»[96 - Там же. С. 433.].
Это очень важный момент: по Соловьеву, вырождение – это не искажение до неузнаваемости, а, напротив, упрощение за счет полного оголения ядра идеи. Ранние славянофилы, констатирует Соловьев, боролись одновременно с двумя вещами. Во-первых, «против западноевропейских начал» (включая Петровскую реформу) – «во имя древней, московской Руси». А во-вторых, «столь же существенный интерес имела для них прогрессивно-либеральная борьба против действительных зол современной им России»[97 - Там же. С. 434.].
Именно этому «русскому злу», а именно «злу всеобщего бесправия» славянофилы, согласно Соловьеву, «противопоставляли принцип человеческих прав, безусловного нравственного значения самостоятельной личности – принцип христианский и общечеловеческий по существу, а по историческому развитию преимущественно западный европейский и ни с какими особенными “русскими началами” не связанный». Получается, по Соловьеву, что ранние славянофилы (он использует в их отношении термин «археологические либералы») «могли бороться против нашей общественной неправды единственно только в качестве европейцев, ибо только в общей сокровищнице европейских идей могли они найти мотивы и оправдание для этой борьбы»[98 - Там же.].
Соловьев отмечает: «Внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше, – это противоречие погубило славянофильство как учение»[99 - Там же.].
Итак, налицо первое противоречие славянофильства: между гражданско-правовым универсализмом, с одной стороны, и апологией «русской исключительности», с другой. То же противоречие Соловьев констатирует в области национально-религиозных представлений славянофилов и приходит к очень жесткому выводу: «Я нисколько не сомневаюсь в искренней личной религиозности того или другого поборника “русских начал”; для меня ясно только, что в системе славянофильских воззрений нет законного места для религии как таковой и что если она туда попала, то лишь по недоразумению и, так сказать, с чужим паспортом»[100 - Там же. С. 436–437.]. Поэтому здесь «приходится говорить не о православии, а о православничаньи», ибо «та доктрина, которая сама себя определила как русское направление и выступила во имя русских начал, тем самым признала, что для нее всего важнее, дороже и существеннее национальный элемент, а все остальное, между прочим и религия, может иметь только подчиненный и условный интерес. Для славянофильства православие есть атрибут русской народности; оно есть истинная религия, в конце концов, лишь потому, что его исповедует русский народ»[101 - Там же. С. 437.].
Отсюда и известная оценка Соловьевым творчества Алексея Хомякова: «Проповедь Хомякова роковым образом была осуждена на бесплодие, потому что при первой попытке дать ей дальнейшее развитие непременно должно бы было обнаружиться в ней противоречие между широкою всеобъемлющею формулою церкви и узким местным традиционализмом, – между вселенским идеалом христианства и языческою тенденцией к особнячеству»[102 - Там же. С. 443.].
Двойственной, согласно Соловьеву, была и социальная концепция ранних славянофилов. Соловьев подробно разбирает здесь «Записку о внутреннем состоянии России» Константина Аксакова, представленную императору Александру II. Там Аксаков, как известно, писал: «Русский народ есть народ негосударственный, то есть не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия. Русский народ, не имеющий в себе политического элемента, отделил государство от себя и государствовать не хочет. Не желая государствовать, народ предоставляет правительству неограниченную власть государственную. Взамен того русский народ предоставляет себе нравственную свободу, свободу жизни и духа»[103 - Там же. С. 451.].
Именно этой «Запиской» Константина Аксакова, по словам Соловьева, «завершается развитие славянофильской мысли и начинается проверка этой мысли на деле». А «на деле» получилось следующее: «Вместо объективно достоверных общечеловеческих начал правды славянофилы в основание своей доктрины поставили предполагаемый идеал русского народа» и явно недооценили перспективы того, что «плевелы, посеянные ими же вместе с добрым зерном, гораздо сильнее этого последнего на русской почве и грозят совсем заполонить все поле нашего общественного сознания и жизни»[104 - Там же. С. 465.].
В результате всех этих противоречий славянофильство, согласно Соловьеву, в своем развитии было как бы приуготовлено к «вырождению». Ведь если социальную концепцию славянофилов («государству власть – народу мнение») перевести на язык практики, то получается печальный парадокс: «…Против этой огромной реальной мощи (государства), вполне и безусловно признавая ее права, узаконяя их навеки, выступает кружок литераторов с неким идеальным противовесом в виде заявления о свободе духа и прошения о свободе мнения»[105 - Там же. С. 466.].