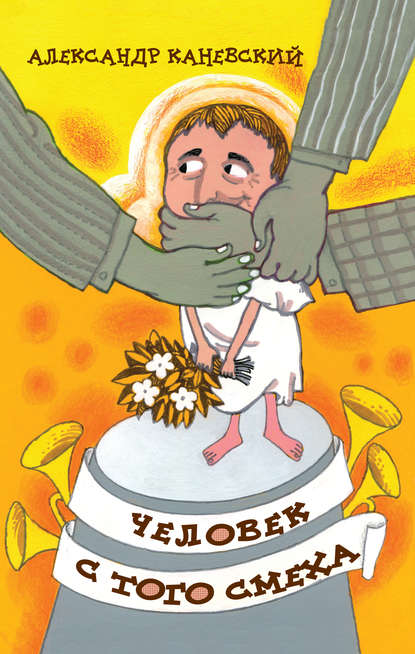скачать книгу бесплатно
– Фаиночка, почему ты живёшь в мастерской а не на вилле?
Находчивая Фаина Георгиевна объяснила:
– Моя вилла ремонтируется.
Но парижскую гостью это не успокоило.
– Почему мастерская такая маленькая? Сколько в ней «жилых» метров?
– Целых двадцать семь, – гордо сообщила Раневская.
– Но это же тесно! – запричитала Изабелла. – Это же нищета!
– Это не нищета! –разозлилась Раневская, – У нас это считается хорошо. Этот дом – элитный. В нём живут самые известные люди: артисты, режиссёры, писатели. Здесь живет сама Уланова!
Фамилия Уланова подействовала: вздохнув, Изабелла стала распаковывать свои чемоданы в предоставленной ей комнатушке. Но она так и не смогла понять, почему этот дом называется элитным: внизу кинотеатр и хлебный магазин, ранним утром грузчики выгружали товар, перекрикивались, шумели, устраивали всем жильцам «побудку». А вечерами, в десять, в одиннадцать, в двенадцать оканчивались сеансы и толпы зрителей вываливались из кинозала, громко обсуждая просмотренный фильм.
– Я живу над «хлебом и зрелищами», – пыталась отшучиваться Фаина Георгиевна, но на сестру это не действовало.
– За что тебя приговорили жить в такой камере?.. Ты, наверное, в чём-то провинилась.
В первый же день приезда, не смотря на летнюю жару, Изабелла натянула узорчатые чулки, надела шёлковое пальто, перчатки, шляпку, побрызгала себя «Шанелью», и сообщила сестре:
– Фаиночка, – я иду в мясную лавку, куплю бон-филе и приготовлю ужин.
– Не надо! – в ужасе воскликнула Раневская. В стране царили процветающий дефицит и вечные очереди – она понимала, как это подействует на неподготовленную жительницу Парижа. – Не надо, я сама куплю.
– Фаиночка, бон-филе надо уметь выбирать, а я это умею, – с гордостью заявила Изабелла и направилась к входной двери. Раневская, как панфиловец на танк, бросилась ей наперерез.
– Я пойду с тобой!
– Один фунт мяса выбирать вдвоём – это нонсенс! – заявила сестра и вышла из квартиры.
Раневская сделала последнюю попытку спасти сестру от шока советской действительности.
– Но ты же не знаешь, где наши магазины!
Та обернулась и со снисходительной улыбкой упрекнула:
– Ты думаешь, я не смогу найти мясную лавку. И скрылась в лифте.
Раневская рухнула в кресло, представляя себе последствия первой встречи иностранки-сестры с развитым советским социализмом.
Но говорят же, что Бог помогает юродивым и блаженным: буквально через квартал Изабелла Георгиевна наткнулась на маленький магазинчик, вывеска над которым обещала «Мясные изделия». Она заглянула во внутрь: у прилавка толпилась и гудела очередь, потный мясник бросал на весы отрубленные им хрящи и жилы, именуя их мясом, а в кассовом окошке, толстая кассирша с башней крашенных волос на голове, как собака из будки, периодически облаивала покупателей.
Бочком, бочком Изабелла пробралась к прилавку и обратилась к продавцу:
– Добрый день, месье! Как вы себя чувствуете?
Покупатели поняли, что это цирк, причём, бесплатный, и, как в стоп-кадре, все замерли и затихли. Даже потный мясник не донёс до весов очередную порцию «мясных изделий». А бывшая парижанка продолжала:
– … Как вы спите, месье?.. Если вас мучает бессонница, попробуйте перед сном принять две столовых ложки коньячка, желательно «Хенесси»… А как ваши дети, месье? Вы их не наказываете?.. Нельзя наказывать детей – можно потерять духовную связь с ними. Вы со мной согласны, месье?
– Да, – наконец, выдавил из себя оторопевший мясник и в подтверждение кивнул.
– Я и не сомневалась. Вы похожи на моего учителя словесности: у вас на лице проступает интеллект.
Не очень понимая, что именно проступает у него на лице, мясник, на всякий случай, смахнул с лица пот.
– Месье, – перешла к делу Изабелла Георгиевна, – мне нужно полтора фунта бон-филе. Надеюсь, у вас есть?
– Да, – кивнул месье мясник и нырнул в кладовку. Его долго не было, очевидно, он ловил телёнка, поймал его, зарезал и приготовлял бон-филе. Вернулся уже со взвешенной и завёрнутой в бумагу порцией мяса.
– Спасибо, – поблагодарила Изабелла. И добавила: – Я буду приходить к вам по вторникам и пятницам, в четыре часа дня. Вас это устраивает?
– Да, – в третий раз кивнул мясник.
Расплачиваясь в кассе, Изабелла Георгиевна порадовала толстую кассиршу, указав на её обесцвеченные перекисью волосы, закрученные на голове в тяжёлую башню:
– У вас очень модный цвет волос, мадам, в Париже все женщины тоже красятся в блондинок. Но, позвольте посоветовать: вам лучше распустить волосы, чтоб кудри лежали на плечах: распущенные волосы, мадам, украсят ваше приветливое лицо.
Раздался треск рвущихся щёк – это кассирша попыталась улыбнуться.
Когда, вернувшись домой, Изабелла развернула пакет, Фаина Георгиевна ахнула: такого свежайшего мяса она давно не видела, очевидно, мясник отрезал его из своих личных запасов.
– Бон-филе надо уметь выбирать! – гордо заявила Изабелла.
С тех пор каждый вторник и каждую пятницу она посещала «Мясные изделия». В эти дни, ровно в четыре часа, мясник отпускал кассиршу, закрывал магазин, вешал на дверь табличку «Переучёт», ставил рядом с прилавком большое старинное кресло, купленное в антикварном магазине, усаживал в него свою дорогую гостью, и она часами рассказывала ему о парижской жизни, о Лувре, о Эйфелевой башне, о Елисейских полях… А он, подперев голову ладонью, всё слушал её, слушал, слушал… И на лице его вдруг появлялась неожиданная, наивная, детская улыбка…
– Я не знаю, – заключил свою историю Яков Сегель, – поняла ли Изабелла Георгиевна в каком спектакле она участвовала, но свою роль она исполняла искренне и достоверно…
Добавлю от себя: но не долго – очень скоро сестра тяжело заболела, умерла, и Фаина Георгия опять осталась одна. Но теперь, после ощущения радости от присутствия рядом близкого, родного человека, она особенно остро почувствовала своё одиночество. Когда её заваливали букетами цветов и признавались в любви, она грустно произносила: «Все любят, а в аптеку сходить некому».
Одиночество убивало настроение и съедало здоровье. Навалившаяся старость душила её в своих объятиях. Одно из её крылатых высказываний: «Старость – это свинство. Это невежество Бога, когда он позволяет доживать до старости.» На вопрос «Как вы себя чувствуете?» отвечала: «Симулирую здоровье» или: «Я себя чувствую, но плохо».
И завершу я эту историю одним из последних её афоризмов. Точнее, это не афоризм – это крик души:
«Будь проклят этот талант, который сделал меня одинокой!»
Её одиночество окончилось на Новом Донском кладбище, где, по её завещанию, она похоронена рядом с сестрой – теперь они навсегда вместе.
СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Мы даже не похожи. Я – смуглый, кудрявый, черноволосый, у меня нос с горбинкой, а он – бледнолицый, курносый, белобрысый, волосы торчат, как веник.
– Отойди, – кричит, – от тебя чесноком пахнет!
А как я отойду? Только вместе с ним, этим хамом и лгуном: я ведь чеснок просто так не ем, только в котлетах, которые он же у меня и отбирает. А уж насчёт «пахнет», то это я должен волком выть: от него так перегаром несёт, что комары к нему только в противогазах подлетают. Все свои деньги я трачу на духи и дезодоранты, до тех пор обливаюсь, пока он их у меня не выхватит и не выпьет. Он же алкаш, ханыга, с утра уже пьян. А я спиртное даже видеть не могу, у меня печень слабая. Он напивается, а меня тошнит.
Вмешивается во все мои дела и в разговоры – он же всё слышит, всё при нём происходит. Даже по телефону не посекретничаешь – его ухо рядом. Я бы его отлупил, но боюсь: мы в детстве часто дрались, и он всегда побеждал: его рука – правая. И вообще, он более спортивен, чем я. Гирю выжимает, гантели. Когда делает приседания, я сопротивляюсь, хочется книжку дочитать. А он ухмыляется: «Спасибо за дополнительную нагрузку», навалится всей массой и к земле прижимает. Зато, когда на турнике подтягивается, я злорадствую: ему приходится и меня тащить.
И вера у нас тоже разная. Но вера – это условность: ни он, ни я в храмы не ходим, нас не приучили. Он меня в церковь не зовёт, а его в синагогу трактором не затащишь. Он о своей вере вспоминает только для того, чтобы меня нехристем обозвать. Хотя, когда его крестили, и меня в купель плюхнули, так что неизвестно, кто из нас больший нехристь. А обрезание, из нас двоих, сделали ему. Да, да! Это мой Бог его наказал: в юности у него пипка воспалилась, писать не мог, вот его и обкорнали. Он с тех пор в баню не ходит, свой обрез от всех прячет, если б мог, он бы его в футляре носил. И за это меня ещё больше ненавидит.
Его послушать, если б не я, он бы уже бегал быстрее всех, прыгал, рекорды ставил. Я, видите ли, вишу на нём тяжким грузом и мешаю его совершенствованию. Я кричу:
– Ты без меня никогда бы в Университет экзамены не сдал!
– А тебя, – отвечает, – без меня туда бы никогда не приняли!
– Это почему?
– По профилю! – и хохочет издевательски. – Ты вообще должен быть счастлив, что я тебя рядом терплю… Прекрати скрипеть!
Это он орёт, когда я на скрипке играю. И чтобы заглушить, включает свою любимую песню:
…Без меня тебе, любимый мой
Лететь с одним крылом…
Он знает, что я о такой пошлости умереть могу, и назло крутит её с утра до вечера.
Думаете, мы всегда враждовали?.. Нет, раньше ничего подобного не было. Когда дом строили, помогали друг другу – как же построишь, если врозь?.. И когда от грабителя отбивались, тоже дружно… Я где-то читал, что трудности сплачивают, а что, мол, у нас сейчас всё хорошо, поэтому грызёмся. Но, если всё, что сейчас происходит, это хорошо, то мне страшно подумать, что будет, когда станет плохо!.. И где это хорошо?..Дом наш из-за вражды нашей заброшен и неухожен, крыша течёт, штукатурка отваливается, полы прогнили. Крысы, моль, тараканы… Но ему это не мешает. Ему я мешаю, я во всём виноват. И за то, что дом рушится, что крысы паркет грызут… В холодильнике пусто – я сожрал. В доме кто-то кашлянул – я заразил. Картина с гвоздя сорвалась – я сбросил… Вместо того, чтобы вместе дом спасать, он со мной с чёты сводит.
– Я тебе завтра все зубы выбью!
Это он каждый день угрожает. И хотя завтра забывает о своей угрозе, но я-то всю ночь не сплю, нервничаю. На следующий день снова, из-за какой-нибудь ерунды:
– Я тебе завтра башку сверну!
И так всю жизнь, в постоянном страхе: свернёт или не свернёт?..
Если на то пошло, то это он ко мне, как пиявка, присосался. Я в университете лучшим студентом был, меня на всех собраниях в президиум выбирали, а он, прилипала, рядом сидел… Меня путёвкой в Сочи наградили – пришлось и ему давать, чтоб он мог съездить. Я – мастер спорта по шахматам, во всех международных соревнованиях участвую – и его посылают, тренером оформили. У меня над доской лоб трещит, а он сидит рядом, делает умное лицо, а потом цветы принимает, репортёрам позирует. И его все поздравляют с моей победой, как великого тренера-наставника. А он из всей шахматной терминологии только одно слово знает: «мат-перемат»… А с девушками как встречаться? Я назначаю свидание, и он со мной прётся. Я шепчу нежные слова, а он орёт: «Звук! Не слышно!»… Я её своей левой к себе прижимаю, а он, своей правой, её по бёдрам поглаживает.. И когда мы расписывались, он рядом, третьим стоял. И в первую брачную ночь с нами остался. Я его молю:
– Закрой глаза, спи.
– Не могу спать, – ухмыляется, – когда рядом наша жена лежит.
И глаза нараспашку до утра. Жена меня целует и шепчет:
– Иди ко мне.
А как идти? Вместе с ним?.. Лежу и губы кусаю, чтоб не заплакать. И так – все ночи, целый год, у нас потому и ребёнка не было. А потом жена от меня ушла. К нему. Когда я уснул, взяла и перелезла, слева направо. А ему-то не стыдно – лежу и всю ночь шею в сторону выворачиваю, глаза зажмуриваю, чтоб не видеть, что он с ней вытворяет.
– Как ты могла? – спрашиваю.
– Я устала, – отвечает. – Надоело жить и всего бояться. Мне опора нужна, дом и его хозяин.
– Но это наш, общий дом, мы его вместе строили.
– Всё равно ты здесь квартирант. Настанет день, и тебя отсюда выгонят.
– Это невозможно, мы так срослись.
– С кровью оторвут и пинком под зад. А ты даже не станешь протестовать – в тебе гордость потеряна, раз соглашаешься так жить.
Очень меня эти её слова до сердца достали. Не смог я больше терпеть, решил ему отомстить. Яд у меня был, стрихнин. Когда у нас крыс травили, я пакетик этого порошка спрятал, Тогда ещё сам не знал зачем, но, видно, подсознание подсказало. За столом мы сидим, понятно, рядом. Когда он отвернулся, я ему весь пакетик в суп вытряхнул. Съел он его. Побледнел, на лбу пот выступил. А потом согнулся пополам и как взвоет. А у меня, поверьте, ни жалости, ни раскаянья – так я его возненавидел. Смотрю и тихо радуюсь: наконец, избавился. А потом чувствую, и у меня на лбу пот выступает. Потом внутри будто гвозди забивать стали, с хватился я за живот и тоже взвыл: кровообращение-то у нас общее, постепенно отрава и до меня дошла. Отвезли нас обоих в больницу, обоим промывание сделали, капельницы поставили, мне в левую руку, ему в правую – еле нас откачали.
Понял он, что это я нас чуть не уконтрапупил, и говорит:
– Так дальше жить нельзя. Если не разделимся, ночью одновременно друг друга передушим.
А чтобы разделиться, нужно было операцию тяжёлую перенести, очень опасную. Нам её когда-то один хирург предлагал, но предупредил, что шансов остаться в живых один из десяти. Мы тогда в один голос отказались, боялись риска, думали и так проживём. Но теперь поняли, что больше не выдержим, лучше смерть, чем такое существование.
… Везут нас на каталке, последний раз вместе. Он мне говорит:
– Хоть бы они нас не зарезали – так охота пожить без твоей гнусной рожи рядом!
– А я согласен даже умереть, – отвечаю, – только бы от тебя освободиться.
– Если на том свете ко мне подойдёшь – убью!
Привезли нас в операционную, положили на стол, дали наркоз и стали кромсать наши тела и внутренности. Полдня длилась операция. За столько лет мы крепко срослись, всё – и нервы, и сосуды, и капилляры разделить надо было. Крови много вытекло, и из одного, и из второго. Несколько раз клиническая смерть наступала. Но, видно, его Бог или мой, а может, оба наших Бога постарались – вытерпели мы всё и живыми остались. Развезли нас по разным палатам и стали выхаживать.
Открыл я через сутки глаза и сразу ослепило: «Свободен!». От такого счастья снова сознание потерял. А он от радости чуть с ума не сошёл: схватил с тумбочки настойку крушины, прошептал «Да здравствует свобода!» и весь пузырёк выпил – из-под него потом неделю судно не вынимали.
А мне никаких настоек не требовалось, я от свободы опьянел: хочу – лежу, хочу – хожу, хочу – читаю – ни от кого не завишу!.. Как же я, червяк придавленный, мог столько лет пресмыкаться и терпеть эту невыносимую жизнь?!. Окрепну, выпишусь из больницы и уеду далеко-далеко, чтобы забыть прошлые муки и унижения.
Решил я так, и на душе потеплело. А потом вдруг холодная тревога заползла: легко сказать «уеду», а куда? Здесь всё хоть и невыносимо, но привычно. А там – чужие края, чужие нравы. И почему невыносимо? Крышу над головой имел? Имел. И сыт был, и одет, и обут. А там всё начинать с начала надо, с самого нуля. И не резвым мальчуганом-заводилой, а уже поседевшим неудачником, утомлённым нелёгкой жизнью… От этих мыслей я так расстроился, что швы разошлись, температура подскочила – продержали меня в больнице лишнюю неделю.
Но вот настал долгожданный день: выписали меня, проводили до ворот и пожелали успеха. Вышел я на улицу а там машины, троллейбусы, трамваи – гудом гудят. И людей – тысячи, бегут, спешат, толкаются. А среди них и злые, и агрессивные. И вдруг так мне страшно стало, что ноги подкосились, идти не мог, к стене прислонился: я ведь теперь один, навсегда. А мне одиночество непривычно. Когда он со мной рядом шёл, я себя чувствовал уверенно. С ним не страшно было, он сильный. Его все боялись. Да и вообще: двое – это не один. Вдвоём с любым сладишь. Когда тот грабитель пытался к нам в дом залезть, мы ему так надавали, он справа, а я слева – незваный гость еле ноги унёс…
И вдруг поймал я себя на странной мысли: и он ведь сейчас один, и ему жутковато: остаётся в развалившемся доме, работать отвык, а придётся – меня не будет, не на кого чертей вешать. И от пол-литры надо отказываться, иначе всё на голову рухнет… И вдруг даже стало мне его жалко.
Психанул я на себя за эту слабость и, чтобы злость восстановить, стал вспоминать все его пороки. Но чтото плохо получалось: с одной стороны я его обвинял, а с другой – тут же сам защитительные доводы приводил… Да, мешал на скрипке играть. Но без него я вообще ни разу бы не сыграл: ведь когда я своей левой по смычку водил, он своей правой мне её поддерживал… Да, пьёт, много пьёт. Но ведь он не родился алкоголиком – пить стал на моих глазах, из-за жизни нашей патологической… Да, грубый, резкий, драчливый, но когда я в прорубь провалился, он же мне свои сухие ботинки отдал, а сам босиком до дома топал…
И вдруг захотелось мне его голос услышать. Так внутри заныло, что не выдержал, заскочил в телефонную будку и наш номер набрал. Он снял трубку.
– Алло!.. Алло!.. Слушаю!..
А я молчу, только сердце барабанит. И он замолчал. Молчим оба. Потом он спрашивает:
– Это ты?
– Я – отвечаю. И жду: сейчас какую-нибудь гадость ляпнет.
А он снова помолчал и вдруг:
– Как живёшь?
Я растерялся, засуетился: