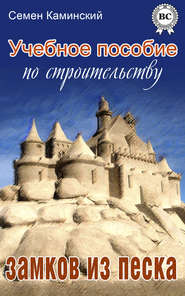скачать книгу бесплатно
Учебное пособие по строительству замков из песка (сборник)
Семён Каминский
«Учебное пособие по строительству замков из песка» – это сборник блестящих рассказов современного прозаика Семена Каминского, выдержанных в лучших традициях юмористической и при этом слегка ностальгической новеллистики, грустной и веселой одновременно.
Чего только не приходиться делать нашим людям, живущим в далекой Америке, чтобы обеспечить себе хлеб насущный. Иногда дело доходит до совсем курьезных случаев – создания учебных пособий по строительству замков из песка…
Жизнь эмигрантов на страницах этой книги делится на «до» и «после» отъезда. Однако каждая половина жизни включает в себя неоценимый опыт, незабываемые встречи и просто добрую память.
Семен Каминский
Учебное пособие по строительству замков из песка
Заноза
Хотя мне ещё не очень много лет, иногда, вспоминая какое-то событие или место, я вдруг с удивлением и некоторым смятением понимаю, что некоторых из тех, кто был со мной там, уже нет в живых… А те, кто есть, – где они? Где те, кто делил, играя «в ножичка», очерченный кругом кусочек грязной земли старого двора? Ел восхитительную, коричневую со светлыми выпуклостями орехов трубочку мороженого, купленную в «стекляшке» на углу за целых 28 копеек? Дышал рядом в невыносимо потной тесноте июльского трамвая по дороге в провинциальный Дворец культуры, куда «Поющие гитары» привезли на один вечер рок-оперу «Орфей и Эвридика»?
Я не знаю. Попытки описать что-то такое, живущее теперь только в моей голове – жене, детям, новым друзьям – совершенно бессмысленны. Им просто становится скучно. И я вполне понимаю, почему: нет у меня таких слов, чтобы описать воспоминание, имеющее некий чёткий смысл для меня, но для всех остальных – совсем незначительное. Неброское. Неяркое. Банальное…
Как передать, например, тягучий сонный летний мир морской слободки старого приморского городка, куда родители много раз привозили нас на лето? Мир, в котором остался запах высохшей морской травы, набитой в хрустящие матрасы. Вкус манной каши с большим куском сливочного масла – это мама подала нам завтрак в круглой беседке, сбитой из деревянных планочек во дворе дома, где мы остановились. Длинный огород, выходящий прямо к морю. Большущий паук с крестом на спине, в паутине, под потолком этой беседки (раньше никогда не приходилось видеть такого!). И тяжёлое солнце, долгими июльскими днями настойчиво давящее курортников к горячему мелкому пляжному песку…
А потом, уже в другой, более поздний приезд: босые, крепко загоревшие ноги и лёгонькие светлые волосы абсолютно недоступной девчонки – соседки наших хозяев. Наверно, ровесница… Совершенно немыслимо даже заговорить с ней. Даже подумать о том, чтобы заговорить с ней…
И как передашь тревожное ощущение своих четырнадцати лет?
Каждое пляжное утро отдыхающие начинали с ритуала сооружения личного шалаша. Все приходили со связкой четырёх аккуратно обструганных палок, которые вбивались в песок, и на них старательно привязывался тент из полосатых простыней. Не помню, возможно, родители послали меня к Лёшкиному шалашу одолжить на пару минут нужный камень для забивания палок? Или Лёшка подошёл посмотреть, как мы с отцом играем под нашим тентом в шахматы на старой, немного примятой картонной доске? А может, наш бадминтонный воланчик упал на их подстилку? Помню только, что, познакомившись, мы сразу и накрепко прилипли друг к другу, счастливые оттого, что здесь наконец-то нашёлся человек, с которым будет совсем не скучно делить размеренное летопровождение. Оказалось, что у нас похоже всё: возраст, любимые Стругацкие и Рей Брэдбери, преподавательские профессии родителей, небольшие квартиры в центре больших соседних промышленных городов, количество братьев и сестёр.
А улыбка у него была такая: вроде бы человек долго-долго ждал чего-то, почти не надеялся найти и вдруг нашёл… и улыбнулся.
Как здорово теперь было вместе часами болтаться в мелкой, совершенно спокойной и почти не отличимой от температуры тела морской водичке! А вечером в десятый раз смотреть в душном местном клубе «300 спартанцев» и «Парижские тайны». И секретно обсуждать ту самую соседскую девчонку, к которой никому из нас никак не подойти…
Впрочем, с девчонкой всё решилось просто. Во время нашего вечернего променада по морской слободке один из знакомых «пляжных» мальчишек вдруг подвёл её к нам со словами: «Это – Ирка, она тут хотела с вами познакомиться». Ирка оказалась приветливой простушкой, много и безостановочно тарахтела, и стало понятно, что нам с ней совсем неинтересно.
Однажды Лёшка сильно занозил на пляже ногу – видно, на какую-то щепку наступил. Он долго и тщательно вытаскивал непослушную занозу из ноги, потом сообщил, что срочно идёт домой – обработать ранку. А в ответ на мои умненькие ироничные замечания по этому поводу заявил:
– Отец Маяковского, между прочим, умер оттого, что укололся булавкой, сшивая бумаги… А был крепким человеком, лесником, ходил на медведя в одиночку… Понял?
…Потом мы уезжали домой – в наши разные города, и ещё одно детское летнее знакомство грустно подходило к концу. Мы решили, как это обычно бывает, обменяться адресами и стали записывать их друг другу на клочках какой-то бумаги. Я очень стеснялся своей фамилии, однозначно и бесповоротно открывающей мою принадлежность к «некоренной» национальности. К той самой, которой вроде бы и не существовало в нашей большой советской стране. Но делать было нечего, и я, с чувством падения в пропасть, отдал ему свою бумажку… О, счастье! Совершенно ненашенское окончание «штейн» моей злополучной фамилии вполне соответствовало его «ман»… похоже, мы были одного поля ягодки!
Мне лет пять. Я гуляю с бабушкой по улице Ленина, недалеко от старого трёхэтажного дома, где мы тогда жили. Проезжают редкие машины (и это одна из ближайших к центру улиц большого города – сейчас на этом месте просто постоянный затор). Медленно плетётся вверх по улице телега старьёвщика. Старенькая лошадь тянет, старается, периодически оставляет на дороге пахучие кучки – метит свой нелёгкий путь. Старьёвщик – лето, а он в телогрейке – придерживает на коленях вожжи и хитровато посматривает по сторонам. Во рту у него белая свистулька от воздушного шарика, время от времени она издаёт зудящий пронзительный звук.
Толстенные дубы вдоль тротуаров, незаасфальтированные круги серой земли вокруг каждого дерева. Мне всё интересно, и я подолгу разглядываю гигантские корни, уходящие в землю. Мне легко это делать не наклоняясь, потому что я маленький, земля ко мне близко.
Из-под арки дома выскакивают несколько мальчишек постарше – наши соседи по двору. Чумазые, воюют, чем-то бросаются. Баба Люба недовольно поглядывает на них.
– Почему они такие грязные? – спрашиваю я.
– Русские дети… – она поджимает губы.
Я не понимаю её ответа и, поразмыслив, через какое-то время спрашиваю:
– Это… как?
– Русские, – повторяет баба Люба. Видимо, мне всё уже должно быть ясно, но я по-прежнему не понимаю, что она хочет этим сказать.
– А мы кто?
– А мы – евреи.
Я больше ничего не спрашиваю.
Мне уже не до вопросов и не до этих мальчишек.
Я потрясён.
Осенью меня, «домашнего мальчика», почему-то решают «устроить» в детсад. Я покорно иду туда с мамой. Прихожая, одинаковые шкафчики, на дверцах которых намалёваны небольшие цветные картинки. «Этот шкафчик с арбузом – твой», – как-то чересчур радостно и настойчиво говорят мне, и уже сразу хочется домой. Это желание еще больше усиливается от ненавистного мне запаха и вкуса сладких макарон с молоком.
После трёх дней посещения этого заведения бабушка и мама застают меня дома, бегающим и прыгающим по дивану с громкой задорной присказкой, смысла которой я не понимаю, но которая нравится мне незнакомым жужжащим словцом:
Жид, жид, жид
По верёвочке бежит!
И так – раз сто.
Я слышу, как бабушка твёрдо говорит маме:
– Чтоб я про этот детский сад больше не слышала!
Моё знакомство с детским садом благополучно заканчивается. Навсегда.
Мне – двенадцать лет. Я иду записываться в районную детскую библиотеку имени М. Светлова – это недалеко от дома, только проспект перейти. Читать я люблю, дома все книжки уже перечитаны по много раз, у знакомых и друзей – тоже. В маленькой библиотеке, которая расположена в полуподвале белой кирпичной пятиэтажки, всё время очередь. Наконец немолодая библиотекарша за стойкой начинает заполнять на меня формуляр:
– Имя?
Я достаточно громко говорю ей свое имя.
– Фамилия?
Я говорю фамилию. Тише.
– Национальность?
По-моему, меня с интересом слушает вся очередь. Я невольно еще понижаю голос…
Спустя какое-то время отец высмеивает меня:
– Моя знакомая, Полина Давидовна Натансон, которая работает в детской библиотеке, рассказала мне, что ты стеснялся назвать свою национальность, когда пришёл записываться?
Много лет мы с Лёшкой регулярно писали друг другу пухлые письма. В них было всё: и жизнь, и стихи, и наши неразделённые влюблённости. Ездили друг к другу на каникулы, по очереди нетерпеливо просиживая тяжкие четыре часа в духоте общего вагона. Щенячья радость встреч, долгие-долгие ночные разговоры… о чём-то важном… бог знает о чём… запах бобинной «Дайны», разогретой от многочасового проигрывания «Beatles For Sale»:
This happened once before,
When I came to your door,
No reply…
С горем пополам мы учили в школе английский и почти не понимали, что они поют, эти удивительные парни. Только отдельные фразы… «No reply» – нет ответа… Нет ответа.
И опять лето, мы – студенты второго курса. Еле-еле я «добил» свою вторую экзаменационную сессию. В этот раз Лёшка приезжает ко мне. Я почти не сплю несколько ночей перед его приездом. За полтора часа до поезда прихожу на вокзал, до которого мне от дома – рукой подать. Слоняюсь по влажному от короткого летнего дождя перрону, подгоняю взглядом чёрные ажурные стрелки старых вокзальных часов. Наконец на вокзал неспешно вползает голубой фирменный поезд из его города.
Мы говорим, говорим не умолкая. Основная тема, по-прежнему, – «о них»: он, конечно, завидует – у меня уже есть девушка, и я, чувствуя себя солиднее и удачливее, задираю свой большой нос. А у него, такого красавчика, так ничего и не клеится: слишком много сомнений, рассуждений, слишком мало напора. Девчонки с ним дружат, гуляют – и выходят замуж за других.
В одной из своих прогулок мы оказываемся на берегу Днепра. Лёшка стоит спиной к реке, опираясь на светло-серый гранитный парапет, молчит, а я что-то оживленно рассказываю и рассказываю, стоя перед ним: продолжаю, честно говоря, здорово хвастать. Вдруг кто-то сильно толкает меня сзади, да так, что я почти падаю на Лёшку.
Это – местные «пацаны». Самого крепкого из них я припоминаю – Тарас или Стас – из того дома, где живёт моя девчонка.
– Ты! – начинает он и всё остальное добавляет «матюгами». – Чтоб я тебя… с Люськой больше у нас во дворе не видел, понял?
Я понял: их – пятеро. И сам – не герой, и втягивать Лёшку в эти разборки не хочу. Когда они уходят, я уже совсем не чувствую себя перед ним героем-любовником и замолкаю. А Лёшка, наконец, потихоньку начинает рассказывать о себе. О прочитанных книгах, о Тарковском, фильмы которого, особенно «Андрея Рублёва», он обожает, о живописи…
В двадцать лет, во время студенческого туристического похода на лодках по рекам Алтайского края, Лёшка неожиданно заболел тяжёлой почечной болезнью. Товарищи подумали, что его сильно покусали комары, и всё время шутили по этому поводу. Правда обнаружилась уже дома.
Я приезжал к нему, ходил в больницу, откуда его почти не выпускали. Было страшно видеть его тонкое лицо до неузнаваемости отёкшим, похожей оставалась только улыбка. Похожей…
Кто-то знакомый с медициной сказал мне: «Он не протянет больше трёх лет…». Я очень разозлился на говорившего – как он осмелился такое…?! Да этого просто быть не может!
Ни заботливые родители, ни хорошие врачи, ни лучшие в то время лекарства не смогли спасти Лёшку. Он провалялся в разных больницах своего города чуть больше года – диализ, диализ… опять диализ! – потом родители решились перевезти его в Москву. Он умер осенью в Склифе.
В одном из последних писем Лёшка с обычным юмором описывал свои приключения в больнице перед отъездом в Москву. Оказывается, там он умудрился познакомиться с красивой девчонкой лет восемнадцати. Её не смутила его болезнь, его вид тяжёлого почечного больного… Её звали Ирой. Она лежала в каком-то другом отделении, кажется, ей вырезали гланды, и вскоре выписали, но она продолжала каждый день навещать его.
К концу тон письма неожиданно менялся:
«Ты знаешь, это всё-таки произошло. В пустом актовом зале. Это так здорово».
Я прилетел в его город, такой знакомый город, и в этот же вечер мы – друзья и какие-то незнакомые мне люди (оказалось, что сотрудники института, где преподавал Лёшкин отец) – встречали самолёт из Москвы. Вышли родители – тихие, очень уставшие. Все стояли кучкой посреди зала, долго чего-то ждали, негромко переговариваясь. Не сразу я понял, что ждут, когда из самолёта выгрузят гроб – цинковый гроб со стеклянным окошечком на крышке. Я заглянул в окошечко – там был мороз, чужой желтоватый высокий лоб и чёрные волосы, почему-то зачёсанные назад. Мы помогли внести его в какой-то микроавтобус, а дома – поднять по лестницам в квартиру. Поставили на столе в гостиной. Вместе с родителями нас осталось всего несколько человек – самые близкие. Стали отпаивать крышку разогретым утюгом.
– Нужно переодеть… рубашку и костюм, – сказала Лёшкина мама, – помогите, пожалуйста, приподнять.
– Очень тяжёлый, – сказал отец.
Мы переодевали Лёшку – ничего страшнее в моей жизни никогда не было. Дай бог, не будет. Говорили по-прежнему тихо, междометиями.
– Какой же ты холодненький, Лёшенька! – вдруг зашлась в крике мама…
Утро похорон было дождливое. Во дворе большой сталинки собралась толпа, высокий Лёшкин папа, сгорбившись, косо держал над гробом зонтик. Я обнаружил стоящую рядом со мной симпатичную заплаканную девушку и поймал себя на том, что разглядываю сбоку её лёгонькие светлые волосы, покрасневшие веки и пухлые губки… и немного улыбаюсь… Да как же я могу?! В такой момент! Я даже незаметно посмотрел по сторонам – не увидел ли кто эту ужасную мою улыбку? Преступную улыбку? Слава богу, вроде бы никто…
Нет старых дубов на улице Ленина, вместо них уже давно посадили молоденькие клёны. И клёны эти успели вырасти. И чтобы увидеть что-то на земле, мне нужно не просто наклониться – мне нужно стать на колени на эту землю. Впрочем, это уже совсем другая земля – далеко-далеко от старого дома (его снесли в девяностых), чумазых русских мальчишек, библиотеки имени М. Светлова и сладких макарон с молоком. Жена у меня – русская, сыновья не только говорят, но и думают по-английски, и никому нет особого дела до моей фамилии и национальности – да мало ли разных фамилий и национальностей на свете?
А я… мне ещё не очень много лет, но иногда, вспоминая какое-то событие или место, я вдруг с удивлением и некоторым смятением понимаю, что некоторых из тех, кто был со мной там, уже нет в живых. Только саднит и саднит вросшая, назойливая заноза моей памяти. И уже никак эту занозу не вытащить – пока думается и помнится… Пока живой.
Два хобота
Играет лёгкая танцевальная музыка. Ну, допустим, оркестр Глена Миллера из американской кинокартины «Серенада солнечной долины». Или оркестр нашего Эдди Рознера.
Однажды летом, наверно, в воскресенье, маленького мальчика повели в зоопарк. Повели его мама и папа… Ага, раз с ними был папа – это точно было воскресенье. Начну сначала.
Однажды летним, солнечным, но не жарким воскресеньем мама и папа повели маленького мальчика в зоопарк. Мама нарядилась в чёрное шёлковое платье в крупный белый горошек, на котором красовалась стеклянная брошка в виде стрекозы, и соломенную шляпку – так тогда было модно. А папа… Впрочем, какое имеет значение, в чем был папа?
В зоопарке самым главным зрелищем считался африканский слон. Очень пожилой, но всё-таки слон. Каждый день такого у себя во дворе не увидишь. И вообще во дворе не увидишь. А в те времена даже по телевизору – редко. И телевизор был не у всех. Толпа перед загоном слона стояла большая-пребольшая, но маленьких детей с родителями пропускали вперед. День выдался, как я уже отметил, солнечный и нежаркий, по радио в зоопарке транслировали вот эту самую лёгкую музыку, мороженое и газированную воду продавали во всех киосках, так что посетители вели себя почти вежливо.
Слон, как говорится, видал виды. Кожа у него была как огромная, серая, мятая промокашка, а многие части тела от долгой жизни сильно обвисли.
Мальчик внимательно рассматривал слона, стоя перед заборчиком и держа маму за руку, а потом, подняв голову, спросил:
– Мама, а почему у слона два хобота? Один – спереди, ещё один – сзади, и оба достают почти до земли…
Мама сильно смутилась от такого громкого и совершенно конкретного вопроса, тем более что она и сама заметила некоторые анатомические особенности старого африканца. Она в замешательстве оглянулась, чтобы поручить ответ папе, но папы рядом не оказалось. А окружающие люди, услышавшие вопрос юного натуралиста, с интересом смотрели на маму и ждали, что она ответит.
– Давай поищем нашего папу, – наконец нашла что сказать мама и решительно потащила сына сквозь толпу. – Сейчас нам папа всё объяснит!..
Но найти папу сразу не удалось, и мама чуть не оторвала мальчику руку в процессе быстрого передвижения по аллейкам, посыпанным мелким хрустящим ракушечником. Папа обнаружился на белой скамейке, в некотором удалении от слона. Он сидел рядом с какой-то незнакомой тётей, и они ели пломбир. Причём тётя, видимо, была незнакомой только для мальчика, потому что папа с ней разговаривал очень оживлённо. Но, когда мама с мальчиком подошли поближе, папа не стал больше продолжать разговор, вскочил и направился к ним навстречу. А мама почему-то стала говорить с папой шипящим голосом, наверно, изображала змею, которую они перед этим видели в серпентарии. И рассказывала она ему совсем не про слона, а про какую-то грязную свинью. И так всю дорогу домой. Мальчик хотел всё-таки выяснить подробности про слона, но мама с папой были так заняты обсуждением этой свиньи, что ему и слова вставить не дали.
А потом воскресенье закончилось.
И тут мы подходим к моменту, когда я должен сделать признание. Лёгкая танцевальная музыка обрывается… Тишина.
Этим мальчиком был я.
Но теперь я очень редко думаю о том, почему у старого слона было два хобота. Тут хотя бы с одним разобраться.
Папина любовь
Много было всего: разопрелого днепровского воздуха, громких прощаний, беспокойных дымных запахов, плеска мутноватой воды под трапом, колких отблесков на лицах от больших золотых букв «Матрос Вакуленчук», полукругом расположенных по борту теплохода. Мама стояла под крышей синего домика плавучей пристани, возле белых деревянных перил, и держала Юльку на руках. Юлька выворачивалась попкой, тянулась куда-то в сторону, а мама старалась повернуть её лицом к ним – посмотри, вон папа и Коля уезжают на пароходе, ту-ту-у… ну, посмотри, что ж ты вертишься!
Они с папой на палубе – настоящие отъезжающие в далёкое и опасное путешествие (по морям, по волнам): папа – в широких светлых штанах, Колька – в шортах (многострадальные колени густо замазаны зелёнкой), папина рука лежит на Колькином плече. Немного снисходительные ко всем тем, кто остаётся на дебаркадере, и особенно к тем, кто дальше – там, на берегу, они стоят с лёгкой спокойной улыбкой…
Какое там – спокойной! У Кольки всё так и подскакивает внутри: сейчас теплоход отвалит от пристани родного города, и начнётся летнее отпускное путешествие с папой… Ну, не по морям, а по Днепру, не очень далёкое – до Херсона и назад, и не долгие годы пройдут до их триумфального возвращения, а три дня… но об этом совершенно незачем думать! Тем более что в это путешествие решено отправиться исключительно мужской компанией – Юлька ещё маленькая и недавно переболела воспалением лёгких, а значит, женщины, как положено, остаются на берегу…
Вот они уже и остаются! Гудок, ещё гудок… Кто-то, добавляя шума, неразборчиво кричит откуда-то сверху (капитан теплохода, в рупор?), толстый грязноватый канат с облегчением освобождён от потёртой железной катушки, и – поплыли… Отступили назад перила дебаркадера, мамины махи свободной рукой, название города над её головой, машины на набережной, толстый элеватор и причудливые пируэты портовых кранов… Плывём!
Потом началось неторопливое удовольствие обустройства в двухместной каюте. Разложили вещи, спрятали в утробу одной из коек клетчатый матерчатый чемодан на молнии. Долго щёлкали разными кнопками от ламп, открывали и закрывали окно, выходящее на палубу первого класса. Так же, не спеша, отправились в ресторан, в конец длинного коридора, и их неясные отражения шли вместе с ними в тёмном полированном дереве многочисленных дверей. Колька на ходу рассматривал какие-то странные картинки, эмблемы и усердно читал инструкции в аккуратных рамках. Папа что-то спросил у официанта, выбрали столик, а затем, прямо из ресторана, вышли на открытую площадку кормы и постояли на тугом ветру, у флага – не могли оторвать взгляда от спешащей за теплоходом бесконечной струи… пока не появилась компания молодых людей с гитарой, которые, едва расположившись на шезлонгах, грянули нестройно, но рьяно:
У крокодила морда плоская,
У крокодила морда плоская,
У крокодила морда плоская,
Он не умеет целовать.
Его по морде били чайником,
Его по морде били чайником,
Его по морде били чайником,
Чтоб научился целовать.
После ужина они сразу же облазили весь теплоход: спускались на нижние палубы, заглядывали в громкое, суетливое машинное отделение и в молчаливый парадный носовой салон, пустой, с зачехлёнными сероватой тканью диванами и роялем. А в сумерки даже постояли перед крутой лестницей на капитанский мостик, где из окон рубки падал на их поднятые вверх лица таинственный свет.