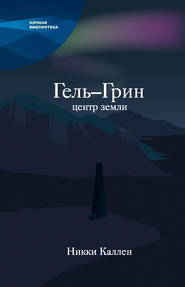скачать книгу бесплатно
Гель-Грин, центр земли (сборник)
Никки Каллен
Гель-Грин – это тысячи километров от дома; это место, полное открытий и запахов; «Гель-Грин… – будто это имя Бога». «Гель-Грин, центр земли» – это четыре абсолютно непохожие друг на друга истории, которые перенесут вас в далекий и сказочный город на берегу бухты Анива, где живут обычные люди с необыкновенно красивыми именами: Свет, Цвет, Лютеция, Река, Анри-Поль – герои, в которых нельзя не влюбиться. Настоящие, живые и такие неземные.
Мастерски сочетая простоту и богатство мысли, используя особое композиционное построение и нестандартную форму изложения, Никки создает свой неповторимый мир – рассказы-настроения с волшебной атмосферой. Рассказы, которые нельзя забыть, которые ворвутся в вашу жизнь, – и кто знает, возможно, через несколько лет на карте появится новый, невыдуманный, город-порт… Гель-Грин.
Никки Каллен
Гель-Грин, центр земли
© ООО «Яуза-каталог», 2018
Воспоминания о кораблях
Когда Стефану ван Марвесу исполнилось пятнадцать, в ясный, как синий цвет, осенний день у него родился первый сын – от его одноклассницы Капельки Рафаэль, которой всё еще было четырнадцать. За восемь месяцев до этого дня был собран семейный совет: папа, мама, дядя, который так и не женился, и старший брат Стефана – Эдвард, который собирался жениться через полгода на девушке с глазами цвета ранних яблок; у папы – сеть гостиниц по стране; в общем, хорошая партия; теперь же из-за этого маленького мальчика с одиноким узким семейным лицом, будто он думает о Древнем Риме, могло расстроиться всё – скандал, да и только; подали кофе: папе – венский, со сливками и сахаром, маме – глясе, дяде – черный, по-турецки, в крошечной чашечке; а брат не пил кофе из-за погоды и мигрени. Стефану даже никто не предложил; он стоял у окна, в шторах из зеленого бархата, заплетал бахрому в косички, и смотрел, как медленно падает снег, и ни о чем не думал. Даже о Капельке; в отличие от него, она ничего не боялась в этом мире: ни пауков, ни своей семьи; Рафаэли были хиппи, и дети для них были чем-то насущным, как хлеб; в детях настоящая радость, а не в карьере; и ребенка она гранитно решила оставить. Они занимались «этим» всего раз: на диване её старшего брата Реки; тот был в отъезде – автостопил до моря, и она жила временно в его комнате. Все стены обклеены морем, и книги на полках из ясеня – сам делал, видно даже следы рубанка – только про море; она их читала, и под диван упал «Тайный Меридиан» Перес-Реверте; они долго и старательно целовались, потом Стефан стянул с неё замшевую кофту с бахромой – она всегда носила замшевые вещи с бахромой и много-много бус – из дерева и бисера; амулетики с выпученными глазами, крыльями и тысячей ног и коса до пола – словно Рапунцель; только мама всей семьи захотела с ней познакомиться и сказала: «Рапунцель». Стефану было больно, Капельке – нет; и через две недели, когда закончились зимние каникулы, она села за парту, молчаливая и сосредоточенная, хотя первым уроком была не математика, её любимая, а история Отечества; они сидели за одной партой с первого класса, после того как познакомились на линейке. Семейный совет собирался по поводу Стефана до этого раза еще два: когда мама объявила, что беременна, ей было сорок, и на совет пришел семейный врач, доктор Роберт – он-то и смотрел потом Капельку, ему она тоже понравилась «такая чистая и начитанная девочка»; и когда думали, в какую школу его отдать: военную, где учился Эдвард, частную или просто простую. За простую был дядя, он сказал: «Во-первых, вырастет демократом, а во-вторых, научится разговаривать с девочками, ну и, в-третьих, драться; а значит, будет настоящий человек», – и это прозвучало мудростью; обычно он думал только о деньгах и сигарах. И мама согласилась, купила Стефану форму цвета бирюзы, рюкзак из настоящей кожи, набила его бутербродами, села в «Тойоту-Камри» серебристую и привезла сына на праздничную линейку. И Стефан сразу ужасно всех испугался: он никогда еще не видел столько народу зараз; сжал до треска в стеблях букет белых астр и закрыл глаза; открыл, когда девочка, стоявшая рядом, спросила:
– А почему ты глаза закрыл – боишься?
Он сразу же открыл их и увидел её; рядом с ним стояло еще несколько девочек, но их он так и не увидел – до конца школы; а вот она сразу выделялась – тоже маленькая-маленькая, как и он, и в очень странном наряде – ни белых бантов, ни передничка кружевного; в длинной замшевой юбке, бусах из дерева, она была похожа на колдунью.
– Я ничего не боюсь, – сказал он, – я просто очень спать хочу…
В тот же день он первый раз подрался – за неё; она назвала свое имя и получила прозвище Капля-сопля, и дернули за косу, тогда до пояса едва. Стефан сказал: «Эй, не смейте!» – и получил в глаз; и весь следующий урок – рисование – они просидели вдвоем в девчачьем туалете: прикладывали к его распухающему, как гриб, глазу мокрые носовые платки, но синяк всё-таки выплыл— настоящий мальчишеский фингал; а вечером был семейный ужин в честь первого сентября, и дядя, закуривая очередную сигару, повернулся поздравить Стефана и обомлел: «так скоро», – и даже спичкой ожегся… Все последующие дни Капельку после уроков встречал брат Река: он был красивый, словно снежная ночь. «Мама сказала, что они сделали его на очень красивом пляже, под звездами», – ответила маленькая Капелька на кокетливый вопрос молоденькой учительницы; темные волосы до плеч, карие глаза с ресницами, словно черные бабочки; курил без конца и брал Капельку за руку, и они шли: она – подпрыгивая, он – подволакивая ноги – застенчивые юноши часто так ходят, словно тащат груз; покупал ей мягкое мороженое и выслушивал всю детскую ерунду с чувством глубочайшего интереса. Стефан потом прочитает его рассказики о Капельке в тетрадке с парусным кораблем на обложке; и ему было непонятно и тоскливо – Эдвард никогда не заговаривал с ним, с рождения, и даже за столом просил маму: «Скажи ему, пусть передаст сливочник». Он шел за ними каждый вечер; прятался за тумбами в пестрых афишах, пока однажды Капелька всё-таки не заметила его в отражении витрины и не закричала: «Ой, Стефан! иди к нам!» – и он вышел, ожидая насмешек, как грязи, когда машина проезжает стремительно, нарочно; но Река молчал и улыбался своей неземной улыбкой; а потом они пошли к ним в гости – в огромный деревянный дом, в котором всё разваливалось и лежало не на своем месте: зубные щетки вместо гвоздей, рубашки на дверях, цветы росли из пианино; и познакомился с остальными братьями и сестрами – всех назвали, словно открытки с видами: Облачко, Осень, Снежок, Лепесток, Ромашка, Луг, Калина; мама им всем приготовила огромный торт в честь Стефана, а папа зажег свечи в саду; и Стефану казалось, что он герой какой-то необыкновенно красивой книжки – про море, про далекие города, про детей, которым можно быть такими, какие они есть – странными и ясновидящими; и пропустил свою маму на «Тойоте-Камри». Она испугалась – похитили, подняла школьный двор, милицию, директрису; и так все узнали, что Марвес непростой…
Но оказалось, что он боится так много, словно ему уже не пятнадцать, когда можно водить корабли, а совсем мало; нужно сидеть в детской и играть в шахматы с медведем из плюша и бархата; он сначала не понял, что значит «беременна»; он смотрел, как Капелька раскладывает карандаши по пеналу, и слушал разговоры за спиной; а потом сказал маме – она уже вышла из ванной, в пижаме из блестящего атласа и, если бы не накладывала крем, могла бы сойти за фею из «Питера Пэна»; мама вскрикнула и разбила крем, ночной от морщин; на звук прибежал папа с биржевой газетой и смотрел на них, как на заговорщиков в Сенате – император. А через день собрали совет, и вот Стефан стоит и крутит бахрому; мама ездила в больницу к Капельке с мандаринами и персиками; но больше никто из семьи не захотел её видеть. И когда родился ребенок, он один поехал на автобусе на край города, где была больница; и увидел там опять Реку, не менявшегося с возрастом, только проступила щетина, и её родителей с цветами; и ему было стыдно-стыдно: оказалось, мальчик. Его забрали Рафаэли; ван Марвесы предложили свою помощь: памперсы, питание, элитный детский сад; ван Марвесы были богаты – одни из самых богатых в стране; но Рафаэли отказались не потому что гордые, а потому что самое главное, что нужно, – это любовь, а её ван Марвесы дать не могли – странной девочке с ребенком, тоже оказавшимся странным; он никогда не плакал и только смотрел – огромными глазами цвета северного ветра, серыми, как затянувшийся на неделю дождь; его назвали Светом, потому что он был беленький, будто сиял, будто родился не из плоти, а был принесен феей, и родился в ясный день. Стефан часто приходил к Рафаэлям, играл с ребенком; но Свет так и не привык к нему и «папой» назвал Реку; он рано очень заговорил и пошел, держась за руки всей семьи Рафаэлей; доктор Роберт приезжал его смотреть по просьбе мамы ван Марвес и нашел его необыкновенным. Стефан боялся, что Капелька не будет с ним разговаривать, но она рассмеялась только на его робкую просьбу – «иногда видеться». «Что с тобой, Стефан? кого ты боишься? приходи по-прежнему, когда захочешь; ведь мы еще за партой вместе сидеть будем два года». В одиннадцатом классе у них родился второй ребенок, тоже мальчик; только в этот раз крикливый на редкость, сразу с золотыми волосами и глазами, как море и небо – сливаются в одно – головокружительно синими; его назвали за яркость Цвет и дали подержать Света. Семейный совет уже не собирался; дядя проклял тот день, когда посоветовал отдать Стефана в простую школу; у мамы случилась истерика, и её увезли в больницу; а всё опять из-за одного раза – он остался ночевать и впервые прикоснулся с рождения Света к Капельке; узнав, что опять беременна, она хохотала: «снайпер!» – и второго ребенка приняли Рафаэли. «Может, вам пожениться?» – робко предложил папа. – «Она не хочет», Капелька и вправду не хотела: «мы еще молодые»; они протанцевали вместе выпускной, Стефан поступил в университет на международную журналистику; богатством его родителей и дяди были СМИ: два мужских журнала, три женских, альманахи по цветоводству и вязанию; наука и медицина; автомобили и международная политика; экономика и бухгалтерия; два телеканала с новостями; утренние и вечерние газеты. Капелька еще не придумала, чем ей заняться; ей очень хотелось путешествовать: Река присылал ей открытки с разных красивых, как он, мест; и она собралась вслед за Рекой, но в самое сердце лета её сбила машина – она умерла легко и незаметно; словно улетела; и на её похороны приехали все ван Марвесы: привезли огромный белый венок, оплатили похороны, не слушая в этот раз Рафаэлей, и попросили детей. В доме снова обустроили детские, накупили Цвету всё, что ему приглянулось; он носился по дому, играя в пиратов и разбойников; не знал слова «нельзя», пролезал везде: в кабинеты папы, Эдварда; мешал бумаги, рисовал на них цветы и лица, Эдварда это раздражало, и он купил квартиру в городе; а папа смеялся и расслаблялся; любил сажать Цвета себе на колени и рассказывать ему страшные истории.
Цвет был похож на Капельку – ничего не боялся, обо всем мечтал. А Свет пошел в ван Марвесов – узкое невзрачное лицо; темные волосы на уши, глаза с поволокой. Он любил смотреть в окно и читать; был любимцем мамы; она красилась, одевалась на банкет, а он сидел тихо на кровати рядом и любовался ею, как стеклышком. От него всегда пахло чем-то тонким – свежим, прохладным, горьковатым, будто полная деревьев улица после дождя. Однажды ночью Стефану позвонил Река – откуда-то издалека; в трубке, таинственно щелкало; и сказал странную фразу после всех «привет – привет – как дела?»: «Осторожнее, Стефан, Свет ясновидящий…» – и их разъединили. За окном лил дождь, был поздний вечер, и Стефан смотрел на телефон, как спектакль «Гамлет» – необъяснимое; и стал наблюдать за Светом. И понял, что с Капелькой в его жизнь вошла не только любовь, но и загадка – откуда любовь берет силы и откуда берутся дети. Свет всегда знал, какая погода будет завтра и у кого что болит; а однажды к ним в гости пришла старая мамина школьная подруга: она забыла за разговором, клала ли сахар в чай, а не любила сильно сладкий; мешала, мешала ложечкой, и вдруг Свет сказал поверх стола… он читал всё это время «Денискины рассказы», Стефан дал её со словами: «она смешная», но Свет не смеялся – смотрел будто сквозь неё, будто читал другую книгу – Маркеса, Джойса. Стефан расстроился: почему он вообще не читает детских книг… и вдруг Свет сказал: «Там три ложки сахара; слишком сладко, по-моему, попросите лимон» – так внезапно; он никогда не вмешивался в разговоры взрослых, но тетенька будто достала его своей нерешительностью. Мама опрокинула свою чашку, ойкнула, хотя чай был уже негорячим; все поняли, что случилось. Будто прозрели, сравнили все свои совпадения; дядя потом в кабинете стал задавать Свету вопросы из выпуска новостей, исторические, даже процитировал что-то из Нострадамуса, пока Свет не встал и не ушел тихо в свою комнату; дядя крякнул, застыдился: «Ну что? Я просто… интересно же…»; все решили не концентрировать на этом внимание; ясновидящий в семье медиамагнатов – просто заголовок для желтой прессы; мама лишь купила Свету всего Набокова – единственный каприз…
Иногда Стефан приводил Света и Цвета с собой в университет, когда не находили няни; Стефана очень любили в группе за ненадменность и улыбку; словно старый фонарщик пошел зажигать фонари на улице имени Андерсена; тяжелые, закопченные, из чугуна; на лесенке, маленьким факелом – цивилизация в средние века: и с мальчиками сидела вся группа. Девчонки кормили их шоколадом, восхищались шумно ресницами Цвета, а Свет опирался на колени Стефана и боялся отойти. «Стесняется», – с чувством распробованной булочки с корицей говорил Паултье – одногруппник; он готовился быть фотографом в горячих точках. Темно-темно-рыжие волосы, почти бордо; серьга в левом ухе; он был любимцем Цвета, таскал его на плечах, разрешал трогать фотоаппарат; а Света все оставляли в покое, и он шел по коридорам, держа Стефана за руку и прижав к груди какую-нибудь мягкую игрушку; говорил он мало, только: «Пап, а можно в туалет?»; но Стефан только в эти минуты чувствовал, что он – его; дух от духа, плоть от плоти; словно читал красивую книгу или смотрел из окна с высоты…
А когда пятый курс подходил к концу, на доске кафедры появилось странное, как модель парусника в горном краю, объявление:
Администрация города-порта Гель-Грин, строящегося в бухте Анива, приглашает на постоянную работу журналиста для написания материалов в международные СМИ о строительстве порта. Жилье и северные гарантируются. Обращаться на кафедру международной журналистики.
Университет был крупный, как Моби Дик; рядом с другими: «Дойлю и Пересу из группы сто восьмой явиться к декану седьмого числа в одиннадцать часов – для выяснения обстоятельств драки, произошедшей между ними в общежитии номер два пятого числа»; «первому и второму курсу пройти срочно флюорографию»; «экскурсия в Музей современного искусства – быть всем»; и подобные – суета сует, пена дней, обрывки жизни; по объявлению скользили глазами, не находили ничего важного. Кто-то вечером посмотрел новости: «Пап, бухта Анива – это где?»; пока объявление не сдуло сквозняком – в окна пришла весна. Всё капало, на улицах разливались чернилами лужи; на объявление наступили грязным ботинком – тот самый Паултье, волосы темно-темно-рыжие, почти бордо; в левом ухе серьга – потомок пиратов; кожаная куртка. Вслед за Паултье шел Стефан; он смотрел под ноги и поднял листок; медленно, словно еле умея, прочитал.
– А, ван Марвес, проходите, – сказал и.о. зав. кафедрой; сам зав. уехал в Америку – за архивом 11 сентября, писал докторскую. Стефан прошел – он был такой тонкий, узколицый, молодой, что и.о. всегда хотелось его усыновить, накормить, почитать Диккенса: чай, кофе? Кофе «Максим» растворимый, чай в пакетиках, «Ахмад» с корицей…
– Нет, спасибо, – сказал мальчик; он всё стоял с объявлением в руках, мятым, грязным, и думал: судьба это или так просто знак свыше; можно забыть, – у вас тут объявление упало…
Лаборантка обернулась: «А положите на стол, потом приклею»; она поливала цветы и была влюблена. Стефан ван Марвес положил и спросил, как о времени:
– А бухта Анива – это где?
– Далеко, – ответил и.о., – зачем вам, Марвес? У вас отличные перспективы на будущее. Слышал, вы проходили практику в посольстве Великобритании. По ней и будете писать диплом?
– Нет, по Индонезии, скорее всего; экзотичней. Я с братом ездил, у нас там киностудия. А как далеко? – Стефан понял, что это то, что нужно; будто угадал, что хочет на завтрак: яйцо всмятку, два тоста со сливовым джемом и яблоко белый налив.
– Лететь на самолете до столицы, потом до севера, где ничего не ходит уже. И там будет вертолет. Никто не хочет – безумие. Слишком холодно, много ветра и снега и еще море – брр…
– Дайте телефон.
И.о. посмотрел на мальчика внимательно, словно тот спросил его о смысле жизни; лаборантка перестала поливать цветы и прислушалась, а Стефан думал – это не дети; просто я хочу уехать, понять, жив ли я; а и.о. сказал:
– Вы что хотите доказать этим, Марвес? Вы прекрасный журналист и без влияния родителей; смелый, стремительный, даже дерзкий; а в Гель-Грине талант не нужен – там нужны здоровье и ремесло, понимаете меня?
– Да, – ответил Стефан. Он ответил «да» грязному листку бумаги в его тонких, девичьих пальцах, ногти с маникюром; Капелька всегда завидовала – свои она изгрызала до корней; и пошел сквозь наступающую весну домой – пешком, через парк, наполненный лучами, водой и птицами, как рай. Дома была одна прислуга; Свет и Цвет были в детском саду; он набрал номер: опять что-то неземно звякало, как в разговоре с Рекой; «где ты, Река, вечный бродяга, – подумал Стефан, словно позвал, – ты бы поехал… если уже не там…» – и ответил мужской голос, темный и хриплый от расстояния:
– Да; Гель-Грин; Расмус Роулинг слушает…
– Кто вы, Расмус Роулинг? – прокричал Стефан, слышно было ужасно, как из-под подушки.
– Начальник порта, а вы?
– Я журналист, звоню по объявлению…
– Вы студент или как?
– Да, заканчиваю…
– Хотите у нас работать?
– Да.
– Здесь тяжело…
– Рассказали.
Повисло молчание, будто Расмус Роулинг накрыл трубку рукой и советуется с кем-то в комнате. Стефан представил огромного бородача в галстуке и кирзовых сапогах, рассмеялся тихо; в окно врывалось солнце: «интересно, там есть весна?»
– Эй, а как вас зовут? – снова в ухе возник голос издалека.
– Стефан ван Марвес.
– Голландец, что ли?
– Предки…
– А-а… Это хорошо. Значит, море в генах есть… Ну, приезжайте. Знаете, как до нас лететь? До столицы, потом на север – до полюса; там через полюс вас заберет вертолет. Скажите ваш адрес, мы вам деньги вышлем…
– Мне не нужны деньги, – но Расмус уже не слышал; проорал обратно адрес: «правильно?» – и отключился, словно убежал. Стефан смотрел на телефон, и радость наполнила его, как кувшин наполнился бы водой, для цветов с полей; Река приносил такие Капельке, и они стояли долго-долго: «они стоят так долго, потому что кувшин глиняный, это особая магия», – повторяла весело Капелька…
– Прощай, Капелька, – прошептал он. А назавтра вечером был опять семейный совет. «Я думал, ты будешь у меня в журнале работать», – повторял дядя, мама морщилась от дыма его сигар, сухой и тяжелый, словно камин плохо разгорался; папа молчал, сложив перед собой узкие, как и лицо, руки; Эдвард кривился: для него Стефан был черной овцой и еще – он женился два года назад, а детей всё не было; и только одна мама поняла: «Оставьте его в покое; всё за него уже сделали, жизнь расчертили, график, а он сам хочет пожить».
– Мы видели, как он сам умеет жить, – Эдвард кинул взгляд, будто чиркнул спичкой о коробку, – двое детишек незаконных к двадцати…
– Помолчи, – оборвал его отец и повернулся к Стефану: – А ты не молчи – отвечай, что за безумие? Ты хоть знаешь, что это – Гель-Грин?
– Порт, – пожал плечами Стефан; он опять стоял у окна, те же самые зеленые занавески.
– Огромный порт, – сказал отец, – мирового значения… Но его только строят; там нет даже домов. Бухту только открыли – это было огромной сенсацией, – два молодых брата; но ты даже для них слишком молод… Это очень ответственно, понимаешь? У тебя дети, ты их с собой туда возьмешь?
– Да, – и дядя застонал; он тоже привык к Свету и Цвету, всегда приезжал с подарками: в этот раз была железная дорога на дистанционном управлении. Потом все молчали и пили кофе – каждому свой, и Стефану опять не принесли; он стоял и смотрел в окно, как гаснет день, и думал: «Хочу уехать, увидеть мир»; он не знал, почему подобрал это объявление; он просто чувствовал, что где-то далеко есть совсем другой – настоящий Стефан, который ничего не боится и учит этому своих странных детей…
«Как хочешь», – был папин вердикт; «Подумай, Стефан», – дядя и Эдвард. Через три дня пришли деньги с точным указанием рейсов – время и место; и Стефан сложил вещи; когда он закрывал чемодан, вошла мама с толстой черной курткой из сверкающей болоньи с меховым капюшоном. «Зачем это, мам? я взял пальто». «Возьми», – и густо покраснела, словно призналась, что любит не отца, а другого мужчину, – я смотрела новости – там все в таких ходят; там холодно и влажно»…
Цвету было четыре года, Свету шесть – скоро в школу; и Стефан думал, есть ли там школа; купил на всякий случай учебники, новые ботинки, кучу разноцветных свитеров и всё боялся, что они не захотят поехать вместе с ним; будут плакать, прощаясь, в аэропорту. Но они шли спокойно, держась за руки, в голубой – Свет и оранжевой – Цвет кепочках; Цвет крутил головой: ему всё было любопытно, он был из первооткрывателей. И Стефан с облегчением понял, что, может, наоборот, к лучшему; с папой и мамой Цвет превратился бы в обыкновенного избалованного подростка, каким был Эдвард; а Свет был для него загадкой; как Река; как река. Они спали, обнявшись, в самолете. «Какие милые, – сказала стюардесса в синей форме, – ваши братики?» – и принесла им по куриной отбивной с оливкой внутри и фигурного шоколада. Стефан смотрел на облака внизу; везде у него спрашивали паспорт – выглядел он на пятнадцать, застрял во времени, Марти Мак Флай, когда его жизнь началась и закончилась; рассеянно целовал детей в макушки и покупал им мороженое и орешки по первому требованию. «Мы не упадем?» – спросил шутливо толстяк по соседству, пристегиваясь, у Света; мальчик посмотрел на него огромными серыми глазами; и, как потом толстяк рассказывал своим друзьям за пивом, «они у него словно засветились изнутри, словно корабль с призраками начал подниматься со дна моря»; и Свет ответил: «Нет; вы умрете от сердца, через много лет, в больнице с синими стенами; мой папа – во сне, дома; а Цвета убьют люди с черной кожей, он будет великий путешественник, а я… еще не знаю» – и погрузился в созерцание ночных огней внизу. «Свет», – шикнул на него Стефан, люди вблизи оглянулись; а толстяк попросил через час стюардессу пересадить его в соседний салон. «Там экономкласс, сэр». – «Ничего, я доплачу». – «Напротив, он стоит дешевле»; и все оглядываются; «вот видишь, что ты натворил; напугал человека», – сказал Стефан, а Свет покраснел от обиды: «он сам спросил» – и отвернулся к иллюминатору; «только этого еще не хватало» – так они поссорились…
А потом был большой город, в который Стефан всегда мечтал попасть; брат был там и Река тоже; рассказывали разное – цветные книжки с картинками, альбомы с фотографиями, огромные дома на горизонте сквозь огни полосы; но их сразу пересадили в маленький странный самолетик – словно игрушечный, Цвету быть пилотом; с ними сел еще один человек – огромный, как медведь, в унтах с синим бисером, шапке-ушанке; почитал немного книжку, автобиографию Хэрриота, и заснул; под ногами плыло ночное небо. Стефан смотрел, как исчезает город; Свет тоже уснул под храп и привалился к нему на плечо, легкий, как белый цветок; ему снилось что-то быстрое, потому что веки двигались; Цвет играл в винтажный тетрис, подаренный на прощание бабушкой; странно, вроде мама, а вроде бабушка – не возраст, а состояние; как деньги, больше денег; а потом самолетик ухнулся в воздушную яму, посыпались в багажном отделении коробки с фруктами, которыми уже пропах салон – виноградом и яблоками, и Свет проснулся, и человек в унтах тоже; увидел отца и отстранился, будто совсем чужой…
В три часа ночи они прилетели. Самолетик сел мягко, будто на постель кошка прыгнула; человек в унтах помог вытащить вещи. «Вы куда?» – «В Гель-Грин; интересно, нас кто-нибудь встречает?» – «Антуан, должно быть, он людей возит; Гель-Грин – боже, как это здорово; вы верите в Бога? а он в вас, значит, верит». Человек в унтах оказался полярником, летел из отпуска обратно на льдину. «Идите на вокзал, погреетесь, кофе попьете; а их – с собою?» – кивнул на мальчиков; они натянули капюшоны, в которые свистел ветер, словно хотел унести в свою страну, полную иголок; Цвет прижался к Свету, будто в мультфильме увидел что-то страшное: великана с дубинкой, Снежную Королеву…
В зале аэропорта было тепло, как от камина; в углу журчал фонтанчик, и никого не было, горело табло с рейсами. Стефан поставил сумки у кресел, купил в автомате два какао, и велел вести себя тихо и пошел искать администратора, дежурного, кассира – кого-нибудь живого и в форме; в коридоре и туалете тоже было пусто, и Стефану показалось, что он в каком-то заколдованном мире; что Цвет прав, всегда играя в пиратов и путешественников; реальность порвалась, как старый батист при стирке, и можно выбрать мир, в который хочешь пойти, посмотреть на дороги и башни. И вернулся в зал ожидания, а там с детьми разговаривал человек в теплой, как у него, в куртке; сидел на корточках, меховой капюшон свалился на спину, светлые волосы блестели в свете плафонов, словно парчовые.
– Здравствуйте, – сказал Стефан, усталый, заблудившийся. – Вы кто?
Парень встал, и Стефан увидел, какой он красивый, молодой и яркий; как рыцарь с картины прерафаэлита – губы с цветок; глаза карие. Парень улыбнулся. Он выше его на голову, и Стефан вспомнил кинохроники Первой мировой войны; в университете на парах истории им приносили из музея бобины, ставили в древний кинопроектор, они шуршали и щелкали, и изображение подрагивало, как ресницы Света от сна и лица в них были вот такие – смелые и странные; думаешь, их давно нет на свете, а они этого не знают, они вечные и прекрасные; герои, у которых за спиной были крылья, а не смерть…
– Привет, я Антуан Экзюпери, а вы, надеюсь, Стефан ван Марвес?
– Да.
– Все думали, вы старше… Малыши ваши?
– Мои.
– Хорошие, – парень словно говорил о породе, – я ваш пилот; вертолет до Гель-Грина – еще не передумали? – и засмеялся, будто мог быть отрицательный ответ; а Цвет смотрел на него снизу влюбленно, как на фейерверк. Антуан подхватил их вещи, словно они не весили ничего, всех лет одиночества, и пошел к выходу, где взлетные полосы; там были люди, все живые, все в форме. «Привет, Антуан, как летается?» «Высоко, Энди» – и они снова попали под снег, колючий, как осы; вертолет казался огромным, как гора; и в него загружали эти самые сладкие коробки с фруктами. Антуан постелил сверху пледы. «Неудобно немного, но можно поспать» – и они снова взлетели; Стефан в жизни так много не летал, но словно брал с собой землю, так страшно было и тяжело. Он уже жалел, что поднял объявление, прочитал; лучше бы дома с дядей спорить об Америке, её самоуверенности и скором конце; зарабатывать деньги, деньги, деньги… Он смотрел вниз, на маленький и нестерпимо красивый городок: он лежал внизу спящий, так и оставшийся неизведанным, как множество больших, как множество чувств и блюд. «Что это за городок?» – «Край земли» – «Странное название» – «Это не название, это смысл», – и Антуан опять засмеялся; и Стефан подумал – хорошо быть Антуаном, видеть честные, смелые сны про облака, любить девушку далеко-далеко от Гель-Грина в голубом платье, а любимые цветы – нарциссы; иногда ей говорят, что ты умер, что ты больше не вернешься, что нашел другую, если не умер, но она умеет ждать; и однажды прилететь к ней, сесть на городскую площадь, засыпать её перед этим с неба цветами – голубыми и желтыми нарциссами, и всё у вас будет хорошо… Стефану казалось, они летели тысячу лет; он сказал Антуану, тот отогнул наушник, в который бормоталась погода: «Что?» – «Долго нам еще лететь?» – «Не очень, еще половина пути; вам невтерпеж или уже не нравится? жалеете?» – «Я понимаю, трусам и старикам там не место…» – «И всё такое…» – продолжил за него Антуан, нырнул в облако и поднялся над ним, будто с женщиной танцевал; и Цвет вскрикнул от восторга – на востоке небо сияло серебристым и оранжевым, изумрудным и розовым, словно кто-то красил и не мог выбрать.
– Северное сияние, не видели никогда?
– Только белые ночи.
– Тоже диковина, – согласился Антуан, будто они сидели в зеленом казино, пили кофе, играли по маленькой; будто знал Стефана сто лет, не боялся совсем; одни синяки и воспоминания. – А о Гель-Грине что-нибудь знаете?
– Тоже диковина?
– Ага. – Антуан опять нырнул в облако и опять вынырнул.
«Вальс, раз-два-три», – подумал Стефан, посмотрел на детей: Цвет размазался по окну, а Свет притулился на одной из коробок, закутался в плед, словно гнездо свил, и спал, пропуская всю красоту; но Стефан не боялся: всё равно Свет видит это во сне…
– Гель-Грин… – будто это имя Бога – Гель-Грин открыли два брата, Жан-Жюль чуть старше вас, двадцать? ему двадцать два, он инженер водного транспорта; а Анри-Поль – геолог, братья де Фуатены; на этом же вертолете летели и увидели бухту, назвали Анива – в честь своего виноградника в Провансе; кстати, их отец по сей день там делает вино, присылает им ящик на Рождество. Гель-Грин – это горы, лес сосновый, море и недалеко лесная река – Лилиан, это в честь мамы; предполагается там чинить корабли…
– Корабли? Они уже есть?
– Нет, что вы, только сваи заколачиваем, по уши в грязи. Анри-Поль уходит в экспедиции в горы, нашли уже уголь и малахит, а Жан-Жюль – что-то типа мэра; еще есть Расмус Роулинг – начальник порта, собственно, всё начальство; сумасшедший парень, очень классный, мы с ним вместе католическую школу закончили и оба пошли в механики…
– А парня по имени Река у вас нет? – и Стефан понял: нет; Река по сути своей бродяга, не мастер. Антуан вопроса не расслышал, потому что опять пошел вниз, под облака, которые уплотнились, словно пена в ванне; ночь же под ними напоминала темноволосую женщину в черном бархатном платье – Тоску; Стефан смотрел и смотрел сквозь темноту; потом к нему на руки пришел Цвет и тоже заснул, похрапывал тихонько, будто щенок крупный, пустил слюнку; Антуан же улыбнулся, словно прочел хорошее – о звездах, розах, маленьких принцах; истину; он и не подумал, что Стефан – их отец; подумал, что братья без родителей…
«Подъем!» – разбудил он их через час; снизу надвигались огни – редкие, как капельки начинающегося дождя; пахло остро и холодно, и Стефан понял, что под ногами вода, бездна. «Это море?» – спросил Свет, и Антуан кивнул, прочитав по губам; Свет поразил его темнотой взгляда, он вспомнил: есть легенда о том, что море – это мальчик с глазами цвета погоды, и Свет, казалось, знает этого мальчика. Гуляли вместе по пляжу; весь мир – это мальчики, они как цветы: погибают – великая печаль; растут – не жалко; море дышало у них под ногами, вертолет чуть не касался лыжами; Цвет схватил за руку Света, Свет прижал его к себе – и Стефан понял: люди им не нужны; они сами по себе, неразлейразные, луна и солнце; а потом из темноты надвинулся берег, словно тело спящего дракона; из него – два огонька, крошечных, как сахаринки, красный и желтый; и Антуан пошел вниз, теперь совсем, и у Стефана не стало сердца. Он начал искать его по свитеру, а вертолет шел вниз и вниз, и огни становились подвижнее – кто-то махал двумя факелами на земле. Вертолет стукнулся об землю, и Антуан выпрыгнул в дождь; Стефан сполз следом, под ногами кружилось.
– Привез? – раздался голос из темноты и дождя, расплавленного серебра.
– А как же, – и на Стефана вышел из серебра человек, протянул руку; факелы он держал в другой.
– Не передумали-таки? нам чертовски нужен журналист, а то про нас всякий бред на Большой земле пишут, будто мы тут нефть добываем, или отмываем топазы, или никакого Гель-Грина нет вообще, – рука оказалась крепкой, как коньяк десятилетней выдержки на голодный желудок; а сам человек – молодым, черноволосым и небритым, длинноногим, в кожаной одежде, куртке теплой из болоньи – точь-в-точь как у Стефана в сумке; и лицо его, острое, со скулами как лезвия, глазами огромными и карими, как два колодца, было не отсюда, не из этого столетия – такое стремительное, страстное, сосредоточенное; будто со средневековых рисунков – рыцарь из свиты Жанны д’Арк, Расмус Роулинг, начальник порта, к вашим услугам; а это кто?
Его изумление, будто что-то выскользнуло из рук вдруг драгоценное и не разбилось – только разлилось, относилось к сонным мальчикам в пледах; дождь будил их, как звонок: Цвет в руках держал оранжевого плюшевого медведя, вытащенного за путешествие из сумки; Свет же смотрел на небо, огромное, как сосны.
– Это мои дети, – и Стефан подумал: вот, сейчас скажут: нет, дети нам не нужны, уезжайте – и опять быть не собой, а ван Марвесом; ну что ж, впрочем, может, и к лучшему; Свету в этом году нужно в школу; допишу диплом, пойду в магистратуру. Дождь перемешался со снегом, и Стефану показалось, будто это морская пена, ветер её сбрасывает на плечи; он подставил ладонь и лизнул – снег оказался соленым, нарушение всех законов.
– Это от моря, – сказал совсем другое Расмус, – оно повсюду; вы через час пропахнете им, как селедка… А дети – это хорошо, у нас детей немного; но детский садик есть и первый класс; только вы не сказали, что у вас дети есть; мы бы вам вагончик побольше поставили…
И сердце Стефана нашлось – словно вышло проветриться, погулять; вернулось легкое и веселое; он принял сумки от Антуана, пожал руку и ему. «Увидимся!» «Еще бы; напишешь про меня»; Расмус стал вырывать сумки. «У меня родители тоже решили, что здесь нет ничего; даже посуду дали», – оправдал Стефан тяжесть; они шли через поселок: несколько вагончиков, блестящих от дождя; дома из дерева, легкие, как шатры; детская площадка, настоящая, с мокрыми качелями и горками, – Цвет сразу побежал, и пришлось бежать следом, брать на руки, ругать, выслушивать в ответ; а Расмус смотрел с открытым ртом и ухмылялся в рукав; Свет шел по-прежнему молча, словно мир не казался ему новым. Стефан промок весь, замерз в пальто; его вагончик оказался на самой окраине, если вообще были центр и край; тонкая дорожка из светлых досок, прогибающаяся под весом шагов; он устал так, что готов был умереть. Расмус открыл вагончик и отдал Стефану ключ: «Хотелось бы, конечно, пороскошнее, но они удобные, правда; печка с тремя режимами – сушитесь; и кровать; завтра принесем две детских; радио, берет весь мир; чистое белье в шкафу и полотенца; вода в душе негорячая, правда, но стабильно тёплая; холодильник; у нас магазин и кафе, подвоз продуктов лучший в мире; не «Хилтон», конечно, но вполне для простых ребят; располагайтесь, отсыпайтесь и привыкайте к мысли, что это ваш дом; стены раскрашивать, заклеивать плакатами с Заком Эфроном и «Звездными войнами» – разрешается», – взъерошил на прощание макушку Цвета и ушел; длинные ноги его запоминались, как женские. Стефан раздел детей, повесил одежду на печку – длинную белую батарею с духовкой и конфоркой; градусники Фаренгейта и Цельсия; затолкал в душ. Цвет в душе заснул, Свет вынес его на руках, а Стефан стелил постель, путаясь в пододеяльниках – он впервые что-то делал сам; белье пахло лавандой – словно не край земли, а старинное бабушкино имение; пруд, полный кувшинок и золотых монет – чтоб вернуться. Нашел в сумке пижамы; Цвет ни в коем случае не хотел расставаться с медведем, и когда Стефан из душа пришел ложиться, места на кровати ему осталось на одну ногу. Они заснули уже, и разбудить – как наказывать; он долго смотрел на них, полный нежности, розовой, как сирень, и тихо постелил себе на полу; запах моря бурлил в нём, как имя композитора, очень известного, забытое случайно, мучительно, или художника, чья картина всегда нравится, два слога; лежать и вспоминать, как смысл жизни; и он долго не спал, смотрел, как сквозь дождь серый свет вползает в вагончик: «я на краю земли»; и только когда стало совсем светло, он уснул; без снов, как упал; и проснулся от стука в дверь…
«Где я?» – подумал он, пытаясь найти ответ быстро, как документы; он научился думать об этом, путешествуя с дядей, просыпаясь в комнатах, полных портьер и цветов; сел на полу, пропахший постелью; слабый серый свет, словно сквозь ветки, заросли, пробивался в жалюзи: «Гель-Грин, тысячи километров от дома». Стефану стало тоскливо и страшно, будто он выпил яд; стук повторился; в вагончике была двойная дверь: прозрачная сетчатая открывалась внутрь комнаты, а белая металлическая – на улицу; судя по свету, вновь дождь. Мальчики спали обнявшись; волосы их перепутались, как у влюбленных на старинных картинах: Тристан и Изольда, Джиневра и Ланселот; от них шло тепло больше, чем от печки; Стефан завернулся в одеяло и открыл обе двери. С металлической на него с грохотом обвалилось ведро холодной, как удар кинжалом, воды; стукнуло по голове и со звоном откатилось по земле; раздался хохот, и его опять облили – чем-то сладким; запах – яблоки с карамелью.
– Доброе утро, Стефан, – услышал он сквозь воду в ушах Расмуса, – посвящение в гель-гриновцы, выпей-ка…
И ему сунули граненый стакан с этим вторым, сладким: белое вино; Стефан выпил, и мир стал круглым; не удержался и сел на порог. Вино было теплым и тягучим, золотым, как янтарь.
– Грей выпьет его, когда будет в раю, – сказал он наконец; вода затекла под одеяло, и он стал искать в нём сухие места, – Расмус, я отомщу, не бойтесь; выставлю вас в первой же статье героем…
– Только попробуйте, ван Марвес, и Жан-Жюль тотчас же введет цензуру; знакомьтесь, Стефан ван Марвес, наш журналист, а это наш мэр – Жан-Жюль де Фуатен, – и второй парень подал ему руку, посмотрел как на друга; красив он был до необычайности, Мальчик-звезда: лицо овальное, как медальон, темные волосы, вьются, как гиацинт; глаза синие, с черным блеском внутри, словно смотришь в глубокую воду с корабля и видишь сквозь прозрачность что-то на дне, большое и темное; бежишь к капитану: «Остановите, остановите!» – вдруг другой корабль, столетиями раньше, серебро, оружие; но уже прошли, пролетели, координаты не запомнили, вот и мучайся полжизни… Он тоже был в темно-синей куртке из болоньи, джинсах цвета индиго; пожал руку Стефана, как женскую, едва коснулся – предпочел обнять бы, и спросил: «Ты не обиделся?» – голос у него был мягкий и славный, тоже темно-синий, будто он разговаривал с тобой о душе и Ницше, что-то важное…
На шум проснулись Свет и Цвет; вышли, заспанные, будто проспали сто лет в окружении роз. Цвет по-прежнему волок за собой оранжевого медведя и засмеялся сразу, увидев мокрого Стефана; однажды он проделал такую шутку с дядей – не тем добрым и толстым, с игрушками, а с Эдвардом, с таким тонким лицом, будто его и не было вовсе; и дядя этот после орал долго на папу и переехал в другой мир, хотя ведро упало мимо, затопило ковер; Стефан схватил Цвета в охапку, намочил, а Свет стоял на пороге и смотрел на людей – как издалека.
– Привет, – сказал Жан-Жюль; Расмус сказал ему о детях, но всё равно было странно – тонкий, как невзрачная девочка, Стефан, никакой затаённой грусти в лице, как клада под яблоней, а уже двое детей, – отличная пижамка; я – Жан-Жюль, мэр этого города, а ты кто?
– Свет, – голос тихий и ясный, словно стихотворение о комнате с открытым на море окном; в три строки.
– Славное имя или это прозвище?
– Имя, – Свет удивился, обычно никто не сомневался и не переспрашивал, зная об их бредовом происхождении.
– А брат? – и Цвет высунул яркую мордочку из-под одеяла.
– Цвет, – крикнул он сам, – четыре лет.
– Года, – поправил Стефан, и его стукнули по голове, – вы извините, он «Шторм» Вивальди и эти фильмы страшные про детей – кнопки на стуле, чернила в белье, тараканы в супе – все про него; ночью, Расмус, вы говорили что-то про детский сад…
– Ну, нужно сначала кому-то просохнуть, а? И позавтракайте – в шкафу полно псевдоеды; а потом мы с Жан-Жюлем зайдем опять и как в школе – покажем вам город, порт, место работы; компьютеры у нас все эппловские, вы на «Эппле» работаете?
– У меня их ноутбук с собой…
– Отлично. Детишек по пути закинем… – Расмус будто порядок на столе наводил; допили вино: «это от моих родителей; семейный виноградник…» – Жан-Жюль покраснел, будто стеснялся, будто это был невесть что за неловкий секрет: ну что за родители, виноградник какой-то, нет бы в городе жить, юристами работать; потом Расмус и Жан-Жюль ушли. Стефан затолкал детей под душ, открыл шкаф – еда и вправду была в пакетах: сухое молоко, рафинад, йогурты; «Ахмад» липовый и с корицей; пакеты с кофе и сливками; смесь для приготовления омлета; сушеные овощи; бульонные кубики и специи. На столике стоял бледно-голубой тефалевский чайник; Стефан, путаясь в одеяле, заварил чай; навел, алхимича, омлет – «кажется, съедобно»; Цвет засмеялся опять – он учился любить отца, но как младшего, болтал ногами и обо всём; Гель-Грин ему нравился: место, полное открытий и запахов. Свет же ел молча; он был неприхотлив, как все первые дети; к тому же рос первые годы у Рафаэлей; мир казался ему книгой, которую нужно перевести на свой язык, а отец в ней – примечания; можно не читать, но многое объясняет. Сам Стефан не заметил вкуса, натянул свитер потеплее и увидел на дне сумки куртку; услышал голос мамы, вспоминая её руки, улыбку, задохнулся, и вообразил голоса Жан-Жюля, Расмуса: «О, почти как мы» – и застегнул стремительно, будто что-то порвал, не надену; не моё; надел уже потяжелевшее, отсыревшее пальто – оно пахло ночью, солью, пылью, слабостью; и в дверь застучали. Расмус в своих черных кожаных штанах, худой, длинноногий, рыцарь Розы; и Жан-Жюль, он нестерпимо нравился Стефану, как похожий; если в Расмусе была сила, что остро заточенный нож, оттого было страшно – не оправдать доверия, ожиданий, больших надежд, то Жан-Жюль улыбался твоим шуткам и говорил – как вел за руку, а не скакал через темы и камни; напоминал себя – молодого и нашедшего в жизни прекрасное, но это прекрасное может раздавить: не по размеру…
Цвет опять взял медведя, Свет – учебники и пенал; они вышли на землю, и опять полетел снег. «Почему он соленый? – спросил Стефан у Жан-Жюля, – ведь, по школе, соль не испаряется…» Тот пожал плечами: «есть вещи, которых не угадать: почему в одних горах есть золото, а в других нет, и корабли затонувшие, и любовь…» «физика – не любовь…» «вы еще про смысл жизни поговорите!» – подошел Расмус; он нес Цвета на шее, оттого вынужден был постоянно отвлекаться – на все интересные булыжники, пучки водорослей, вынесенных в бурю, ракушки со сколотыми краями; карманы и его, и Цвета уже были набиты под завязку. Свет же шел тихо, прислушиваясь ко всем звукам: прибою, словам, стуку сердца, крикам птиц, ударам и грохоту машин из порта, подволакивая ноги – он чуть косолапил, как и Стефан; походка внимательных и задумчивых, не сознающих себя красивыми. Жан-Жюль засмеялся в ответ, как на анекдот про альпинистов. «Ну ладно, я направо, детей отведу, а вы посмотрите порт, в обед встретимся у Лютеции», – и взял Света за руку; тот удивился и посмотрел вверх на него, как на небо, с которого падал снег. Расмус спустил Цвета, Стефан попытался поцеловать его – Свет отвернул щеку, и Стефан вздохнул: будь дома, мама помирила бы их, сам он не умел с ними общаться; и Расмус повел его в порт.
– Начальник порта, – повторил Стефан, – звучит гордо, почти как человек…