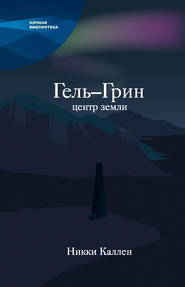скачать книгу бесплатно
– Ага, – ответил Расмус, – видели бы вы этот порт – три сваи и огромная лужа.
«Сначала ничего не видно особенного: ни величия, ни моря, просто огромная серая вода, гладкая, как атлас для подкладки шикарного пальто; весь берег изрыт бульдозерами, как изгрызен; почва твердая, вечная, горная; груды щебня, привезенного песка, расколотых в мелкое камней; среди всего этого стоит Расмус Роулинг и матерится: не хватает машин, подвоз материалов вечно задерживается из-за погоды; странное место для порта…» – Стефан подумал и убрал; стало смешно, словно книжку с картинками смотрел, и там у кого-то мохнатые брови, и в них брусника растет; он сидел за стойкой и писал в блокнот – синяя клетка, пружины, корабль в сто парусов на обложке – он блокнотами всегда пользовался для очерков, никогда диктофоном; Жан-Жюль пришел минуту назад, они с Расмусом сели за постоянный свой столик – у окна, а Стефана послали за заказом – «три кофе, пожалуйста: один по-венски, один с вишневым ликером и капучино».
– Это ты журналист? – спросил бармен вдруг; у стойки сидело еще несколько человек – видно, рабочих, все в куртках и пахли солью и табаком; кто-то пил кофе, кто-то чай – спиртного днем не подавали, это сказал Расмус; он только и делал, что говорил, а Стефан записывал, и Расмуса это смешило, он пытался разобраться в каракулях: у Стефана с первого класса был странный почерк – как восточная вязь – длинные хвосты и неправильные соединения, только Капелька его читала; Река писал еще хуже – придуманным ими с детства шифром, превратившимся в привычку. Когда Стефан зарисовал примерно буровую вышку, записал последние данные о породах: «это лучше к Анри-Полю, он завтра из леса вернется с бригадой, и будут уже новые замеры». Расмус объявил по радио перерыв; и они пошли в кафе – легкая конструкция из дерева, на сваях из сосны, еще пахла свежим; пронзительно, как после дождя. «Счастливчик Джек», – прочитал Стефан и опять записал; ему казалось, что он не пишет, как раньше, а рисует. «Это так хозяина зовут?» – «Нет, его любимого моряка – Джека Обри; какой-то английский капитан, воевал с Наполеоном; книжка Патрика О’Брайана». Стефан расстроился: Наполеон был одним из его кумиров; Черчилль, Честертон, Чосер и Наполеон.
Подниматься нужно было по легкой лестнице, винтовой, из металла; наверху была декоративная башенка – дозорная; стекла на дверях разноцветные; внутри неожиданно тепло, маленькие столики на троих – идеальная компания; стойка из той же корабельной сосны; Стефан сел рядом на высокий металлический стул и почувствовал запах смолы; здешний воздух так был полон запахов, что хотелось набрать его в бутылки, не флаконы, а в такие большие, квадратные, из-под виски – дарить друзьям на Рождество; пахло солью; рыбой, ветром, землей, влагой; зал был полон; на стенах висели корабли, все – английские парусники времен Наполеоновских войн: «Каллоден», «Голиаф», «Зэлэ», «Орион», «Одасье», «Тезей», «Вангард», «Минотавр», «Беллерофонт», «Дефанс», «Мажестье», «Леандр», «Мютин», «Александр», «Суифтшюр»; и над стойкой, в самой большой и красивой раме, с резьбой и позолотой, – «Сюрприз». Видимо, того самого Джека Обри.
– Так ты журналист? – повторил бармен; был он огромный, будто по ночам перекидывается в вервольфа; темноволосый и молодой, загорелый до грубого; в рубашке из байки в синюю, зеленую и белую клетку, с северным акцентом, вытирал руки таким же полотенцем; и все скатерти и салфетки на столах были той же расцветки. – Расмус о тебе очень беспокоился, сказал, что ты, кажись, столичная штучка и можешь нос задрать…
– Ну и я задираю нос? Я уже полчаса жду кофе, чтобы оттаранить его не абы кому, а начальнику порта, мэру и лучшему журналисту округи, потому как пока других нет и сравнивать не с кем, – и о жалобной книге даже не заикнулся!
Бармен засмеялся; смех у него был густой, как повидло; рабочие начали оглядываться, и Стефан почувствовал себя в центре мира; залился краской и чиркнул в блокноте загогулину, побег плюща. «Он мне нравится, Расмус!» – проревел бармен, Расмус махнул ему из-за стола; на салфетках они что-то чертили с Жан-Жюлем. «Вот твой кофе, меня зовут Тонин, как сахалинский маяк; главное блюдо сегодня – пирог с грибами»; и Стефан двинулся сквозь толпу с горячими чашками. «Это хорошо, что ты понравился Тонину, – встретил его Расмус, – он у нас как лакмусовая бумага – оценивает до шнурков на ботинках; еще у него бывают видения, всерьез; он необыкновенный – жил десять лет в тайге, охотился на бурых медведей, наизусть знает биографии всех английских капитанов, готовит, правда, ужасно». Жан-Жюль прыснул в чашку: «Да ладно, всё равно все едят; ты можешь и ужинать здесь, если захочешь, и взять еду с собой; «Джек» работает с шести утра до двух ночи». Капучино заказал Жан-Жюль, с вишневым ликером – Расмус, кофе по-венски любил Стефан; но здешний кофе по-венски выглядел так, будто его готовили в котелке на костре, а шоколад настрогали охотничьим ножом.
– Как Свет и Цвет, никого не замучили? – Жан-Жюль мотнул головой; по дороге он увидел, как один из бульдозеров ушел под воду – парня еле спасли из холодной воды: просто поехала насыпь для железной дороги, и теперь нужно было вытаскивать тягачом этот бульдозер, удалять насыпь; всё время что-то случалось. Подошел единственный официант – подросток, который еще не имел права на вождение грузового транспорта: тонкий, высокий, стройный, как модель, – рабочие дразнили его переодетой девочкой; глаза яркие, как пламя; он сбежал из детского дома в Гель-Грин – упросил Антуана довезти, согласен был на любую работу; а в кафе ему нравилось: он любил разговоры, смех, готовить кофе и клетчатую одежду; ему казалось, что море и мир – это одно. В меню была куча рыбы, каких-то ракушек, морской капусты; тушеные овощи и пельмени – цена шла в трех валютах; и еще был пункт – «в счет зарплаты». Стефан заказал себе пирог с грибами – оказалось, круглый, закрытый, очень горячий; внутри еще курица и лук; и Тонин был прав – единственное съедобное блюдо; пришлось делиться с Жан-Жюлем и Расмусом, заказавшими рыбу в желе, холодную и клубничную…
После «Джека Обри» они пошли в мэрию; одноэтажное здание, тоже на сваях, тоже сосна. «Сейчас Лютеция покажет тебе план города, можешь отксерокопировать его». – «А кто такая Лютеция?» – «Лютеция Жаннере-Гри – главный архитектор Гель-Грина и… – Расмус посмотрел на Стефана строго, как воспитатель, – моя девушка… Поймаю за шашнями – убью обоих». – «Его любимая опера – «Кармен», – сказал Жан-Жюль. – Он преувеличивает: Лютеция даже не знает, что она ему нравится; она думает, у него только работа и маяк…» «Маяк?» – но они уже вошли по легкой лесенке, дрожавшей под ногами, как веревочная; внутри тоже пахло деревом и солью; и Стефан понял, что и сам уже так пахнет, будто изменилась кровь, вся химия; сверхъестественное: соленый снег, люди – ясновидящие, его сын, бармен Тонин, леса вокруг, как первобытные; играла настоящая виниловая старая пластинка – Франко Корелли, ария Каравадосси из первого акта «Тоски»; от стола оторвала взгляд и вправду восхитительно красивая девушка: смуглая, волосы цвета красного дерева – некрашеные, настоящие, струями, как в мультфильмах Диснея, до пояса; яркие брови, ресницы, губы; только розы ей не хватало в зубах – в них она держала карандаш и еще один – за ухом; была в джинсах и темном толстом свитере, в сапогах под колено без каблуков.
– Здравствуй, Лютеция, ты хоть обедала? – спросил Жан-Жюль; на ватмане стояла коробочка из-под йогурта; Расмус смотрел в пол, будто потерял там страшно нужное, – знакомься, это наш журналист, Стефан ван Марвес; ему нужен план города. И вообще – поболтайте, а мы почешем; у нас насыпь съехала, – девушка кивнула непонятно на какой из пунктов – про обед или про Стефана. Даже карандаш из зубов не вытащила, подумал Стефан, – не любит говорить или не любит отвлекаться.
– Насыпь – это интересно, – сказал Стефан – парни ему нравились в деле больше девушек, да и план города ему представлялся вещью, которая не убежит, как редкая книга.
– Нам нужно рассказать о плане города срочно, в «Таймс» и в «Монд», они ждут уже месяц; и для ТВ всех мыслимых. К тому же это не так скучно, как думаешь, – план нового города; а скучно – это насыпь; мы с ней дня три провозимся, еще напишешь репортаж, – и Стефан просидел с Лютецией до вечера; он думал – влюбится; но она пахла сандалом, иланг-илангом и черной смородиной. «Emotion» от Laura Biagiotti? – спросил Стефан, – у меня мама его покупала весной, в депрессию; говорила, повышает уровень счастья, как сахар» – так они стали приятелями; в углу на столике стоял еще один «тефаль», пили чай – «Ахмад» с бергамотом; Лютеция любила запахи; с собой в Гель-Грин она привезла только ватман, карандаши, немного одежды, любимую кружку и аромалампу; и только когда за окнами стемнело, они заахали, свернули чертежи и рисунки, и Стефан проводил её до дома – легкого, деревянного, уже обсаженного кустами рододендрона, и пошел искать свой вагончик. Свет в окнах горел, и Свет готовил что-то на плите; настроили радио – музыкальная станция в стиле ретро, оркестр Гленна Миллера; Цвет играл на полу в пиратов: кубики изображали вражеские корабли, а фрегат «Секрет» палил изо всех своих пушек; красное дерево, паруса из китайского шелка – ручная работа; одна из последних слабостей дяди; пахло теплом и уютом. «О, папа пришел!» и Цвет направил на него пушки левого борта; Свет налил чаю: «Как вам день?» Цвет пустился в описания драки с каким-то Ежи, а Свет молчал, глаза у него слипались. «Вы ели что-нибудь?» – «Да, нас в детском садике покормили и с собой пирога дали»; Стефан узнал грибной пирог из «Счастливчика Джека»; они попили чаю и легли спать: мальчики и оранжевый медведь на кровати, Стефан на полу…
Сначала Стефану снилось немного моря, потом сон ускользнул, словно чужой, и стал сниться дом в городе: мама, портьеры с бахромой, рыжая кошка; Стефан у себя в комнате, где всё еще висят плакаты «Мулен Руж» База Лурмана на французском, английском и русском; а потом раздался крик – и он вынырнул из сна, как из ванны: Свет сидел на постели, подушка свалилась на пол, к Стефану; Цвет плачет и обнимает брата: «не бойся, Свет, я с тобой…»; словно что-то давно происходит, кто-то болен, а Стефан занят и не знает, а все думают – ему всё равно.
– Что случилось? – спросил он, нащупал лампу, которую они привезли из дома, включил свет; оранжевый шар на вьющейся стеклянной ножке, три уровня яркости. – Свет, плохой сон?
Свет замотал головой; лоб у него был мокрый и волосы – у ушей они длиннее, почти бачки – тоже мокрые. Стефан выпутался из своего одеяла, сел на кровать, обнял сыновей вместе с мишкой.
– Ну что случилось, скажи?
Свет молчал, словно не помнил; Стефан тоже умолк и просто сидел так с ними; теплыми и маленькими. Цвет заснул; Стефан уложил его осторожно к стене, нашел в шкафу апельсиновый сок и налил Свету полный стакан; тот выпил и лег на край поднятой подушки, поморгал немного на лампу, как котенок, золотящимися глазами; и тоже задремал. Стефан посидел на краю, подождал, пока он не задышит глубоко; на часах была половина четвертого; тела не чувствовалось, как после сильной боли. Он выключил лампу и лег на пол; слушал, как дышат дети; потом встал, включил на самый тусклый режим лампу и снова посмотрел на время: было пять. Он опустился обратно на постель и просто сидел; перебирал мысли, как вещи; увидел: как светлеет; бледно-бледно, перламутрово; отодвинул штору – опять снег…
Белый-белый, бархатный он покрыл землю Гель-Грина, как нечаянно заснувшую девушку пледом. «Я думал, у вас весна», – сказал Стефан днем Жан-Жюлю; они шли вместе между легкими, как кружево, домиками, вагончиками, превратившимися под снегом в загадочные избушки эльфов, гномов; – Томас Кинкейд такой; вели мальчиков в детсад; один из домиков, с детской площадкой, той самой, которую видел Стефан в ночь приезда; Цвет побежал к другим детям, лепившим снежную бабу; они приветствовали его индейским кличем и закидали снежками. Свет побрел к площадке, как еще чужой, медленно, подволакивая ноги, – и Стефан впервые посмотрел ему вслед, увидел: Свет шел, как Река и как Жан-Жюль – красиво и неуверенно, словно знал, что ему смотрят вслед; Стефан испуганно обернулся на Жан-Жюля: «Что?» – «Ты говоришь: у вас… ты еще не чувствуешь себя гельгриновцем…» Стефан спрятал нос в сырой соленый воротник. «Я написал материал про план города, кому его нужно показывать?» – «Про город – мне, про порт – Расмусу, про другие работы – раскопки, пласты, лес – Анри-Полю». – «А где он?» – «В горах, с бригадой; ищут остатки пропавших цивилизаций; ну и полезные ископаемые от случая к случаю», – и засмеялся; толкнул Стефана в бок, показал на снег: «Покидаемся?» – и Стефан не успел сообразить, о чем это он, как снежок влетел ему в лоб…
Мокрые, они ввалились в мэрию; Лютеция подняла темные глаза от чертежа: «О бог мой», вытаращила, как в мультиках; поставила сразу чайник, вытащила из ящика стола гречишный мед: он пах, как она, – ночью, травой; Жан-Жюль разулся, поставил ноги в синих с Пиноккио носочках на батарею, закурил – суперлегкие, стал читать статью, медленно шевеля губами, словно заучивая наизусть; Стефан молча балдел – Жан-Жюль нравился ему, как вещь на витрине. «Хорошо», – и перекинул Лютеции через стол для уточнений; она почиркала термины карандашом, вынутым из-за уха, налила всем чаю и вернулась к работе. Так застал их Расмус, мокрый, заснеженный, волосы в сосульки: Стефан исправляет старательно, язык набок; Лютеция чертит, в черном свитере, волосы темные в пучок, элегантная, как роза; Жан-Жюль греется у батареи с сигаретой.
– Ничего себе! Я там в порту по уши в грязи, вытаскиваю чуть ли не зубами трактора из моря, думаю, где мэр – поддержать морально; где журналист – описать всё в пестрых красках; а они сидят у самой красивой девушки города в тепле и уюте, попивают чай, покуривают свои суперлегкие, паршивцы; я тоже хочу чаю! – и скинул сапоги, высокие, тонкие, из черной кожи, скрипящие при ходьбе, как старая дверь, закатал штаны и поставил ноги на батарею, потеснив жан-жюлевские; его носки были совсем безумные – полосатые, черно-красно-желтые, под колено, почти гольфы, и вязаные. «Бабушка с Антуаном присылает», – пояснил он, набивая трубку; Стефан представил себе бабушку Расмуса – такую же худую, с узким и выразительным лицом, с богатым прошлым, до сих пор красное нижнее белье – и сжал губы; смеяться хотелось, как в туалет. Но Лютецию произошедшее не шокировало ничуть; она налила чаю с бергамотом и медом в третью чашку – все они были из синего стекла – и вернулась к работе.
– Как дети? – начал светский разговор Расмус. – Не жалуются?
– На что?
– На воспитательницу…
Жан-Жюль опять прыснул в чашку, как чихнул – обрызгал себя и Стефана, извинился; видимо, шутка была для посвященных. Стефан опять почувствовал себя чужим, никому не нужным, странным и невысоким; он поставил свой чай на столик и сказал: «Нет; я не разговаривал с ними никогда» и стал смотреть в пол, деревянный, некрашеный, со следами грязных ботинок. Кто здесь убирает? Неужели стройная, как экзотичная статуэтка, Лютеция? Набирает полное ведро воды, шлепает тряпку на швабру из этой же сосны…
– Ты что надулся, ван Марвес; я не хотел тебя обидеть, просто воспитательница в детском саду – моя младшая сестра, девочка с причудами, потому и спросил; а ты сразу в бутылек лезть, как сувенирный кораблик. – Расмус поставил свою чашку рядом, надел аккуратно сапоги: штаны он вправлял внутрь, оттого казалось, что сапоги и штаны – целое; длинные черные ноги – спасибо, Лютеция, прости, что очередной раз вваливаемся к тебе, ведем себя как мужланы без высшего образования; а ты, обида, пойдешь со мной, на бульдозер посмотришь и вообще – творческие планы на будущее…
Лютеция коснулась на прощание его руки, легко, как птица; «хорошо написано; правда это будет самый прекрасный город на свете?»; и весь оставшийся день он провел с Расмусом; человеком-ножом, средние века, века рыцарства; смотрел на море. К обеду опять пошел снег, полетел с моря в лицо, мешал смотреть; бульдозер втащили на насыпь, превратившуюся в месиво. «Непогода», – сказал в обед Тонин; пирог с брусникой – из лесов вокруг; печенные с сахаром яблоки, куриная отбивная; два кофе, с вишневым ликером и по-венски, – шоколад теперь словно нарубили топором. «Он знает», – сказал Расмус и объявил в порту штормовое предупреждение, конец работ; позвонил по черному сотовому величиной с кусок брусничного пирога Жан-Жюлю. «Здесь есть связь?» – у него значок связи всегда был перечеркнут. «Да когда как: хотят – работают, не хотят – не работают; только у Анри-Поля всегда всё хорошо; его Гель-Грин любит, и еще иногда слышатся чьи-то чужие разговоры – на всех языках; даже совсем странные – будто из прошлого века; первые телефоны, как патефоны; приглашают друг друга в оперу… на что, правда, не слышно…» Стефан так и не понял: шутил Расмус или рассказывал историю. «Пойдем лучше заберем твоих детей и засядете дома с чаем, как весь Гель-Грин; и еще – заберем из садика кроватки; Тонин сказал, что сделал их и оставил там». – «Тонин?» – «Да, он делает здесь все, что из дерева; первый плотник на деревне; весь поселок строил»… Они шли сквозь снег, густой уже как ткань, занавески из тюля на бабушкиной кухне; на детской площадке стояла большая снежная баба: настоящая морковка вместо носа, как на открытках рождественских, и глаза из пуговиц – синяя и красная; на верхнем шаре шляпа из соломки, полная искусственных розочек за лентой. Расмус улыбнулся незнакомо, ласково и одновременно остро – все из-за этих своих скул и губ тонких; постучал в дверь домика. Она открыла дверь и сказала: «О, привет; опять штормовое предупреждение или это я что-нибудь натворила?» – и Стефан понял, что ни о чем не думает. Расмус вошел, он следом: комната с камином, ковер пушистый на полу, белый, в разбросанных игрушках – медведи, зайцы, собаки с разноцветными ушами и лапами, юлы, кубики, пазлы – иезуитская «Деи Глория», классическая бригантина, конструкторы, пара кукол с длинными волосами, в платьях из шелка со шлейфами и кружевами; в камине трещал настоящий огонь, рядом на полу лежали аккуратно в башенке дрова; одно огромное кресло, тоже белое, как та снежная баба; в нём книги и коробка конфет; фантики тоже повсюду и книги – большие, с картинками, и маленькие, со стихами, и много-много картин – кто-то баловался акварелью. Посреди всего стояла эта девушка – она была как зима, наступившая в жизни Стефана, Гель-Грина; хрустальный бокал, маленькая, тонкая, хрупкая, в белом свитере и белых велюровых бриджах, босиком; накрашенные ноготки, как у белки, – крошечные в серебристый; тонкое-тонкое, словно карандашом рисованное лицо; серые глаза с орех и много-много волос – целая шапка: белокурых, с золотом, до узеньких плеч. Это была сестра Расмуса – Гилти; они были совсем не похожи, как Свет и Цвет. У камина сидел и читал Свет, ноги лотосом, своего Набокова «Дар»; Цвет буйствовал с игрушками: плюшевые изображали солдатиков своей стороны, а пластмассовые – враждебной.
– Всех остальных уже забрали, – сказала она, переминаясь с пальцев на пятку, словно готовясь к сложному па. – Тонин поставил кровати в кухне; только в его вагончик они не влезут: Тон их на вырост делал, лет где-то до двадцати включительно…
– Очень смешно. Стефан, это Гилти, моя сестра и воспитательница ваших детей. Не поверите, но у неё на самом деле высшее педагогическое, начальные классы, – и Расмус подхватил на плечи Цвета, примчавшегося в восторге узнавания: дядя, у которого карманы полны ключей и ракушек.
– У меня в детстве была книжка скандинавских сказок, там так одну великаншу звали – Гилти, – отомстил Стефан за «его»; вокруг была комната, игрушки, дерево, за окном хлестал ледяной соленый дождь, и ветер рвал с корнем корабельные сосны – на мачты, по приказу моря; Расмус говорил что-то еще – Цвету, похожему на стопку гладиолусов; но всё как сквозь воду – Стефан стоял и смотрел, как она улыбается еле-еле, так начинает падать снег. «Я тебя знаю сто лет, помнишь? Бузинная Матушка благословила нас в весну, а осенью тебя заколдовали в лебедя; и я шла сквозь миры и болота, искала тебя, помнишь? Я сплела тебе рубашку из ивовых прутьев, и ты опять стал маленьким юношей с серыми глазами и с крылом вместо левой руки, помнишь? Мы были с тобой сто лет и умерли в один день, в один час, на большой постели из атласа; и розы разрослись из палисадника в большой сад вокруг нашего дома; и никому не добраться до наших могил, помнишь?» – вот такая это была улыбка – сказка в сто томов; она летала вокруг лица Стефана, как стая белых бабочек; и пахло стеклянным, прозрачным, жасмином и прохладой, как возле ручья.
– Очень смешно, – передразнила она Расмуса – точь-в-точь словно отразилась в зеркале; Расмус обернулся и нахмурился, и Стефан подумал – вот она, обратная сторона Луны; Расмус чертовски боится своей сестры, что она что-нибудь выкинет – знакомый страх; для своей семьи он то же самое, словно постоянно за тобой подглядывают. За окном всё темнело и темнело, словно Гель-Грин неродившийся накрывали куполом; «надо быстрее идти», – сказал Расмус; а она всё стояла и раскачивалась на ступнях, с носочков на пятки, и Стефана завораживали эти движения, как серебряный маятник; они были белые и тонкие, эти ступни, невероятно гибкие, словно ива; потом спросила: «Вы их сейчас заберете или после шторма?» – «Что?» – отозвался Стефан, как из сна про туман.
– Кроватки вы сейчас заберете? После шторма лучше. Вдруг попадете под дождь, а они и вправду тяжелые. Расмусу-то что, он обожает испытания, а вы хрупкий… как… я, – и улыбнулась, словно поняла, какую власть приобрела над бледным юношей с серыми глазами; как сивилла, предсказывающая будущее неуверенному императору; паутина слов и запахов, заглянула в душу, как за портьеру, – но сходите, посмотрите, они из сосны: еще пахнут. Тонин делал их всю ночь; очень хотел, чтобы понравилось… – Стефан покраснел и прошел на кухню, в стеклянную дверь, где виднелась плита. Там тоже всё было белое-белое, словно зимой равнина; ковер на полу; «это потому что она любит ходить босиком», – и ему захотелось прикоснуться к этим ступням, похожим на иву; болезненно в желудке и сердце, будто гриппом заболел; на столе стояли искусственные бело-серебристые цветы, посуда тоже вся белая, французская, для микроволновки; и пахло сладко-сладко. «Ты пекла пирожные? – спросил Расмус сзади, принюхиваясь, как кот; Цвет выворачивал ему карманы, свесившись с плеч вниз головой, – если бы ты знал, ван Марвес, её пирожные – восьмое чудо света: белые крем и сливки с орехами, шоколадная нуга, розовое пралине – средневековая алхимия; она печет потрясающе, но только раз в год; точный день установить не удалось, как и причины, к этому побуждающие, – может, Фрейд, а может, циклон… шучу!» – он увернулся от белого плюшевого медведя с голубым бантом.
– Кстати, – произнесла она голосом «секрет» и потянула с полочки сверток – белая атласная бумага для подарков; Стефан такую в детстве у мамы таскал из стола, чтобы рисовать: грифель ложился на неё сочно, как чернила.
«Что вы», – забормотал Стефан, но она всё улыбалась и улыбалась, белая бабочка летала вокруг, и у него закружилась голова.
– А мне? – проканючил Расмус. – Это несправедливо, я твой старший брат, в конце концов, берег тебя на жизненном пути, когда ты собиралась в постдетсадовском возрасте сорвать кувшинку в озере, где до дна было пять тебя…
– Но всё равно ты меня не любишь, – и она засмеялась тихонько, словно ветер толкнул стеклянные китайские колокольчики; кровати стояли у окна, от них пахло лесом, крепко, как луком, до слез; «да, мы сейчас не упрем»; Расмус потягал одну на вес. «Если они у тебя еще день простоят, простишь Стефану?» – «Стефану?» – пробуя имя на вкус, словно что-то очень горячее; «приходите завтра», – и опять улыбнулась. Стефан повернулся и обнаружил рядом Света, уже одетого: курточка, капюшон, шарфик, книга в руках, в рюкзаке – альбом для акварели, карандаши, краски и кисти; когда Свет не хотел ни с кем разговаривать, он рисовал странные картинки: девушек без лица, с длинными волосами, танцующих на огромных ладонях, словно вырастающих из пламени и цветов; маленькая игрушка – стеклянный шар со снегом и домиком-шале внутри: Свету привезли его из Швейцарии бабушка и дедушка, и он раньше даже спал с шариком под подушкой. Стефану он всегда казался кристаллом колдуна; ловцом снов. Он потянул было и Цвета с Расмуса – тоже в куртку, да тот разорался, даже укусил отца за палец; Расмус хохотал, уворачивался, прыгал по мягким медвежатам на полу, и они с Цветом стали играть в идальго. Стефан стоял и думал: я ничего не умею, не понимаю, а в комнате становилось всё темнее и темнее. Гилти выглянула за окно; «шторм, – напомнила она мальчишкам, – унесет вас в море – и поминай как звали, четыре «Летучих Голландца». Расмус поцеловал её в нос, покорно подставленный, и вынес Цвета без куртки – и на них упало небо, открывшееся огромной пропастью над головой, страшное, как в полнолуние, серебристо-черное, дышавшее холодом и влагой; Стефан почувствовал воздух, плотный, словно кусок натянутой ткани, мокрый атлас, настолько полный влаги и соли, что хрустел на зубах; соль мгновенно осела на плечи инеем, а море стало совершенно бесцветным, и только клубилось что-то на горизонте, будто армада парусных кораблей.
– Надо быстрее, мне еще добираться к себе, – и Расмус с Цветом на плечах зашагал широко, словно сказочный великан; Стефан еле-еле поспевал за его длинными, как сосны, ногами. Свет тихонько семенил рядом; книга по-прежнему была в его маленьких и тонких руках, запястья как из стекла; не пыхтел, не жаловался на быстроту; и Стефан расстроился, что невысокий, несильный, не умеет, не может. «Помочь?» – но Свет мотнул головой.
В вагончике было темно. «Свет отключили, – сказал Расмус, – не пугайтесь, так всегда во время предупреждения; на улицу не выходите, естественно; свечи в шкафу над плитой»; спустил Цвета, взлохматил макушку и ушел, словно его не было никогда, приснился. Стефан закрыл плотно дверь, раздел мальчиков; в чайнике вода была горячая, будто кто-то согрел и спрятался; Свет распечатал пакет – три круглых пирожных: бисквит, посыпанный кокосовой крошкой, – ежики, внутри сливочный крем, тертый шоколад и орехи. Попили чаю при свече, за окном громыхало, потом сказал: «спать» – и они покорно полезли на кровать. Свет при свече читал Набокова; Цвет играл в солдатиков – бугры и складки на одеяле превратились в редуты и окопы; потом заснул с открытым ртом. Стефан правил статью по пометкам Лютеции и Жан-Жюля; иногда в стену ударяло – и вагончик вздрагивал как живой; Свет и Стефан поднимали глаза, смотрели за окно; бил дождь, и по черному стеклу стекала пена. Свет вылез из-под одеяла, сходил в туалет и попросил сока; и Стефан пошел к шкафу, открыл бутылку, сполоснул стакан с прошлой ночи, а когда повернулся, увидел, что Свет стоит у стола и читает с ноутбука его материал.
– Неправильно, – сказал Свет, – вот здесь… – и тронул серебрящийся, как дождливое окно, экран, – «на востоке будут рабочие кварталы». Они будут у самого порта, а на востоке построят вокзал – Бундок, – и глаза его потемнели, а рот приоткрылся, бледно-розовый, узкий, как лезвие; Стефан поставил стакан на стол, сел перед сыном, прикоснулся к его лбу – «заболел», горячий; взял на руки и отнес в постель. Свет вздохнул, повернулся на бок и заснул через секунду. Стефан посидел рядом еще минут пять, слушая рев моря в нескольких метрах от его нового дома, и подумал: «я не жалею? не жалею?..» – повторяя, словно переводя неточность; потом вернулся к ноутбуку, долго смотрел, сверял, зевнул, выпил сок, исправил «от самого порта, на востоке планируется построить вокзал» и понял, что до смерти устал; откинул одеяло и завалился прямо в домашних джинсах и свитере…
«Надену утром куртку, пальто промокло невыносимо», – и казалось ему, что он только коснулся лицом подушки, такой желанной, как женщина в средние века; как стук в дверь и голос Жан-Жюля, звонкий, словно он увидел землю.
– Проснись, проснись, Стефан! Анри-Поль вернулся! – Стефан застонал, нашарил носки, сапоги, надел опять, забыв, сырое, тяжелое, как собрание сочинений Диккенса, пальто и вышел из вагончика. Шторм завалил на детской площадке один «грибок», закрутил качели; на песке было полно водорослей и незнакомого цвета камней, ракушек; Цвет уже, вереща, скакал и собирал их, в пижамке и одеяле. В Гель-Грине было одновременно и ясно, и пасмурно; так бывает после долгой ссоры в отношениях, когда люди долго кричали, разбили что-то дорогое, а потом помирились благодаря мудрости одного, благоразумию другого, но еще не привыкли к миру; чувство вины и чуть было не потерянной нежности. Над сопками висел туман, прозрачный у краев, как красивое нижнее белье, открывая розовое и зеленое; небо, несмотря на туман, уходило глубоко ввысь, и казалось, там кто-то летает. Антуан, не пропавший без вести, потому что его ждут… Море было серым – но не как вчера, а серебристым, огромное количество пены у берега, будто кружевные капитанские манжеты. Свет сидел на пороге вагончика в куртке, тоже поверх пижамы; ноги в смешных шерстяных носках – в лучших традициях Гель-Грина – желтых, с черными носочками и пятками, читал своего Набокова; стеклянный шар лежал у его ног, будто ждал приказаний. «Ты в порядке?» – спросил Стефан; Свет поглядел на него удивленно, как на незнакомца, огромными глазами, и Стефан увидел, что они цвета вчерашнего неба. Жан-Жюль уже тянул его за рукав: «О боже, Стефан, у тебя пальто насквозь мокрое, через пару дней пойдет плесенью. Хочешь, Антуан привезет тебе куртку…» – а сам совсем не здесь, не со Стефаном, маленьким юношей; вперед, вперед, будто у кого-то день рождения или узрел чудо и боится, что не поверят; пока еще сохранились следы на траве… Доски-тротуары не скрипели, даже не прогибались под Жан-Жюлем – так быстро он бежал, летел, словно одуванчик; Стефан не поспевал следом: с недосыпа кружилась голова, и все эти перепады давления, хотелось есть, пересохло горло; а Жан-Жюль бежал так отчаянно, как подросток или от чего-то страшного – от лавины или обвала камней; Стефану даже передался этот ужас – он оглядывался, нет ли там чего сзади; и возле порта, у самых голых свай, они врезались в толпу рабочих. Стефан подумал, что никогда не поедет с Жан-Жюлем на машине; на здоровом булыжнике поодаль сидел Расмус, куривший трубку.
– О, привет, ван Марвес, – протянул руку, – не выспался, не просох, бедняга, – пожал и выпустил дым. – Что-то случилось?
– А где Анри-Поль? – Жан-Жюль раскраснелся от бега, выкрикнул, будто своя жизнь для него уже потеряла смысл.
– Анри-Поль? – переспросил Расмус, будто время. – Ты что, Жан-Жюль? У вас дома; моется, ест, курит; где ему еще быть? – Жан-Жюль посмотрел на него дико, как зверь, потом остановился, прикоснулся ко лбу, засмеялся тихо: «О боже, прости, Расмус», – и побежал обратно по деревянным тротуарам. – Садись, Марвес, раз никуда не торопишься больше; табаку?.. а, ты ж не куришь… – и продолжил дальше слушать спор рабочих со стороны, как на сцене. Оказывается, во время шторма снесло все наметки из дерева для верфей; теперь решают – делать их по-старому или вообще убрать из порта и сделать в реке Лилиан: туда не доходит шторм, и лес для деталей рядом…
– А твое решающее слово?
– Как начальника порта? Мне кажется, я приношу порту одни несчастья. Уже полгода, а дальше наметок и свай я не продвинулся; сезон весны здесь – не любовь, а штормы и снег; в прошлый раз унесло в открытое море кран стоимостью миллион евро… Скоро меня, глядишь, окрестят Ионой и отправят следом… – он докурил и спрятал трубку в карман куртки, уткнул острый подбородок в воротник, но несчастным не выглядел; скоро рабочие подошли, сели на песок рядом; верфи решено было передвинуть к реке Лилиан – так просто, голосованием рабочих, будто этот город игрушечный. – Есть хочешь?.. конечно, тебя, беднягу, выдернули небось из постели, века невинности; ребята, это Стефан ван Марвес, наш журналист; он будет к вам приставать с вопросами и фотоаппаратом, но вы не пугайтесь – говорите, что думаете, даже обо мне, разрешаю, Дэвис, – и широкой толпой, растянувшись по тротуарам, они пошли к «Счастливчику Джеку»: табачный дым там стоял как пороховой после битвы с Наполеоном; все обсуждали шторм, у кого что пострадало. Расмус сел, как обычно, у окна, теперь Стефан догадался почему – оно выходило на домик Лютеции; «возьмешь мне кофе, а? и спроси, что сегодня съедобно; ты Тонину нравишься»; а когда вернулся, увидел, что за столиком их трое – Жан-Жюль и еще какой-то парень, высокий, темноволосый, с носом как бушприт, в красном свитере и сине-лиловых джинсах.
– Привет, – сказал неуверенно Стефан; кофе жгло пальцы, а незнакомый парень сидел на его месте и не думал двигаться; еле обернулся на приветствие и сквозь трубку в зубах кинул: «Капучино и черный с лимоном».
– Я не официант, – сказал Стефан отчетливо, так что обернулись соседи, – кофе, сука, горячий, сейчас пролью прямо на голову…
– Ты что, Анри-Поль, это же Стефан, наш журналист, – Жан-Жюль покраснел, как вечернее небо, и вскочил со скамьи, выхватил у Стефана чашки; незнакомец наконец обернулся – оказался ярким, как фламандский натюрморт: темные брови, губы вишневые, глаза темно-карие, шоколад горький с апельсином; и густые, черные, бархатные, поглощающие свет солнца ресницы; словно комната в старинном замке – богато убранная, с мебелью красного дерева, вышитыми золотом гобеленами, и в глубине мерцает камин; тоже густо покраснел и вытащил трубку изо рта, встал неловко, задрожали чашки. «Совсем не похожи, – подумал Стефан, – как Свет и Цвет, где истина?» – а парень протянул ему руку, как мост, через стол: «Простите меня, ради бога, просто вы такой маленький, тонкий, я подумал – Альберт, садитесь, пожалуйста» – и Стефан сел рядом.
– Всё начальство собралось, – зевнул Расмус, – только Рири Тулуза не хватает.
– Это наш второй геолог, – объяснил Жан-Жюль, – он сейчас в экспедиции, он тоже очень классный; они с Анри-Полем учились вместе – и в школе, и в университете; здесь все братья». Да, здесь все братья, повторил про себя Стефан и подумал – что-то изменилось, Расмуса словно поменяли; пришли чужие, нашептали в ухо; он выглядел усталым, будто всю ночь смотрел телевизор. Подошел Альберт – вербная веточка; принял заказ на два кофе, четыре пирога с капустой и брусникой, четыре яичницы с беконом и перцем, салат из кальмаров – Расмусу, из морской капусты – Стефану; за соседними столиками поворачивались, орали: «Здравствуйте, Анри-Поль, вернулись? как горы?» – и Анри-Поль улыбался и отвечал: «Стоят…»; подходили к столику, пахли рыбой, жали ему руку жесткими, как жесть, ладонями; стоял шум и гам. Расмус задремал, опершись на окно, сполз лбом по запотевшему стеклу.
– Расмус…
– А-а, – он подскочил, побледневший, и Стефан подумал: а что снится Расмусу, начальнику порта, средневековому рыцарю, – сражения со святой Жанной или же пустая вода? – тебя Луи спрашивает. Луи – бригадир: огромная роба в соли, как в блестках, кирзачи. Расмус завернул пирог в салфетку, ушел. «Что с ним?» – «Маяк чинил» – «маяк?..» Дежавю; Жан-Жюль улыбнулся в капучинные усы.
– Когда у Расмуса депрессия, он уходит и чинит маяк… Ты не знал про маяк? Это же герб Гель-Грина – старый маяк на каменистой косе у сопок… Расскажи, Анри-Поль, – Жан-Жюль выглядел как фокусник.
– Вас, наверное, сразу работой закидали, – трубка перестала выглядеть невежливостью, потому что Анри-Поль курил всегда, как старые моряки с черными от моря руками, – даже на экскурсию не сводили. Мы когда летели на вертолете, искали место для порта – на карте вычисленное, первое, что заметили, – маяк. Он не просто старый – он древний; остался от другой цивилизации; Древний Рим или викинги, век второй предположительно. Из камня, серого, белого; замыкает бухту с севера. Механизм сломан безнадежно, половина деталей отсутствует – и непонятно, как должен выглядеть; но Расмус азартен – хочет его починить, говорит, что Гель-Грин начнется только тогда, когда загорится этот маяк, позовет корабли со дна моря…
– Жуть, – Стефан стряхнул мурашки, – и в это верят?
– Как знать, – сказал Анри-Поль и выдохнул дым, тоже пахнущий деревом, и глаза его таинственно мерцали сквозь этот дым, как елка рождественская в темной гостиной, – но сходить посмотреть всё-таки стоит…
И улыбнулся, как Гилти; словно знал Стефана в прошлой жизни; и Стефан опять очутился на изломе миров; Анри-Поль сидел за столом, и курил, и вырастал до размеров горы; Гель-Грин вставал за его спиной как войско; а потом пришел Расмус, мокрый от моря, прокричал: «Ван Марвес, за мной, сенсация для первых полос!» – и увел в туман, опустившийся на воду, на реку Лилиан; Стефан стоял и дышал соснами – настоящими корабельными, в каждой из них – грот-мачта как призвание; рабочие перевозили доски и конструкции для верфей. «В Гель-Грине будут строить корабли» называлась статья; назавтра приехали американцы с камерами; Жан-Жюль шага им не разрешил ступить без Стефана: «У нас есть свой журналист, все вопросы к нему и все вопросы только от него»; и Стефан думал – я капитан, про маяк и про Гилти… Среди дней, пока снимали фильм, он увидел её в «Счастливчике Джеке», она тоже увидела, помахала рукой; вспыхнул, как костер с сухим топливом, оглянулся – не увидел ли кто; захотелось унести приветствие, как щенка подобранного, на груди; спрятать и жить, никому не рассказывать; оказалось, она иногда помогает Альберту, в дни выходных, когда все рабочие идут пить в «Счастливчика Джека»; в клетчатом сине-зелено-белом фартуке она была похожа на переодетую принцессу: разносила пиво, квас, пироги, вытирала столы, слушала шутки: «Как там мой сын, Гилти?» – «Весь в отца»; но никто не обижал её, как боялся Стефан, зажавшись в углу с Жан-Жюлем и кофе по-венски, готовый вскочить при первом же махе ресниц; сестра Расмуса Роулинга, передавали через плечо новичкам, воспитательница. «Она еще иногда торты печет, когда у кого-то из рабочих день рождения», – сказал Жан-Жюль и подмигнул, прочитал всё на лице Стефана, удлиненном, как перо; «она красивая», – пробормотал Стефан и уткнулся в свой блокнот; «ничего», – согласился Жан-Жюль и опять улыбнулся, будто вспомнив что-то смешное не отсюда, из глубины…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: