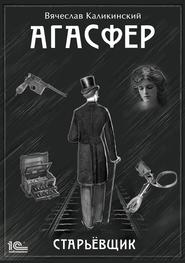скачать книгу бесплатно
Ни самодержец, ни Витте, ни Архипов так до конца жизни и не узнали, что Европе по большому счету не было до пресловутой «Дружины» никакого дела.
Ну убивают русские своих царей – и Бог с ними! Подкладывают бомбы, стреляют – это, в конце концов, чисто русские дела.
И когда «ура-патриот» Витте стал у финансового руля России, следовало поссорить его с полковником и его командой. Причем Сергей Юльевич обиделся не на государя, а на «фискала» Архипова. Это был первым из вбитых клиньев!
Дело в том, что карьере Сергея Юльевича Витте едва не помешал второй, последовавший после смерти первой жены, брак. Новая избранница, Матильда Липасевич (в девичестве Нурок), оказалась не только еврейкой, но вдобавок еще и разведенной.
Новая супруга, несмотря на более чем солидные взносы, перечисленные Витте в благотворительные фонды под патронажем великих княгинь (обычно это снимало все вопросы!), и, несмотря на все усилия и немалый авторитет финансового гения Витте, так и не была принята при дворе. Ну не любил наш монарх евреев – и все тут!
Поначалу Витте старался не обращать внимания на едкие эпиграммы и замаскированные насмешки придворной камарильи, добросовестно передаваемые ему «доброжелателями». Старался – до тех пор, пока «неизвестные доброжелатели» не довели до его сведения, что автор большинства эпиграмм и злых стишков опять-таки… полковник Архипов!
Такое простить уже было нельзя – даже с учетом того обстоятельства, что Витте был не только высочайше назначен министром финансов империи, но и получил одновременно чин действительного статского советника и стал почетным членом императорской Академии наук.
Полномочия нового министра финансов были необычайно широки и включали, помимо всего прочего, продолжение военной реформы, начатой еще при Александре II. Не утомляя читателя подробностями, суть этой реформы можно охарактеризовать весьма кратко: строжайшая экономия. А паче чаяния – в мирное время.
А тут – нате вам! Какой-то полковник из Главного штаба военного ведомства – «ябедник» и «рифмоплет» – печется о создании новой структуры для борьбы со шпионством! Структуры заведомо дорогостоящей, и к тому же совершенно излишней в мирное время! Раздражение амбициозного Витте, не признающего иных авторитетов в финансовых делах, кроме собственного, было вовремя и умело подогрето нашептыванием ближнего окружения, приписывавшего авторство очередной эпиграммы по адресу рвущихся к русскому трону «дочерей Израилевых» полковнику Архипову.
Такого Сергей Юльевич терпеть не пожелал и, получив очередную верноподданническую реляцию Архипова о необходимости неотложной борьбы со шпионством на государственном уровне, вызвал полковника к себе.
Обрадованный вызовом, Архипов (наконец-то заметили в верхах грозящую России опасность!) явился к Витте с целой охапкой бумаг, подтверждающих его опасения относительно засилья иностранной агентуры в столице.
– Милостивый государь, я пригласил вас не для того, чтобы выслушивать ваши измышления о вредности для отчизны лиц немецкого происхождения! – Витте, не предложив посетителю сесть, встал сам, опираясь на обширный стол костяшками сжатых в кулаки пальцев. – Как истинный патриот, я раз и навсегда запрещаю вам смущать государя мнимыми угрозами, якобы подстерегающими Россию в «коварной Европе»!
Архипов был растерян: одно дело – выслушивать внушение от непосредственного воинского начальства, и совсем другое – от статского министра. Правда, именно от Витте во многом зависело финансирование армии. И полковник сдержался:
– Но, ваше высокопревосходительство, я располагаю неопровержимыми свидетельствами, что в русских сейфах беззастенчиво орудуют английские, прусские и австрийские шпионы! Это не только оскорбительно для нашей отчизны, но и наносит ей непоправимый военный и экономический ущерб!
– Немцы и прочие европейцы издавна селились на берегах Невы, милостивый государь! Позволю напомнить вам – еще с ведома и по приглашению царя Петра! Селились и своими техническими достижениями премного продвинули Россию, поставив ее в один ряд с цивилизованной Европой! Впрочем, я не уверен, что русское офицерство в достаточном мере осведомлено об этом.
– А штаб-ротмистр Мясоедов[18 - По некоторым источникам, жандармский штаб-ротмистр Мясоедов был осведомителем германской разведки. Несмотря на то что расследование о его причастности к германскому шпионажу вели три независимых серьезных органа, выявить компрометирующие данные так и не удалось. Пойман с поличным Мясоедов был в 1912 году, однако его шпионская деятельность началась много раньше, в упоминаемое Архиповым время.], ваше высокопревосходительство? Что вы скажете о Мясоедове?
– Фи, милостивый государь! В хорошем стаде, как говорится, не без паршивой овцы! Чья «паршивость», кстати говоря, пока никем не доказана!
Вежливо улыбнувшись, Архипов безошибочно выудил из кипы принесенных папок несколько отмеченных зелеными корешками.
– Хорошее стадо, ваше высокопревосходительство? А как вы расцените ежемесячную «дотацию» в одну тысячу рублей, получаемую из австрийского посольства газетой «Вечерний голос»? За эти деньги несколько газетчиков вступили в сговор со скупщиками макулатуры и рассылали по определенным адресам черновики делопроизводства – по большей части с грифом «Весьма секретно». У них на содержании были букинисты, которые покупали после смерти крупных военных чинов ненужные их наследникам «скучные библиотеки». Между прочим, среди этой якобы «макулатуры» нередко попадались секретнейшие издания Главного управления Генерального штаба! Неужели ваше высокопревосходительство никогда не слыхало о скандале с директором Сестрорецкого оружейного завода генерал-майором Дмитриевым-Бойцуровым? Он совершил крупную растрату, и представьте, ему тут же, «совершенно случайно», на пути попался один из опытнейших вербовщиков Германского генерального штаба, охотно и на особых условиях ссудивший нужную для покрытия сумму! Позвольте спросить, чем, интересно, Бойцуров будет рассчитываться с немцами?
Умерьте свой пыл, господин полковник! – недовольно поморщился Витте. – У меня не слишком много времени – государственные дела, знаете ли! Я не могу себе позволить, в отличие от нашего генералитета, столь бурно фантазировать! Буду краток: уже не в первый раз, милостивый государь, вы и ваши приспешники подаете государю докладные записки о необходимости создания сверхсекретной организации по борьбе со шпионством в России, каковая должна иметь постоянный штат и, соответственно, постоянный источник финансирования. И немалый, господин полковник! Цифра содержания подобной организации, помноженная на число военных округов в России, способна свести «на нет» все мои усилия по укреплению рубля. Усилия, заметьте, получившие всемерное одобрение со стороны его величества! Вы предлагаете мне заняться этим вместе с вами?!
Архипов давно уже понял, что конструктивного разговора со всесильным министром финансов не будет, и едва удержался от язвительного замечания относительно статьи расходов царского семейства по безудержной закупке предметов искусства, всячески поощряемой финансовым министерством. Тратились на это, разумеется, кабинетские деньги, однако при дворе ходили слухи о регулярном пополнении личных кошельков Александра III и его супруги за счет казны.
Конечно, придворный этикет и церемониал при последнем императоре стали гораздо проще. Царь сократил штат министерства двора, уменьшил число слуг и ввел строгий надзор за расходованием денег. Дошло до того, что дорогие заграничные вина на царском столе даже во время официальных приемов заменялись крымскими и кавказскими, а число балов ограничилось четырьмя в год.
Вместе с тем на приобретение предметов искусства тратились поистине чудовищные деньги. Будучи еще наследником, в молодости царь обучался рисованию у профессоров живописи, а позже продолжил рисовать вместе с супругой Марией Федоровной под руководством академика А. П. Боголюбова. После восшествия на престол Александр III из-за загруженности делами оставил занятия художествами, сохранив, однако, на всю жизнь любовь к искусству.
Да бог бы с государевым пристрастием и к его собственной, весьма посредственной, по оценке современников, «мазне»! Однако император стал страстным коллекционером, уступая в этом отношении разве что Екатерине II. Гатчинский замок, в котором практически постоянно проживал император, превратился буквально в склад бесценных сокровищ. Предметы искусства уже не помещались в галереях Зимнего, Аничкова и других дворцов. Причем зачастую они закупались без оценки авторитетных экспертов и являлись, откровенно говоря, малохудожественной дрянью.
Как ни горько это сознавать, размышлял Архипов, стараясь не поднимать глаза на внушительную фигуру всесильного министра финансов, но пара полотен иностранных живописцев или итальянских скульптур вполне могли бы решить начальные хлопоты по созданию контрразведывательной организации в России.
– Давайте присядем, – вдруг миролюбиво предложил министр. – Давайте присядем и вместе подумаем, стоит ли предлагаемая вами затея стольких сломанных вокруг нее копий? Скажите-ка по совести, Андрей Андреевич, нужна ли России проводимая вот уже около двух десятков лет военная реформа?
– Безусловно! – тотчас же согласился Архипов.
– И вы наверняка согласитесь, друг мой, что меры по реорганизации армии позволили существенно снизить расходы на ее содержание в мирное время?
Архипов мысленно усмехнулся: он сразу понял, куда клонит Витте.
– Поймите, Андрей Андреич, я целиком и полностью согласен с вами относительно необходимости борьбы со шпионством! Но почему бы не создать такую организацию по примеру военного ополчения? Чем оно плохо, милостивый государь? И зачем, скажите на милость, нам постоянно держать «под ружьем» сотни и, возможно, даже тысячи людей – в мирное-то время, а? Начнется война – не дай бог, конечно! – Витте набожно перекрестился. – Начнется война – вот тут вашему контрразведывательному «ополчению» и раздолье! Ловите! Сажайте, расстреливайте…
– Вы охотник, ваше высокопревосходительство? – неожиданно спросил Архипов, уже начавший укладывать на диване рядом с собой принесенные, но оказавшиеся ненужными документы.
– Да так, знаете ли, от случая к случаю, – не учуял поначалу ловушки Витте. – Не люблю, признаться, я этого дела… Мокнешь, мерзнешь – а куда деваться прикажете, ежели получил высочайшее приглашение?[19 - Александр увлекался охотой и рыбалкой. Часто летом царская семья уезжала в финские шхеры. Любимым местом охоты императора была Беловежская пуща. Иногда императорская семья вместо отдыха в шхерах уезжала в Польшу, в Ловическое княжество, и там с азартом предавалась охотничьим забавам, особенно охоте на оленей. Обычно в охотничьих забавах царя по его личному приглашению принимали участие и его ближайшие министры, чем немало гордились.]
– Рискну предположить, ваше высокопревосходительство, – Архипов встал, почтительно поклонился и направился к дверям. – Рискну предположить, что ваши личные трофеи во время подобных «ополченческих» охот оставляют желать лучшего. Не так ли? Не зная ни особенностей местности, ни повадок зверя и его привычек, трудно рассчитывать на какой-либо успех. Ну, на царской-то охоте егеря, допустим, помогут – подскажут, где логово зверя, направят его в нужное место, добьют, в случае чего… Ну а нам-то, российским патриотам, где таких егерей взять? Коли и сами охотиться не умеем, и навыками не владеем. Нешто из-за границы приглашать?
Сергей Юльевич Витте, будучи опытным царедворцем, умел держать удар. Моментально поняв, что попался, он вынужденно рассмеялся, провел гребнем по пушистым бакенбардам и кивнул Архипову:
– А я, милостивый государь, давно уже приметил ваш острый язычок! И в прозе отличаетесь им, и в поэзии… Не опасаетесь постоянно держать во рту такое опасное и острое оружие, Андрей Андреевич? Надо бы с Ванновским на эту тему поговорить.
Последний, слава богу, оказался слишком умен для того, чтобы бездумно выполнить подсказку всесильного министра финансов и перевести Архипова в какой-нибудь дальний военный округ, подальше от Северной столицы. Поняв после разговора с государем, что Витте свою мысль об удалении из столицы строптивого полковника не оставит, военный министр Ванновский, не желая оставаться без ближнего единомышленника, предложил Архипову почетную отставку. В тот момент это был, пожалуй, единственный выход.
Так и родились со временем архиповские «четверги», на которых приверженцы идеи создания контрразведки обменивались планами, мыслями, поддерживали в себе боевой дух и надежду на скорые перемены.
Имея кое-какое состояние, самостоятельно отставной полковник подобные еженедельные сборища, тем не менее не потянул бы. К тому же массу финансовых средств отвлекало его увлечение древней механикой, да и содержание особняка, прислуги и необходимых в его ремесле помощников обходилось в «копеечку». И сами «четверги» – с приглашением модных оркестров, хорошим шампанским из французских погребов (это уже в пику скуповатому государю, даже иностранных посланников потчевавшего «астраханским кваском») и наймом временной прислуги из лучших рестораций – в одиночку все это было бы для полковника-отставника просто неподъемным.
Именно поэтому «заговорщики», посовещавшись и, невзирая на яростное сопротивление полковника, устроили что-то вроде постоянной складчины: на одной из полок в библиотеке Архипова была водружена объемистая шкатулка, и гости всякий раз пополняли ее пачками казначейских билетов. Чеки, поначалу предложенные кем-то из «контрразведчиков», были по зрелому размышлению отвергнуты: не приведи господи, пойдут слухи о настоящем заговоре – тогда уже отсылкой в дальние гарнизоны и округа не отделаешься!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Покинув временно дом Архипова, начальник Департамента полиции отправился не к себе на Фонтанку 16, а велел ехать на Гороховую, в Охранное отделение. У подъезда Зволянский распорядился свою персональную карету отправить в особняк господина Архипова, а для дальнейших передвижений приготовить «разгонную», можно без конного конвоя: отставной начальник исполнительной полиции Иван Осипович Велио жил совсем неподалеку.
В вестибюле, сбросив плащ на руки ночному сторожу, Зволянский по-молодому взбежал на третий этаж, бесшумно прошагал по темно-красному ковру и рывком открыл дверь присутствия Вельбицкого. То ли адъютант, то ли делопроизводитель начальника в расстегнутом мундире в поте лица трудился между пошатывающимися пирамидами папок. При виде директора Департамента, ничуть не удивившись его позднему визиту, он поднялся, успев застегнуть большинство крючков на мундире.
– У себя? – не дав ему рта раскрыть, мотнул головой Зволянский на дверь кабинета Вельбицкого и, не дожидаясь ответа, распорядился, проходя мимо: – Два стакана чаю покрепче, да мне рюмку очищенной, распорядитесь уж…
– Желаю здравствовать, ваше превосходительство! – как на пружинах подскочил Вельбицкий.
– Трудишься все? – поинтересовался Зволянский. – А в «Мариинке», между прочим, сегодня премьера! Весь свет там нынче, говорят…
– Не весь, выходит, коли и вы, Сергей Эрастович, пренебрегли, – позволил себе пошутить Вельбицкий.
– У нас с тобой другие спектакли, насмотримся, – неопределенно пообещал директор, ловко перехватывая подстаканник из рук делопроизводителя. – А рюмку на стол поставь! И не уходи пока, погоди… Это у нас с Константином Эдуардовичем вроде приза будет! Ну-с, Константин Эдуардович, что у нас нынче срочного на ближайшую недельку запланировано?
Вельбицкого было трудно застать врасплох. Почти не заглядывая в записи, он скороговоркой перечислил наиболее срочные дела. Зволянский еле заметно кивал и, наконец, поднял руку:
– Достаточно. Первые пять дел, почти завершенных, можно пока отложить. Ты запиши-ка пока, Константин Эдуардович: вот эти людишки меня в первую очередь интересуют! – Зволянский бросил на стол Вельбицкого четвертушку бумаги с коротким перечнем фамилий. – И пусть твои орлы очень аккуратно – слышишь, аккуратно! – обратят внимание на стесненные обстоятельства этих человечков, коли таковые имели место год-два-три назад. Ну, долги, скажем, серьезные – и вдруг с неба наследство свалилось, либо выигрыш по заемному билету. Или, скажем… В общем, меня интересуют реальные обстоятельства, могущие способствовать вербовке иностранной агентурой. Понимаешь, о чем я?
– Не первый год замужем, понимаем-с! – позволил себе легкую ухмылку Вельбицкий. – Что-нибудь еще?
– А в первую очередь меня интересует отставной ротмистр Терентьев.
– Помощник господина полковника Архипова? – впервые позволил себе удивиться Вельбицкий. – Его бывший адъютант? Который, чтобы не расставаться с командиром, в отставку вслед за ним подался?!
– Вот именно, вот именно, милостивый государь! Это жены декабристов вслед за своими любимыми в Сибирь рвались, а тут? У него что – болезнь какая-то тайная есть? Прекрасное происхождение, перспективы службы в Главном штабе – лучше не придумаешь! Блестящие реляции – и вдруг отставка! Ну, будь полковник Архипов сам больным, немощным, ухода бы постоянного требовал – тоже было бы понятно! Воевал бы с ним, шинелькой одной укрывались – так нет же! Так что ты покопай, покопай, Константин Эдуардович! В полку его прежнем – в первую очередь! Только осторожненько!
– Действительно, странно, – нахмурился Вельбицкий, жирно подчеркивая имя Терентьева в ежедневнике. – Что-нибудь еще, ваше превосходительство?
– Пока все. Хотя нет! За кем у нас Полли-Полячек числится? За Евдокимовым? Евдокимова и всю его команду ко мне завтра к восьми утра! И поглядим тогда, что день грядущий нам покажет! – Директор с сожалением поглядел на запотевшую рюмку очищенной, встал, помял поясницу. – Ивану Осипычу Велио[20 - Тайный советник И. О. Велио в 1866 году был назначен начальником исполнительной полиции.] протелефонируй, пока я еду к нему – не дай бог, уже спать завалился! Старички – они такие…
– Не извольте беспокоиться, – снова усмехнулся Вельбицкий. – По имеющимся данным, Иван Осипович почивать ложится не ранее одного часа пополуночи, а до той поры истязает своего дворецкого игрою в шахматы. Зато и спит потом до обеда… А команду Евдокимова с «Астории» в это время снимать никак нельзя-с! Не приведи господи, заметит немчик подмену в персонале – а сколько трудов положено, пока внедряли-с! Сами извольте пожаловать в гостиницу, коли нужда неотложная! Я, грешник, завсегда свеженькое предписание санитарной службы для таких экстренных случаев держу-с.
– И все-то ты знаешь! И все-то ты держишь! – удивился Зволянский. – Ну ладно, с нынешним жульем понятно – это твоя работа, которую всяк хорошо знать должен. А старик-отставник Велио? Он-то по какой причине к тебе на заметку попал, а?
– По правде сказать, старик одно время «желтобилетницами» увлекался, – не стал скрывать Вельбицкий. – Он же вдовец! Как стемнеет – старец наш, аки тать в нощи, с дворецким своим караулил на своем углу «девочек». Один-то побаивался поздно на улицу выходить… Да ничего особенного, ваше превосходительство, – заторопился Вельбицкий. – Не будучи способен физиологически, так сказать, соответствовать, в баньку девочек водил, мыться просил, да за мытьем и наблюдал-с. А потом часто платить отказывался: плохо-де мылись курвы… Ну, те в крик, естественно. Жалобы пошли-с. Пришлось старичку аккуратное внушеньице сделать.
– Твой приз! Пей! – велел, смеясь, директор. – Удивил, ничего не скажешь! А санитарное твое предписание, ежели что, подозрений в гостинице не вызовет?
– Бороденку наклеим-с, очки синие дадим, фартучек беленький… Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство!
* * *
– Да нет, Иван Осипович, никакой беды не стряслось – вот, мимо проезжал, гляжу – окна светятся в знакомом этаже. Дай, думаю, заеду – может, не спит старый товарищ! Вдруг рюмку коньяку нальет новомодного, шустовского. Впрочем, у меня к вам, Иван Осипович, и вопросец имеется! Вы ж, как народ говорит, за мемуары взялись…
Старик, поначалу встревоженный неожиданным визитом, успокоился до того, что велел дворецкому подлить в лохань горячей воды – на ночь глядючи выводил старец вечные мозоли. А шахматная доска, как и предсказывал Вельбицкий, стояла поперек грязноватого пледа, прикрывающего тощие колени.
– Мемуары – это да, Сергей Эрастович. Вот вымрет наше поколение, аки мамонты в стародавние времена, – кому вспомнить-то старое? Да-с… А вот с шустовским у меня беда, гостюшка дорогой. Племенник днями заходил, да все и вылакал, ирод!
– Вот беда так беда! – хохотнул Зволянский. Умел он, не подавая виду, примечать даже самые легкие телодвижения собеседника. И по тому, как непередаваемо сыграл старик-дворецкий бровями, сразу смекнул – что за племянник тут был. – Вот беда так беда! Сбегай-ка, как там тебя, человече, к кучеру моему – я, как нарочно, велел ему про запас бутыленцию купить. Вот и пригодится запасец-то, а, Иван Осипович?
Когда невольная суета, возникшая в связи с переносом старца к круглому столу посреди залы, улеглась, собеседники взялись за рюмки.
– Ну-с, нас со встречей нечаянной, а вам, вам, Иван Осипович, во здравие! – Зволянский, чокнувшись и чуть поморщившись, пригубил коньяк из нечистой рюмки.
Старик с удовольствием, хоть и закашлявшись, выпил, бросил в рот порезанное на кусочки сморщенное яблоко, долго гонял его беззубыми деснами, наконец проглотил и вдруг поглядел на гостя совсем не старческими, мутными, а ясными, с хитринкой глазами.
– Партейку в древнюю индийскую игру не желаете? – заранее зная ответ, спросил он. И, дождавшись отрицательного жеста, жестко закончил: – Тогда кайтесь, Сергей Эрастович, чего это ради вы меня в ночь-полночь посетили? Чего ради коньяком дорогущим поите, и чего от меня, убогого, ожидаете? И не надо, бога ради, про мемуары мои никчемные поминать. Мы ж с вами профессионалы, Сергей Эрастович. Только вы-то нынешний, а я в тираж вышедший, так сказать. Но, как видно, потребовался старый Велио, а?
– Потребовался, – мгновенно перестроился директор. – Очень нам ваша память понадобилась нынче, а паче чаяния – записи и старые вырезки из газет, кои вы как зеницу ока храните!
Старик тоже преобразился, даже морщины на ссохшемся лице словно разгладились.
– Что ж… Готов помочь и слушаю вас.
– Нужен мне офицерик один, – медленно, подбирая слова, начал Зволянский. – Исчез он осенью 1874 года. 20 лет не было о нем ни слуху ни духу – и вдруг объявился. Под чужим именем просидел все эти годы в монастыре в Южной Польше, в Ченстохове. Объявился калекой – с отрубленной левой рукой. Нужен, очень нужен он мне, Иван Осипович, – но не знаю, могу ли ему доверять? А дело серьезное, поверьте.
– Семен, подай-ка мне папку за указанный господином год, из крайнего шкапа! – распорядился Велио. – Непростую задачку вы мне задали, ваше превосходительство! Знаете ли вы, к примеру, что только в одном Петербурге расквартировано около ста тысяч военнослужащих из разных полков и батальонов? Что ежегодно, только по приблизительным данным – ну что тут поделать, не любят армейские полицейских! – из этих полков и батальонов исчезает почти треть солдат и офицеров? Где ж тут вашего беглого сыскать, Сергей Эрастович? Ежели, к примеру, поздней осенью или зимой пропадают в Петербурге людишки – так их весной только можно сыскать, когда лед ломается. Всплывают, прости мя господи! А всплывают-то в голом виде, раздетые до нитки – где ж тут офицера от мазурика отличить? Полиция всех таких чохом записывает в пострадавшие в пьяном виде от утопления… Не-е, Сергей Эрастович, не по адресу пришли. За коньячок, конечно, благодарствую, но помочь…
– Погоди ты, дослушай, Иван Осипович! Сию статистику я и без тебя знаю! Не совсем так дело было! Поехал наш офицер в Европу, будем считать – в командировку служебную. Дело было, как уже поминалось, осенью 1874 года. А на обратном пути случилась у него стычка с неким иностранцем. Иностранец погиб, а наш офицер руки левой лишился. Поскольку иностранец был важной дипломатической персоной, то пропавшего офицера объявили во всероссийский розыск. Исключили из списков батальона, лишили воинского звания и вообще собирались под трибунал отдать. А ему, можно сказать, повезло: попал он в руки знающего хирурга из Варшавы, да еще со знакомствами в Ченстоховском монастыре, чей госпиталь и поныне славится. В общем, спрятали его там монахи на два десятка лет. Отсиделся там, да вот нынче и объявился…
– Погодите, ваше превосходительство, совсем я, видать, старый стал. Кого ж вы искать изволите, коли и так все про вашего «монте-кристо» знаете? – Старик нацепил на нос очки в тонкой стальной оправе, нашел в папке нужную закладку и принялся перелистывать хрустящие страницы. Часть их он безжалостно выдергивал, складывал отдельной стопкой. Буквально через несколько минут работа была закончена.
Старик перетасовал часть бумаг, выровнял их стопочкой и с поклоном передал директору Департамента:
– Извольте, ваше превосходительство. Все, как есть – в хронологической последовательности разложено.
– Ну, а на словах? Коротко ежели? – Зволянский уже разливал коньяк.
– На словах? В июне месяце 1874 года объявился в Санкт-Петербурге чрезвычайный и полномочный посол Японии, господин Эномото, с сопровождающими его, как и положено, лицами. По принятии верительных грамот к послу был выказан чрезвычайный монарший интерес. Балы в его честь, приемы – ну, в газетах все подробно описывается. Еще пишут о необычайной приязни, возникшей между господином Эномото и прапорщиком лейб-гвардии саперного батальона Михаилом Бергом, – старик хихикнул. – Ежели не в Зимнем посол пребывал, стало быть, с другом-гвардейцем Северную столицу изучал-с. Переговоры по Сахалину шли с японским послом ни шатко ни валко – не могу подробностей знать, ваше превосходительство, – может, так оно и положено. Только вот осенью одно из сопровождающих господина посла лиц засобиралось экстренно в Европу. И Берг отчего-то за ним помчался. А на обратном пути, уже в границах Российской империи, случилась между господином Бергом и японским господином Асикагой ссора. Да такая, что стороны решились, не дожидаясь прибытия в российскую столицу, драться…
Велио выкушал свою рюмку, пососал яблоко и продолжил:
– Это уже частично не из газет, ваше превосходительство, как вы понимаете. Найденный хладный труп японца и исчезновение Берга вызвали сильнейший государев гнев. Прапорщик был исключен из списков батальона, вслед за этим Япония представила России ноту протеста. Однако высочайшее указание о розыске Берга осталось без последствий, тот как сквозь землю провалился и, несмотря на все усилия полицейских и жандармских сил, найден так и не был. Не был найден и доктор, оказавший смертельно раненому прапорщику помощь и увезший его с места событий на паровозе в Варшаву…
Старик перелистал несколько пожелтевших листов, пояснил:
– Это донесения агентов наружного наблюдения и почтовых служащих. Были ориентированы на тот случай, ежели раненый Берг вступил бы в переписку с невестой, дочерью тайного советника Белецкого. Ничего особенного в этих донесениях нету, ежели не принимать во внимание одно ма-а-аленькое обстоятельство, – Велио снова захихикал. – Будучи православного вероисповедания, семейство Белецких регулярно посещало храмовые праздники и воскресные службы в ближайшем от места жительства соборе. Но вот чудо-чудное: один из агентов, молодой совсем, обратил внимание на то, что неутешная невеста ставит свечи за упокой жениха своего, а ее батюшка – во здравие. Ну, тайный советник – человек занятой, на важных делах сосредоточен. Мог по рассеянности разок-другой попутать… Агенту было приказано наблюдение некоторое время продолжать, но потом оно как-то на нет сошло…
– А почему, Иван Осипович? – Зволянский налил по третьей.
– Потому как в России изволим жить, господин Зволянский! – вздохнул Велио. – Переговоры с Японией закончились, скандала более не намечалось, у батюшки-царя новые заботы появились. Вижу из рапортов, что обратили со временем полицейские службы внимание, что зачастил японский посол в Ченстохов, в монастырь. Произвели деликатную проверку и доложили, поди, государю, что ездит туда японец к la Famm одной. На этом все следствие и кончилось.
– Да-да, в России, оно конечно, – пробормотал Зволянский. – Где ж теперь концы-то искать? Белецкий – товарищ министра железных дорог нынче. Стало быть, человек Витте. Дочка его, поди, давно замуж выскочила, детишек растит. Родители Берга вполне помереть могли, посол японский на родину к себе уехал… Впрочем, и на этом спасибо, Иван Осипович!
Как ни терпелось директору полицейского Департамента вернуться к Архипову и похвастаться молниеносным, по сути, успехом, однако не получилось. Распрощавшись со старичком Велио и спустившись к ожидавшей его карете, Зволянский был тут же встречен курьером на взмыленной лошади, посланным за ним вслед. Откозыряв, есаул вручил директору пакет, отправленный вслед начальству Вельбицким.
В пакете Зволянский обнаружил срочную, с государевым гербом, телеграмму из Ливадии.
Сердце екнуло: неужели?..
Пробежал глазами короткий текст наклеенных вкривь и вкось кусочков ленты. Нет, слава богу, жив государь. Жив – но вызывает пред свои очи…
– Значит так, братец, – обратился директор к курьеру. – Скачи-ка к особняку господина Архипова – знаешь адрес? Вот и молодец! Скажи хозяину – только не пугай, не ори на весь дом – потихоньку скажи, что так, мол, и так. Господин директор получил срочную депешу, и долг службы призывает его немедленно исполнить данное ему поручение. И вот что, братец: повернись-ка спиной, записку господину полковнику напишу!
* * *
Вернувшись к себе в Департамент, на Фонтанку, Зволянский, расстегнув крючки мундира, устроился в громадном служебном кресле. Это кресло досталось ему от предшественника, человека гренадерского роста, и поначалу едва не отправилось в кладовую: могли счесть, что новому начальству невместно выглядеть перед подчиненными подобно мальчишке, забравшемуся на отцовский стул. Однако со временем Сергей Эрастович оценил глубину и упругий уют кресла и выносить его запретил. В нем хорошо думалось, ну а если возникала надобность поработать пером, то на сей случай под левой тумбой стола была припрятана широкая доска – подставка, обитая тканью, – как раз по ширине чудовищного кресла.
Нынче Зволянскому требовалось принять окончательное решение: либо идти до конца с выбранной им партией сторонников контрразведки, либо, собственного бережения ради, тихо, деликатно и, главное, вовремя отойти в сторону.
Обычно директор приезжал на службу около 7 часов утра, однако нередко, как вот и нынче, оставался работать на всю ночь. День обещал быть хлопотным – впрочем, иных в последнее время и не бывало.
Помощники уже приготовили на обширном столе две внушительные кипы документов, которые следовало прочесть, осмыслить и проанализировать или, по крайней мере, вдумчиво проглядеть, чтобы отложились в памяти. Ну а тут вся ночь впереди – успеть разобрать можно было с гарантией.
Вздохнув, Зволянский невольно позавидовал феноменальной памяти Агасфера: ему бы хоть четверть этакого божьего дара – куда как было бы полезно при его-то службе!
Приняв из рук сторожа традиционный стакан чаю с изрядной добавкой рома, директор сделал пару глотков. Дело по расшифровке лежало верхним. В папке имелись свежайшие, еще пахнущие и пачкающие типографской краской «Ведомости» с очередной заметкой зловредного Полли-Полячека. В номер помощник поместил еще пачечку бумаг – выявленные-таки Зыбиным секретные «междустрочья», краткое пояснение к способу шифровки и «исходник» – та же самая статья Полли-Полячека в рукописном, первозданном виде, с пометками, сделанными карандашом и чернилами. «Исходник» удалось добыть из урны в номере газетчика, хоть и неполный.
Пояснения Зыбина, гения криптоанализа, Зволянский читать не стал, чтобы мозги набекрень не свернулись: расшифровал – и молодец! За то тебе и наградные положены.