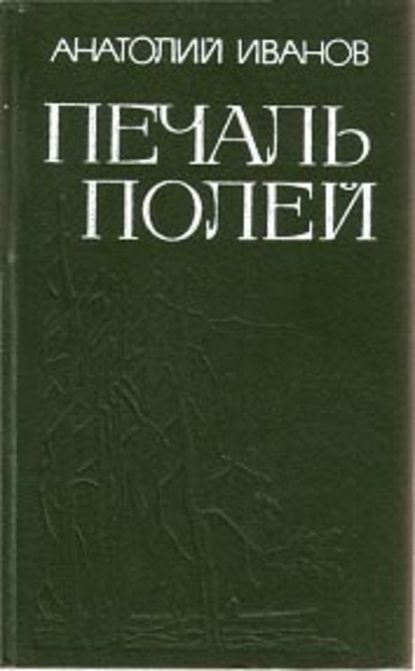 Полная версия
Полная версияПечаль полей (Повести)
А почему она посмотрит презрительно? И почему им нельзя за город? – думал он дальше. Ведь когда-то, совсем недавно, они были там. И ничего… Да, но тогда все было как-то по-другому, все было просто…
Алексей поднял голову и увидел, что они уже идут в толпе народа, они уже перед проходной. И неужели полчаса, целых полчаса он шел с Шурой молча, так вот рядом с ней, глядел, как дурак, себе под ноги и молчал?! Да что она вообще теперь о нем подумает? Э-э, будь что будет, скажу… съездим, мол, за город.
– Слышишь, Шура, – проговорил он торопливо. – В воскресенье… в заводском клубе, что там?
– Вечер отдыха, – сказала девушка. – Танцы будут.
– Сходим, может?
Она взглянула на него удивленно, даже чуть растерянно.
– Хорошо. Я приду. – И исчезла в проходной.
– Ну а ты чего?! Пропуск! – услышал Алексей знакомый голос вахтера. – С похмелья, что ли? Не задерживай.
… Опомнился Алексей лишь в цехе, с удивлением глянул на пропуск, который все еще держал в руке. Вот так пригласил за город! И что же теперь? Он ведь даже не танцует.
Гудели станки в цехе, лязгало железо, раздавались голоса. Все сливалось в однообразный, монотонный гул, который плескался, как волны, и эти волны, казалось, качают Алексея, как в люльке, и непонятно было, почему волны не разобьют его о станок или о.кирпичную стену цеха.
Он опомнился, когда Михаил Брага крикнул в ухо:
– Ты что, братец кролик? Не слышишь? На вторую смену заступил?
Действительно, приступала к работе вторая смена. Когда прогудел гудок, Алексей не слышал. Он вытер тряпкой руки и пошел к выходу.
– Чокнутый, что ли, он? – сказал кто-то сзади, но Алексей не обернулся.
«Не пойду в клуб, и точка!» – решил он вдруг ночью, лежа в постели, и спокойно уснул. «Да, не пойду, – думал он на другой день. – Нечего позориться…»
Воскресный день был пасмурным, ветер крутил в воздухе желтые сухие листья. Алексей весь день почему-то вспоминал листок, который прилип в тот раз к волосам девушки. Вспоминал и злился.
После обеда ветер утих, облака исчезли, на землю хлынуло солнце. Вечер наступил тихий, теплый и грустный.
Весь вечер Алексей у крыльца дома возился с велосипедом, протирал, смазывал, подтягивал спицы, хотя в этом не было никакой надобности. Когда село солнце, из дома вышел Борис, увидел Алексея, крикнул:
– Алеха! Аида на танцы в заводской клуб, Агаши там бывают – задохнешься.
– Ну и задыхайся! – с ненавистью проговорил Алексей.
– С чего злишься-то? Я тебе что?
– Отчаливай, понял?..
Борис пожал плечами и отошел. Алексей теперь знал, почему и на кого он злился. «Ну уж нет, дудки, Чехол! Ты пошел, ну и я пойду в клуб. И я… Посмотрим еще!» – лихорадочно проносилось у него в голове. Что это были за мысли, отчего они возникли и что означали, Алексей ответить, пожалуй, не мог бы. Но он только чувствовал в себе необычную, небывалую решимость.
Когда он пришел в клуб, танцы были в самом разгаре. Он сразу же увидел Шуру – она танцевала с Михаилом Брагой. Увидел и не узнал ее, хотя она была одета в то самое простенькое платье, в котором он видел ее много раз, в котором она бегала еще в школу: у Шуры была другая прическа – пышная, с тяжелыми локонами до плеч. Прическа делала ее чуть старше, строже, красивее и… совсем теперь недоступной.
Так подумал Алексей, и у него то ли от этой мысли, то ли от того, что Шура поглядела на него и тотчас отвернулась, сразу же пропала всякая решимость, он почувствовал себя неуклюжим, громоздким, ненужным здесь, в залитом огнями зале. Он потоптался у дверей и выбежал из клуба, плюхнулся на скамейку в сквере.
Из клуба доносилась музыка, смех, а он сидел и сидел в сквере, не понимая, зачем сидит.
Под чьими-то шагами послышался шорох опавших листьев, подошел Михаил Брага, молча постоял и сказал:
– Пошехонец ты, Алеха… Погоди, я сейчас. Никуда не уходи.
Алексей догадался, куда пошел Михаил, приподнялся и крикнул вслед:
– Мишка! Не надо! Не смей, слышишь?
Но Брага не обернулся. Алексей хотел сорваться и бежать, бежать в темноту, в ночь, где нет ни огней, ни домов, ни музыки. Но почему-то не мог даже пошевелиться, какая-то сила сковала его ноги и руки, перехватила дыхание.
Потом послышался снова шорох листьев и подошла Шура.
– Ну что же ты, Алеша? – грустновато сказала она. – Сам пригласил, а сам…
Она стояла перед ним, легкая, стройная, с голыми до локтей руками и всем этим пугающая его. В одной руке она держала жакетку, в другой платок, стояла, смотрела на него и чего-то ждала.
– Садись, садись… – торопливо проговорил он и подвинулся, хотя места на скамейке и без того было много.
Она села, положила на колени жакетку, платок и вздохнула.
В сквере был полумрак, фонари горели только у подъезда клуба, за высокими деревьями. Под деревьями рос подстриженный кустарник, он почти совсем облетел, но все равно был плотным, не пропускал ни одного лучика. А поверх кустарника, сквозь ветки больших деревьев, били от фонарей электрические полосы, скрещиваясь над их головами.
– Смотри, как красиво, – сказала Шура, глядя на эти полосы.
Вдруг за кустарником, возле подъезда, раздался голос Бориса:
– Эй, Брага… Агашу тут одну не видел?
– Какую такую Агашу?
– Шурку Ильину… С которой танцевал.
– А-а… Домой вроде пошла.
– Эх, черт… – воскликнул Борис, и голоса затихли.
Пока слышались эти голоса, Шура сидела и кусала губы.
Когда они затихли, она немного успокоилась.
– Понимаешь… я ведь не умею танцевать, – неожиданно для себя проговорил Алексей.
– Зачем же тогда на танцы приглашал?
– Я хотел не на танцы… За город хотел.
– Не понимаю…
– А получилось на танцы.
Она подняла на него глаза, и Алексей обомлел. Сейчас, сейчас она хлестанет его, как кипятком: «Это зачем же… за город?!»
Но девушка опустила глаза и еще раз вздохнула:
– Какой-то ты… Не знаю. А может, наоборот… Может, ты очень хороший. Для Борьки вон все девчонки Агаши какие-то.
Она говорила, задумчиво, глядя на свой платок, будто хотела в полумраке разглядеть на нем рисунок.
– Какой же я хороший, дурак я, – быстро сказал, почти крикнул, Алексей.
– Тихо! – встрепенулась Шура и зажала ему ладошкой рот. Она глядела ему теперь прямо в глаза и улыбалась. – Тише…
Ладошка была горячей, жесткой. Вся кровь бросилась в голову Алексея от этого прикосновения, и он быстро встал.
Девушка тоже поднялась.
– А за город пойдем в следующий выходной, а? – попросила она.
– Ну конечно! Я же, говорю, сегодня хотел..,
– Я там поучу тебя танцевать. – Девушка стала натягивать жакетку.
– Шура… Шура! – Алексей неуклюже стал помогать ей одеваться. И когда пальцы касались ее тела, он вздрагивал, как от электрических ударов.
– А теперь пошли домой. Только ти-ихо, тихо… Чтобы Борька не увидел. – Она взяла его за руку и с хохотом потянула из сквера. Но тут же прикрыла рот кулачком и еще раз сказала: – Тише…
По темной улице они шли молча и осторожно, точно боялись вспугнуть робко мерцающие в холодной вышине звезды. Девушка по-прежнему держала его за руку.
Возле калитки, под старым тополем, Шура торопливо сказала, оглядываясь почему-то в ту сторону, где недавно он стоял за деревом:
– Я буду ждать тебя там, где тогда… ящерку… Ладно? В двенадцать часов. Ты приезжай на велосипеде. Я тебя танцевать научу, а ты меня – на велосипеде ездить.
Шура говорила торопливо, шепотом, все поглядывая в сторону, и ему стало ясно, что она боится, как бы не появился из темноты Борис.
– Хорошо, – негромко сказал Алексей, чувствуя себя виноватым перед кем-то.
– Ну вот…
Девушка наклонила голову, чуть коснулась его груди, но тотчас подняла лицо. В неярком лунном свете оно казалось бледным, раскосые глаза ее смеялись, смеялись и поблескивали синеватым, режущим светом. И он невольно взял ее обеими руками за худые плечики.
– А Борьку я… не нравится он мне совсем. Ты понимаешь? – быстро шепнула она, сделала шаг назад и скользнула за калитку. Алексей в то же мгновение ужаснулся: неужели он осмелился дотронуться до ее плеч?! Она потому и убежала… И в воскресенье она не пойдет, не пойдет за город.
Всю неделю потом он казнил себя за то, что вел себя в тот вечер как идиот. Сперва неуклюже топтался в клубном зале, глупо, конечно, улыбаясь, потом сидел, надувшись как индюк, на скамейке в скверике, потом шел с ней по улицам и молчал. И наконец, грубо и нахально потянул к ней свои руки. Не придет!
Но временами он вспоминал, как смеялись ее узкие глаза, как они лучились синеватым светом. В такие минуты ему казалось, что все будет хорошо и что она придет.
Наступило воскресенье. Когда миновала первая половина дня и жестяные дребезжащие часы-ходики показывали десять минут первого, Алексей выбежал из дома, вскочил на велосипед.
Отъезжая, заметил, что из своего дома вышел Борис и поглядел ему вслед.
… Шура сидела на пожухлой уже траве печальная и усталая. Когда Алексей подъехал, она медленно повернула голову к нему, тихонько улыбнулась.
– Что так долго? – спросила она. И, не дожидаясь ответа, добавила: – А мне грустно почему-то.
– Почему? – спросил он, чувствуя, что вопрос ненужный, что говорить надо не об этом.
– Садись, Алеша, – сказала она, не шевелясь. – Помолчим.
Лес был тихий, поредевший, прозрачный, и воздух тоже прозрачный, холодный. И лес, и белесое небо, и усыпанная сухими березовыми листьями земля словно ждали чего-то.
– Ты слышишь? – спросила вдруг девушка.
– Что? – Алексей прислушался.
– Разве ничего не слышишь? Кто-то и где-то тихонько шепчет и шепчет одно и то же: «Печаль полей, печаль полей…»
– Кто шепчет? Никто не шепчет. А грустно – это правда. Осенью всегда грустно.
Девушка пошевелилась, вытянув онемевшие, видно, ноги, чуть откинувшись назад, упершись руками в землю, запрокинула голову к небу.
– А я не хочу, чтобы было грустно! Ты понимаешь, я не хочу!! – вдруг закричала она. – Не хочу, не хочу, не хочу-у!
Шура упала на бок и зарыдала. Плакала она тяжело и горько, как ребенок, который никак не мог понять, зачем его обидели взрослые так глубоко и несправедливо.
– Шура! Ну, что ты… – растерялся Алексей. – Не надо так. Ты слышишь? Ты слышишь?
Он дотронулся до ее плеча сперва робко, потом, осмелев, погладил ее, убрал с лица вымоченную в слезах прядь волос.
– Не надо…
Девушка поднялась, села, всхлипнула. Вытерла глаза маленьким белым платочком, сунула его обратно в узкий рукав розовой блузки.
– Ничего… это на меня находит иногда. Видишь, какая я, – сказала она, жалуясь кому-то. Что она жаловалась кому-то – не ему, это он уловил и впервые почувствовал, какблизка и дорога ему эта непонятная девчонка и что, если бы ее не было на свете, тогда непонятно, для чего был бы и для чего жил бы он сам.
Ему вдруг захотелось сказать ей что-то такое необыкновенное и хорошее. Но слов не было, была только нежность и уважение к кому-то. И к этой девушке, конечно, и к осеннему лесу, и к земле, засыпанной листьями. И даже к тому голосу, который шептал откуда-то: «Печаль полей, печаль полей…» Алексею казалось, что он тоже слышит теперь этот голос.
– Это хорошо, когда грустно, – сказал он вдруг и вспомнил, что Шура кричала ведь только что: «Я не хочу, чтоб было грустно». Вспомнил и все равно повторил: – Это хорошо, когда грустно…
Он сидел, чуть отвернувшись, глядя на прислоненный к дереву велосипед, но чувствовал, что Шура смотрит на него, смотрит удивленно, будто видит первый раз, как смотрела на него уже дважды.
– Правда? – прошептала она еле слышно.
– Конечно. Почему всегда должно быть весело? Когда тяжело, муторно – это плохо. А грустно – это хорошо.
– Почему? – так же тихо спросила она.
– Ну… не знаю. Отдыхаешь тогда от всего. И раз грустно, – значит, чего-то хочешь. И потом сделаешь это. И будет тоже хорошо.
Он замолчал, и Шура притихла, притаилась. Молчали так минуты три, может и больше, а может, и меньше – Алексей определить не мог.
– Интересно, – проговорила она осторожно. – Значит, и лес, и вся земля сейчас отдыхают. Это правда. И чего-то хотят. А чего?
– Чтоб ветры были… Чтоб дожди, грозы… И солнце… И листья, и цветы, наверное. Я не умею об этом сказать.
Алексей говорил и сам удивлялся, что говорит. Он никогда не подозревал, что может так говорить.
– Интересно, – опять произнесла девушка. И дотронулась до него. Он обернулся. Шура стояла на коленях, смотрела на него не мигая, строго и холодно. Лицо ее было каким-то странным – лоб, нос, подбородок смертельно бледными, а щеки горели, полыхали розовым огнем, будто их натерли жесткой суконной тряпкой.
– Ты… чего? – невольно спросил Алексей.
– А ты скажи… ты любишь меня?
Алексея окатило жаром, он отшатнулся и как-то неестественно улыбнулся.
– Вот еще… выдумываешь. С чего бы я…
И почувствовал, что покраснел, покраснел густо и жарко. Он вскочил на ноги, отвернулся, отошел, пошатываясь, остановился.
– Нет, любишь, любишь, любишь! – закричала на весь лес девушка, подбежала и схватила за плечо, поворачивая к себе. – Любишь, я это знаю… Ну-ка, гляди мне в глаза, гляди!
Она поворачивала его к себе, а он отворачивался.
– Повернись, говорю. Повернись! – требовала она, теперь не прикасаясь к нему.
И когда он обернулся, пересилив себя, она, оказывается, стояла уже за высокой березой, прижавшись к ней грудью. Из-за ствола были видны только ее плечо, голова да одна нога в белом носочке и коричневой тапочке.
– Шура! – Он шагнул к ней.
Она, хохоча, отбежала к другому дереву и опять выглянула из-за ствола.
От дерева к дереву они бегали долго. Шура звонко смеялась, волосы ее растрепались, она то и дело их поправляла. «Догоню – поцелую… И поцелую! – колотилось у Алексея в голове. – И тогда не надо ничего говорить, все и так будет ясно…»
И он уже почти догнал ее, но в это время тренькнул где-то велосипедный звонок. Алексей обернулся и увидел Бориса.
Он поставил велосипед к тому же дереву, возле которого стояла машина Алексея, и с корзинкой в руке подошел к ним.
– Играете, молодежь? – спросил он, сел на траву, поставил рядом корзинку и достал папиросы. – Закуривай!
– Играем! – тряхнула головой Шура. Она произнесла это тем голосом, каким говорят, когда хотят не оправдаться, а предотвратить все дальнейшие вопросы, вопросы, может быть, необходимые для одного, но абсолютно ненужные теперь для других. Таким голосом говорят, когда хотят отрезать для себя враз и бесповоротно все другие пути и возможности, кроме одной.
– Понятно, – сказал Борис негромко, безразлично. И обоим – и Шуре, и Алексею – было ясно, что ему понятно.
Девушка села на сухие листья. Алексей стоял и курил. Он стоял перед Борисом и сам чувствовал, что у него, вероятно, сейчас виноватый и нелепый вид.
– Сядь, Алеша, – не глядя на него, произнесла Шура.
Алексей помедлил и сел.
Борис и Алексей молча курили, было всем неловко, и деревьям было неловко, они стали будто еще молчаливее. На небе неподвижно висело единственное белое облако с рваными краями и синеватым плоским днищем, и ему тоже, казалось, было неловко торчать одному в пустом небе.
– А я вчера последний экзамен свалил, – проговорил Борис, стряхивая пепел с папиросы почему-то в свою корзину. – С первого сентября – на занятия.
– Поздравляю, – сказал Алексей.
Шура играла с большим рыжим муравьем. Муравей куда-то спешил по своей тропинке, а девушка ставила на его пути сухой листок. Муравей останавливался, обнюхивал листок, отползал назад, будто размышлял о чем-то, пошевеливая усиками, и снова устремлялся вперед.
Из рукава ее платья торчал беленький платочек.
– Приползет домой и расскажет, какое необыкновенное приключение случилось с ним в пути, – усмехнулся Борис, глядя на муравья.
– Разве они умеют говорить? – спросил Алексей.
– А что ты думаешь? – Борис потушил папиросу и бросил ее в траву. – Я вот иногда думаю о всяких формах жизни на земле. Ну, человек – это понятно. Высокоразумное, мыслящее существо. А может, муравьи тоже и высокоразумные, и мыслящие. По-своему. Вот читал я где-то, что у муравьев есть свои рабовладельцы. Есть рабочие, есть солдаты. Интересно, брат, да… Ну, чего не смеетесь?
Борис поднял злые глаза. Алексей о чем-то думал, опустив голову, а Шура, оказывается, с интересом слушала, давно забыв про своего муравья.
Борис холодными глазами улыбнулся ей, она отвернулась и стала глядеть в сторону. И так, не поворачивая головы, тихо вдруг заговорила:
– Да, интересно… Ох, до чего интересно! Может, у них есть и свои музыканты, художники всякие, писатели, архитекторы. Своя наука и своя культура. И может, они уже кое в чем и перегнали человеческую культуру, если взять в сравнении…
– Какое там перегнали, если рабовладельцы, – упрямо сказал вдруг Алексей.
– Эх, ну какой ты! – воскликнула Шура. – Это люди так называют – рабовладельцы. А может, они, такие муравьи, не рабовладельцы вовсе, может, они – какие-нибудь огромные светила ихней науки и… общественной мысли. А? Что мы знаем? Ничего мы не знаем! Может, они сидят и думают – как им, муравьям, лучше жить и что это за непонятные великаны ходят по земле, которые иногда разворачивают их муравьиные жилища, и как с ними бороться. Они думают, за это их уважают другие муравьи. Да… может, людям еще поучиться бы кое-чему у муравьев, если бы разгадать смысл их жизни.
– Фантазируешь ты, – сказал Алексей. – А интересно.
– Интересно, – согласно кивнула Шура. – Если… была бы возможность, я бы пошла на биологический факультет.
– А когда они в спячку ложатся? – спросил Алексей. – Зимой-то они спят, наверное?
– Я не знаю, – сказала Шура. – Может, спят, может, живут какой-то своей жизнью. Утепляют свои муравейники чем-то таким… абсолютно не пропускающим холода, и живут. Чем утепляют – люди не знают. Или вот дождь муравьи чувствуют. А как? Задо-олго ведь свое жилье закупоривают.
– Раз не ложатся пока в спячку, – значит, долго еще тепло стоять будет, – не то спросил, не то просто раздумчиво произнес Алексей.
– Будет, должно… – произнес Борис, взял свою корзинку, с удивлением обнаружил там пепел от своей папиросы, вытряхнул его. – Ну ладно, я ведь, собственно, за грибами. Знаю одно место, где опята сплошными коврами растут.
– Где это? – произнесла с любопытством Шура. Борис поглядел на нее долгим-долгим взглядом. Глядел спокойно, чуть улыбаться продолжали одни глаза, а правый уголок рта несколько раз дернулся. И когда дернулся, Шура поняла, что и глаза его давно не улыбаются, это он просто смотрит на нее с прищуром, зло и хищно.
– Пойдем, покажу, – сказал он.
– Нет, нет, – быстро произнесла она, зябко повела плечами, будто замерзла, и прибавила: – Боюсь я тебя.
– Чудачка! Что меня бояться, – рассмеялся Борис. – Я не зверь какой-нибудь.
Он смеялся как-то очень искренне и просто, и Шуре стало неловко, стыдно за свой испуг и за то, что она заподозрила вдруг Бориса в чем-то нехорошем.
– И ты меня тоже боишься? – спросил Борис у Алексея.
– Чего мне тебя бояться?
– Ну, ладно, Шуреха… Я ведь все понимаю, – сказал Борис тихо и грустно. И еще тише прибавил: – Желаю вам с Алехой всего…
– Спасибо, Борис, – сказала она.
– Не стоит, – в голосе у Бориса была и грусть, и горечь. – Правда, немного непонятно мне: чем таким он передо мной… Хотя кто вас, женщин, разберет! А в общем – ладно.
Опять всем троим стало неловко, неуютно, все смотрели в разные стороны.
– Да, в общем – ладно, – еще раз сказал Борис, встал и пошел. Он шел сутулясь, как старик, и корзинку нес тоже как-то по-стариковски, будто боялся выплеснуть что-то из нее. Шуре стало жаль его, и она крикнула:
– Боря! Борис…
– Не надо, может, а? – робко и неуверенно сказал Алексей.
– Что не надо? Что не надо?! – дважды выкрикнула девушка почти со злостью. На глазах у нее были слезы. – Неужели ты деревянный?
– Я не деревянный. Только я знаю, что не надо… – чуть обидевшись, сказал Алексей.
В это время Борис обернулся и закричал:
– Шура! Скорее! Тут – мужичок-грибовичок.
Девушка встрепенулась и вскочила.
– Где? Где? Сейчас… – крикнула она и повернулась к Алексею. – Пойдем, Алешка!
– Никакого там нету мужичка. Ты ведь знаешь, что нету…
– Я знаю. А поиграть – плохо, да? Разве плохо?
– Не плохо. Только не надо сейчас. Он, Борька, какой-то сейчас… Не надо, понимаешь?
– Эх, ну какой ты…
– Скорее же, а то он уйдет! – крикнул опять Борис.
– Иде-ем! Пошли, пошли, Алешка!
И девушка побежала к Борису.
Алексей помедлил, потом встал и торопливо пошел следом.
Он шел быстро, но догнать Шуру с Борисом не мог, их голоса звучали все время где-то впереди. Несколько раз между деревьями мелькала розовая блузка, и Шура махала ему рукой, но когда Алексей подходил к тому месту, ее смех и голос Бориса раздавались далеко впереди.
Потом умолк вдруг и смех и голос. Алексей шел и шел, а ничего не было слышно. Его охватили тревога и беспокойство. Он тоже видел, как несколько минут назад со злым прищуром глядел на Шуру Борис, как дернулся уголок его рта. Он пытался как-то предостеречь Шуру, но она не послушалась, и вот теперь их нет…
– Шура, Шура-а! Бори-ис… – крикнул он. – Вы где-е?
И тотчас донеслось:
– Алешка! Скорее… Але-еш!..
И голос смолк, будто девушке закрыли рот.
Откуда кричала Шура, Алексей понять не мог. Не то сбоку, не то спереди.
– Шура! Где ты? Где?
Но теперь она не откликнулась. Он побежал вперед, путаясь в жестких травяных стеблях, бежал до тех пор, пока не кончился перелесок и впереди не открылась рыжая степь, вернулся и снова принялся кричать. Но Шура и Борис словно провалились сквозь землю.
Он нашел их после того, как охрип от крика. Он, усталый, возвращался к тому месту, где стояли велосипеды. «Наверное, они уехали уже домой. Борька посадил ее на свой велосипед и увез», – думал он. И вдруг услышал, как кто-то плачет.
Он пошел на голос, продираясь сквозь заросли колючего шиповника. И то, что он увидел, сначала его не удивило и не испугало. Шура лежала на боку, свернувшись калачиком, в траве валялись слетевшая с ее ноги тапочка и белый носовой платок. Борис сидел нахохлившись, втянув голову в плечи, облокотившись о колени. Он сидел, курил и, казалось, с недоумением разглядывал валяющиеся перед ним тапочку с платочком.
Услышав шаги Алексея, он сперва одернул на Шуре смятую юбку и медленно обернул к нему обескровленное яростью лицо, что-то проговорил. Его голоса он не услышал, только догадался, что Борис сказал: «Пошел отсюда!». Не расслышал потому, что в ту секунду, когда Борис одернул на девушке юбку, Алексей понял, что тут произошло, почему плакала Шура, и у него перед глазами пошли круги, а в голове стало больно, точно ее разрывало, разворачивало чем-то изнутри.
Алексей схватился за тонкий стволик березки. Потом без сил опустился под дерево.
Как в тот день, когда пришла похоронная на отца, сердце Алексея что-то сдавливало, оно словно истекало кровью, а в животе была холодная пустота.
Посидев так несколько минут, он встал. Поднялся и Борис, сунул руку в карман, спросил:
– Драться будем? Давай. Я на этот случай одну штучку с собой захватил.
Он вынул руку из кармана и показал кастет.
– Эх ты… мыслящее существо…
Кастета Алексей не испугался, но и драться не хотел. Он испытывал лишь к Борису небывалую брезгливость да испытывал желание бросить в лицо ему что-то тяжелое и гадкое, чтобы слова сами по себе убили, раздавили его.
– С тобой не драться… Тебя, подлеца, в тюрьму надо. И сгноить там.
– А это ее дело, – усмехнулся Чехлов и кивнул на Шуру. – Только она в суд не подаст. Не посмеет.
– Нет, подаст! – почти теряя контроль над собой, выкрикнул Алексей. – Потому что… потому что и убить тебя мало!
Он резко отвернулся от Бориса, нагнулся, погладил девушку по плечу.
– Пойдем, Шура… Вставай, пойдем, – сказал он.
Девушка шевельнулась, приподняла разлохмаченную голову. Лицо ее было страшно, глаза горели ненавистью, губы искусаны, изжеваны, и она продолжала их кусать. Они – Алексей и Шура – поднимались с земли одновременно. Поднимались медленно, будто суставы срослись, разгибались с болью. И, встав, некоторое время глядели друг на друга. Алексей глядел виновато и жалостливо, а глаза девушки горели все той же ненавистью, презрением и гадливостью, будто это не Борис, а Алексей сделал с ней то, что раздавило и опустошило ее.
– Пойдем, Шура. Пойдем, – снова повторил он. – Ты для меня такая же…
– Такая же?! В суд? – Шура дышала тяжко и с хрипом. – А я ненавижу… Ненавижу тебя! Ты это понимаешь? – произнесла она шепотом. И вдруг истерично выкрикнула: – Понимаешь ты это или нет?!
И, размахнувшись, ударила Алексея сперва по одной, потом по другой щеке.

