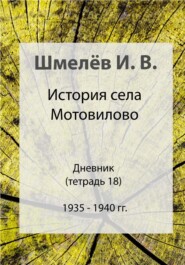
Полная версия:
История села Мотовилово. Тетрадь 18. 1935-1940

Иван Шмелев
История села Мотовилово. Тетрадь 18. 1935-1940
Район в Чернухе. Оглоблино. Именины. Дунька и Анисья
Наступил 1935 год. С первого января отменили карточную систему на хлеб, а с 1-го февраля организовался Чернухинский район. Секретарём райкома партии назначили некоего Якобсона, а председателем РИКа (Районный исполнительный комитет) из Арзамаса перевели некоего Зуева. Таким образом, руководство приблизилось к массам. Председателя Мотовиловского колхоза, двадцатипятитысячника, Федосеева, куда-то перевели, а руководство колхозом, за неимением другой кандидатуры, временно поручили Оглоблину Кузьме Дорофеевичу, на что он с радостью согласился. Сначала он колхозом и колхозниками руководил исправно, и им как председателем люди были довольны, потому что он был по характеру своему снисходительным человеком. Провинившегося колхозника он сначала обругает, а потом посочувствует ему и пожалеет.
Кузьма Дорофеевич, некоторых, особо отличившихся в труде колхозников старался чем-то отметить, а ударника Гришку даже премировал десятью трудоднями с помещением его фотографии в районной газете, на что Гришка высказал своё недовольство:
– Что мне в трудоднях-то толку-то: их, небось, на сковородке не поджаришь – без масла-то они подгорят, и жрать их не станешь. А что касается моей фотокарточки в газете, я скажу, и от неё мне мало толку. Сначала-то поглядят на мою физиономию, поинтересуются, а потом в отхожем месте моей-то личностью задницу подтирать станут! Так что я пока работать буду рядовым и в ударники меня не записывайте! Я и так социализму строить буду. Ты уж, Кузьма, меня извини, я сказал, что думал! – отрезал Гришка.
– Ну, как хошь! – согласился Кузьма.
Будучи председателем колхоза, он был своего рода и начальником, и «доктором». По указанию свыше, т.е. из РИКа, всем было дано распоряжение, с целью борьбы с симулянтами, без предварительного осмотра председателем заболевшего колхозника или колхозницы в больнице врачам не принимать и не лечить. Так и без ведома Оглоблина, без его бумажки, в Чернухе в больнице ни одного больного врачи не примут, не станут лечить. И чувствующие недомогание колхозники вынужденно обращались к председателю Кузьме за направлением. Некоторым заболевшим бабам он, ощупав и определив, что больна, давал направление, чтоб в больнице приняли. Колхозников осматривал визуально, а колхозниц – наощупь. А некоторым напористым колхозникам-больным, которых при беглом визуальном осмотре Кузьма определял здоровыми, он хотя и давал направление, но в нём проставлял краткий диагноз «Симулянт!». Заполучив направление и не поинтересовавшись, что в нём написано, обрадованный колхозник спешно мчался в больницу за больничным листком. И каково же было разочарование, когда вместо двух или трёх дней отдыха от полевых работ, если парень или молодой мужик – посылали на лесозаготовку, а если девка – то в Балахну на торфоразработку. «А уж что написано пером, то не вырубишь топором!» – обычно говаривал симулянтам председатель колхоза Оглоблин. Жену же его, Татьяну Митрофановну, когда она сходила в больницу, врачи признали больной с диагнозом «блуждающая почка». Чтобы избавиться от этой болезни, Татьяне Дарья порекомендовала пить детскую мочу, но ей эта болезнь не в помеху: она, как Кузьма стал предом, перестала ходить в поле на работу, отговариваясь, то детей не с кем дома оставить, то блуждающей почкой, то кесаревым сечением. Став женой председателя колхоза, Татьяна высокомерно возгордилась, стала вести себя заносчиво и нахально. Самолично, смело она заходила на колхозный склад, брала чего ей надо, и хлеб, и мясо, и мёд, платя за всё это только одними вескими словами: «Мужик всё спишет!» – подразумевая авторитет своего мужа Кузьмы как председателя колхоза. Колхозницы-труженицы заглазно возмущались поведением Татьяны и, негодуя, злословно обзывали её. «Какая королева выискалась! Краля Галова! Мадам, фу-фу!» – добродушно хохотали над Татьяной бабы. А Митька Кочеврягин, перефразировав эту фразу, переиначил её на: «Ма…а в пуху!»
– Хорошо чужими-то руками жар загребать!
– Как свиньи под дубом от желудей жиреют, и как трутни готовый медок пожирают! – с недовольством брюзжали колхозницы-бабы.
– Ну какой из него председатель, коли сени у себя дома починить не может! – недовольствовались Оглоблиным и мужики-колхозники.
– Какой из него руководитель, когда в своём хозяйстве он ни «бе», ни «ме» не понимает! – критиковали Кузьму и бабы.
Однако вокруг Оглоблина появились и разного рода прихлебатели и прихвостни, которые, преследуя свои корыстные цели, усердствуя, лебезя языком, выслуживались перед председателем с тем расчётом, чтобы урвать из колхоза куш, а честных и добросовестных колхозников старались всячески опорочить, оклеветать. И правильно говорится, что самый опасный бич для народа – действенное невежество бесчувственных сатрапов. А варваров и невежд музыкой не размилостивишь! Они, подхалимно лебезя перед Оглоблиным, льстиво в шутку восхваляли его:
– Ты, Кузьма Дорофеич, власть-то в селе забрал, как бабьи груди в обе руки, держи их и не сдавайся. Чем тяжелее наказание, тем почётнее господа! – настропаливали подхалимы Кузьму.
И он доволен был, тем что все люди находятся под его руководством, что он находится у руля управления всего села. Он дружелюбно наказывал своим прихвостням:
– Вы, мужики, уважайте меня, ведь председатель-то у вас один, и я всегда с вами, и перед вами в долгу не останусь!
– А что и за руководители народные, если они от людей-то за пятью стенками, да за семью замками находятся! – преданно ответствовали прихлебатели…
Приближался юбилейный день, день именин Кузьмы Дорофеевича, в который ему стукнет 40 лет. К этому дню жена Кузьмы Татьяна стала готовиться заблаговременно: за три дня до этого торжественного дня Татьяна, придя к сестре Кузьмы Анне Гуляевой, с жалобой заявила:
– Скоро к нам гости нагрянут, а у меня и конь не валялся! Хотела было растуриться, а тур-то не берёт! Пойдём, помогай мне!
Анна согласилась с большой охотой, и за дело они с Татьяной взялись с рвением. Самогонки к юбилею нагнала сама Татьяна, вина-то разве напасёшься для оравы гостей, а продукции она с колхозного склада приволокла – хватит на закуску-то, только ешь, да похваливай хозяйку за щедрость. С приготовлением закуски, где поджарить, где подпарить, вдвоём Татьяне с Анной не справиться, так они позвали себе на помощь Дуньку Захарову, благо Татьяне и невдомёк, что её Кузьма иногда наведывался к Дуньке в гости по поводу двух удовольствий: и самогон, и постель с Дунькой. Весь день бабы хлопотали на кухне, с улицы явственно было слышно, как стучат ножи и переговариваются «повара»:
– Татьян, вы, бишь, сколь годов с Кузьмой-то, как поженились, живёте, я что-то забыла? «Неужели ему уж сорок минуло?» —между дел спросила Татьяну Дунька.
– Двадцать два уж года миновало, как мы с ним поженились! – простодушно ответила Татьяна.
– Нет-нет, не ври, Татьян, вы с брательником-то уж 23 годика живёте. Я гоже помню, как мы Кузьму-то женить собрались, у меня ещё в тот год зуб нестерпимо болел. Я пошла в ту пору к ворожее, с зубом-то, чтобы она заговорила его. Заглянула покойница Марфа мне в хайло-то, да так и отпрянула назад. Погоди, грит, я немножко отблююсь, а потом ещё погляжу тебе в рот-то. У тебя, грит, больно оттуда гнилью пахнет, с ног сшибает, и тошнота на вырыванье позывает!
И пошла Анна про свой больной зуб подробно рассказывать, да так разговорилась, и не остановишь. Слова у неё с языка лились, как из рога изобилия. Хотела было Дунька вклиниться в Анин разговор, упрекнуть её в многословии, да где там, в Анин разговор сам чёрт не вклинится – всё её очередь, всё она знает!
К вечеру, в воскресный день, в дом Оглоблиных стали стекаться гости: друзья, приятели Кузьмы – бригадиры, актив. Собралось человек пятнадцать, и среди них, как колхозный бригадир, Николай Смирнов. До начала пирушки мужики, млея в ожиданье, томились, закрутка за закруткой закуривали, напустили в избе табачного дыма, хоть топор вешай!
– Дайте, пожалыста, закурить! Больше часу не куря, страсть, как хочется, а попросить было не у кого! – спросил у мужиков только что пришедший на именины Мишка Грепа.
– А что у тебя за ухом-то? – спросил его Смирнов, видя у Мишки заткнутую за ухом папироску.
– Эх, я и забыл, что меня давеча друг Колька угостил двумя папиросками! Одну-то я искурил, а другую-то вот за ухо заткнул для запаса, вот она и пригодилась! – щеря свой щербатый рот, засмеялся Мишка.
– Как завидно, что ты, Николай Фёдорович, не куришь, – обратился Мишка к Смирнову.
– Я своё некурение за деньги не покупаю, в лавку за ним не хожу и понапрасну грядки в огороде под самосад не занимаю, так что некурение мне даётся легче и проще, чем некоторым курение, ведь вы за курение-то деньги платите! – образно высказался Смирнов.
Пока шло приготовление, и мужики балагурили, рассказывали, кто что знал, хозяин дома, именинник Кузьма, извлёк из сундука парадный костюм, который из-за неиспользования изрядно запылился, и он стал вытряхивать из него пыль, подняв во всю избу целый вихрь вонючей пыли. Мужики, сидевшие по лавкам, брезгливо стали отворачиваться от едкой пылищи, заёрзали по лавкам, а Кузьме показалось, что они дают ему простор для вытряхивания.
– Нет-нет, сидите, вы мне нисколечко не мешаете, я вот ещё разика два тряхну и облачусь в этот костюмчик! – с наивностью в голосе проговорил Кузьма.
Чтобы продолжить прерванный на некоторое время разговор находчивый Смирнов проговорил, обращаясь к мужикам:
– А кто отгадает загадку?
– Какую? – спросили у него.
– Кто ходит утром на четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх ногах? Или вот ещё другая загадка: «А» и «Бы» ходили в лес по грибы; «А» осталась в лесу, ловить плутовку лису, а «Бы» напала на грибы!
Мужики, стараясь отгадать, позадумались, некоторые, шепча что-то про себя, взором упёрлись в потолок.
– Не знаем! – признался Мишка Грепа. – Не томи душу, скажи скорее!
– Нет, не скажу! Больно вам просто будет! Эта старая карета, блестит, как новая монета, объехала она полсвета, и не было ни одного лета, чтобы эта замечательная карета не возила бы этого знаменитого поэта! – вместо отгадки скороговоркой, как палкой по забору, протараторил Смирнов, снова озадачив мужиков.
И снова от него речь:
– В одном богатом колхозе, проживающему в нём со своей семьёй цыгану, выстроили новый дом, и в честь того, что этот цыган отстал от табора и примкнул к колхозу, подарствовали ему этот дом. А дело-то было, как раз, в предзимье. Некоторые колхозники, позавидовав, сказали цыгану: «– Ну, Иван, теперь тебе житуха будет – помирать не надо! – А что? – Как это что, тебе новый дом дали! – Ну и что ж, что они дом новый дали. Они дать-то дали, а завалину не окопали, у меня один цыганёнок в этом доме чуть не замёрз, жалобно запищал, захныкал: «Татьк, ой как студёно, замерзаю!» – Я ему посоветовал: «На вон кнут, оденься!» А он одно своё хнычет. Так что без завалины не жизнь в новом-то доме, а каторга – пойду отказываться от дома-то!»
Вся мужицкая компания весело рассмеялась, от души хохотали и бабы.
– А, по-моему, надо к жизни новой приспосабливаться и жить по принципу «дают – бери, бьют – беги!» Но наши мужики-колхозники ребята смелые! Семеро одного не боятся: грабителю лошадь отдадут, а до саней лучше не прикасайся! – закомуристо, с двусмыслием высказывался виртуоз Смирнов перед мужиками. – А вот теперь я и про себя скажу. Когда меня взяли служить в армию, а дело-то это было в 1910 году (мне тогда 20 лет было). И как новобранца, ещё неопытного и неподтянутого, меня послали к одному штабному начальнику в качестве дневального. Пришёл я к нему в кабинет и доложил, как по уставу положено. А он исподлобья взглянул на меня и с пренебрежением неодобрительно про себя пробурчал: «Уж кого и прислали, не могли получше-то выбрать!» А я расслышал упрёк-то, да так смело и резво отрапортовал ему: «Хороших-то отослали к хорошим, а меня вот – к вам!» Начальник-то сперва, видимо, одумался, мгновенно мысли его, видимо, преобразились к лучшему, он и говорит мне: «А ну-ка, солдат Смирнов, подойди-ка ко мне поближе-то!» Видать, влип. Пропал! Кольнуло мне в сердце. Подхожу к нему, а у самого с испуга с кончика закапало. «Как тебя звать-то?» – спрашивает меня начальник. «Николаем!» – отвечаю я. «Ну тогда здорово, тёзка! – протягивает мне руку через стол и ловит мою. – Я вижу, – грит, – у тебя голова-то не только для шапки, будем служить вместе!» – заключил разговор со мной начальник. Вот какие хорошие встречаются начальники среди военнослужащих. А то ведь согласно военной субординации так, кто кого под себя кладёт: командир полка – батальонного, батальонный – ротного, ротный – взводного, взводный – отделённого, отделённый – нас, а мы – матрас! – под взрыв весёлого смеха мужиков закончил Смирнов.
Но он вовсе не закончил, а продолжая свою речь, сказал:
– А всё же, среди нашего русского народа есть невежественные люди. Я как-то, будучи в Арзамасе, по своей надобности зашёл в уборную, а там какой-то нахал на стене углём написал: «И в уборной есть программа – с…ть не меньше килограмма!» – снова взрыв смеха.
Может быть, ещё бы продолжились мужские разговоры, но тут во всю избу заплакал хозяйский сын, малолетний Гришка. Его отлупцевала мать за то, что он безотвязно просил, чтобы дали ему что-нибудь из аппетитно пахнувшей приготовленной для гостей стола закуски, где было и жареное, и пареное, только не было мёду, он у них в сенях из худой кадки весь на пол вытек (лафа ребятишкам). Но ведь при гостях-то такое напористое влечение к столу со стороны детей считается непристойным, вот мать-то и турнула Гришку за ухо от стола-то! Он и заревел во весь широкий рот.
– Что заорал, зажеребил, что на улице слышно! – упрекнул его отец. – Вот олухи дети, без всякого умолку то жрать просят, то по-жеребячьи носятся, гоняются друг за дружкой, шумят, орут, прямо никакого спасу от них, супостатов, нету! – высказался о детях Кузьма.
Все расселись за двумя столами. Началось угощение: мужикам самогон с закуской, бабам – чаепитие с плюшками, с сахаром и с мёдом. Анна Гуляева, имея обыкновение чай пить с сахаром не вприкуску, а в накладку, положила себе в чашку с чаем комышек сахара. И не найдя, чем бы помешать в чашке, помешала пальцем. Брательник Кузьма, заметив сестрину некультурность, сделал ей замечание. Анна преспокойненько ответила ему:
– Я ведь палец-то не обожгла, чай-то не особо горячий, – держа блюдечко на растопыренных пальцах и дуя на чай.
– Да я не о том, что ты палец обжечь можешь, а некультурно пальцем размешивать сахар в чашке – на это ложечка есть! – объяснил Кузьма.
– А не всё ли равно: что ложечкой, что пальцем, ложечку-то я поискала, поискала, так её я и не нашла! – оправдалась Анна.
После первого выпитого большого стакана подали по второму. Первый стакан Смирнов выпил до дна, второй только наполовину. Сидя здесь, в гостях, в его голове была другая забота: этой ночью, как и обычно, посетить Анисью, а сильно спьянившимся к ней идти он не желал. Все спьянились, а Смирнов держался полупьяным, не потеряв здравого рассудка и дара речи. Видя, что Николай не пьян, Дунька шепнула Татьяне:
– Давай Николая напоим до усрачки! У меня что-то вот тут в боку свербит! Так, что едва стерпливаю! – призналась Дунька.
– Кто не хочет пить, того будем бить! – пропели Дунька с Татьяной в адрес Смирнова.
– Трезвому человеку находиться среди пьяных так же неловко, как же неловко, как голому среди людей.
И Смирнов для большей смелости выпил ещё один полный стакан с изрядным закусом жареным мясом с яйцами.
– Мир хижинам, война дворцам! – громогласно продекламировал Смирнов. – Мужики! – обратился Смирнов к сидящим за столом. – А знаете ли вы, какие раньше были благодетельные люди из богатого сословья! За хорошее исполнение роли в спектакле, актёру Мочалову, купец-мясник (у которого Мочалов в долг набирал мясо в лавке) в зале, вскочил с места, и во всеуслышание крикнул: «По мясу квиты!» А вот другой пример: у крестьянина Худякова Герасима в лесу лесничий отобрал сворованные Герасимом дрова. Герасим, вынужденно свалив дрова, поехал на пустых санях домой и с горя запел: «Эх ты, доля, моя доля, доля бедняка!» Очарованный песней, лесничий громогласно крикнул: «Эй, мужик, стой, забери свои дрова».
Желая высказаться, Смирнова перебила Дунька Захарова:
– Эт ты, наверно, про себя, Николай Фёдорыч, сообразил насчёт дров-то, а никакой тут не лесничий, а наверно ты лесник, а?
– Хрен в руку на – завтра война, нас в солдаты заберут, а вас мужики за…! – отпарировал Смирнов. – Что, стыдно харе-то? Покраснела-то…
– Да, ко всем неожиданностям я себя подготовила, а к такому подготовиться не успела – не домыслила! – ответила ему Дунька.
– Эх, как жаль, что соловьём залётным юность пролетела, ото бы я ещё показал себя, как надо орудовать среди баб! – бойко припрыгнув на месте, восторженно проговорил Смирнов, переведя свою речь на любовную тему. – Люблю баб, которые лицом и телом завлекательны, и на любовь падкие, и не люблю такую, которая ни рыба, ни мясо, – одним словом, которая с кислой миной на лице, ртом мух ловит! И дело говорится: что поцелуй нелюбимой женщины хуже пощёчины! – откровенно высказал свой вкус в этом вопросе Николай Фёдорович.
Хоть и остра на язык Анна Гуляева, и то до сих пор, пока Смирнов вёл сугубо мужской разговор, она смалчивала и не хотела портить настроение Николаю, а когда он затронул баб, то уж тут Анна, не сдержав себя, ввязалась в разговор:
– Нет, Николай Фёдорыч, ты нас, баб, не конфузь! Я ведь тоже когда-то с мужем жила и была услужливой женой. Бывало, слёту видишь, чем бы удружить мужу: каждый пупырышек на его теле был в заботливом моём внимании. Бывало, лёжа в постели, в поцелуе мужу-то своим языком в его рту всё обшаришь! Зато мой покойничек Иван любил меня за это! – высказала свою бывалую любовь и привязанность к своему мужу Анна Гуляева.
– У мужиков одна задача, расхваливать самих себя, а про нас, баб, забывают! – вступилась в разговор и Дунька Захарова.
– Как будто бабы-то хуже их, мужиков! – поддержала в разговоре Дуньку Анна. – Взять хотя бы вот нашу Татьяну Митрофановну, она вон как раздобрела и помолодела, как конфетка из бумажки вывернутая стала! Её из окошка первым сортом продашь! – льстиво, с похвалой отозвалась Анна о хозяйке дома.
– Нет, бабы, вы как не ерохорьтесь, а вы у мужиков всё равно этажом ниже проживаете! – не отступал от своего Смирнов.
– А ты у меня, Кузьма, даже и не побрился к такому знатному в твоей жизни дню! – возгордившись от похвалы, с выговором заметила Татьяна мужу.
– А я с вызмыслу не побрился. Если ты, моя Татьянушка, в таком виде любишь, то уж в бритом-то, нахоленном виде и подавно! – с самодовольной улыбкой на лице ответил Кузьма жене.
– И ваше бабье повседневное дело сводится только к тому, чтобы вечером постель перетрясти и себя к ночи для мужа припасти! – под общий весёлый смех заключил разговор на женскую тему Смирнов.
Изрядно напившись, наевшись и насмеявшись, гости стали расходиться, время поддвигалось к 12 часам ночи. Татьяна, умаявшись и разомлев от выпитого вина, повалившись на кровать, тут же мертвенно уснула. А Кузьма, вслед ушедшим гостям, по тайному сговору двинулся за Дунькой Захаровой, которая вышмыгнула из гостей заранее и прямо к Анисье:
– Ну, Анисья, берегись, твоя маланья, нынче ночью зададут ей дёру! – спьяна бесстыдно проговорила Дунька Анисье, как только она вошла к ней, как к подруге, под предлогом, что от своей избы она потеряла ключ.
– А что? – недоумённо спросила Анисья, лениво потягиваясь в постели и широко разевая в позевоте рот.
– Как что? Скоро сюда придёт Николай Фёдорович, он, чай, натосковался о тебе, так что всю ночь сам не уснёт и тебе не даст спокою! – жирно улыбаясь, высказалась Дунька застыдившейся Анисье. – Ну как, Анисья, одной-то без мужика-то в постели-то, скучно ведь, а? Я по себе знаю – скучно. А ты баба молодая, в коренном соку. Когда в постельке-то лежишь да нежишься, да особенно под утречко, на зорьке, только потянешься, а обнять-то и некого! – с ярым аппетитом к мужикам глаголила Дунька. – Я вот сама про себя скажу: иной раз ровесница у меня раздурится, так зачешется и засвербит, что терпенья нету, а мужика под боком нету, так я беру в руки веник, сначала-то ветвями, а потом и комлем начинаю её угощать, так её нахлыщу, что она и успокоится! – без скрывательства бессовестно откровенничала Дунька перед Анисьей.
– Ты, Дуньк, больно строго с ней поступаешь, – с робостью в голосе и с застенчивостью проговорила Анисья.
– А чего с ней миндальничать-то, успокаивать-то её надо! А мужика-то на скорую руку, где взять – они на дороге не валяются. Иной раз и бывает, только свистни, как целая дюжина мужиков набежит, как мухи на г…о, а иной раз наищешься! – с гордостью и сожалением говорила Дунька. – Да и опять-таки, какой мужик налетит, такого как Ершов – с золотом не надо! Он не поцелует, а только всю измусолит, – за глаза раскритиковала Дунька Николая Ершова.
– Так что, пропадай, моя с голоду, а уж Кольке Ершову не дам. Он ещё на сенокосе от меня по зубам колбуком получил! – гордыбачилась Дунька.
– Нет, уж, видно, свово мужика нет – на чужих не завидовать! – разглядывая свои бело-розовые ноги, с тяжким вздохом проговорила Анисья.
– Как это у тебя свово мужика нет?! – пытливо заглядывая в глаза Анисьи, удивилась Дунька. – А Николай-то Фёдорович разве не твой мужик! Ты таись, не таись, как не скрывай свои проделки, только люди-то не глупее тебя – всё знают. Ведь ты с ним, по-моему, давненько в хороших отношениях и близких связях! – напористо напирала, обличая Анисью, Дунька.
Анисья, сконфуженно покраснев, опустила глаза вниз, бесцельно взором упёрлась в пол.
– Всё может быть! – робко полупризналась она Дуньке. – Он ко мне масляным блином подкатился!
– Ну вот, а ты баишь, Анисья, я и так замечаю, что он в тебя врезался как порточный рубец в задницу. Свово мужика у тебя нету, значит это одна прокламация! – разоблачающе наступала на Анисью Дунька. – Эх, дурёха! Тебе даётся счастье завладеть таким мужиком – это ведь не какой-нибудь слюнтяй, а конь с яйцами! – с нескрываемой ревностью продолжала Дунька. – Ведь он раньше-то ко мне частенько захаживал! Хоть он от меня и отстал, а к тебе пристал, я об этом нисколечко не сожалею, ты ведь помоложе меня и повапетитней, а я своим ремеслом молодых холостых парней обучаю – надо же им в любовных делах удовольствие создавать! – без скрывательства своей бабьей похоти откровенничала Дунька. – У меня нет кошелька с деньгами, а есть наподобие кошелька – между ног портаманет, который не бывает без монет! – с бесстыдством перед Анисьей уточняла Дунька.
У неё на этот счёт была своя собственная логика рассуждения – самогонку подерживала и своим полным телом поторговывала. Благо, она оказалась бесплодной, а в народе всякое судачат:
– Дунька со всеми гуляет, а ни разу не забрюхатит!
– Како ни разу, она уж не одного вытравила! – уточняли бабы.
– Эх, Дуньк, какая ты толстая! – с долей зависти проговорила Анисья, обшаривая своим взором Дуньку с ног до головы.
– Я и сама не знаю, вроде и помалу ем, а вот толстею и толстею, дикое мясо что ли на мне наросло! – с довольной усмешкой отговаривалась Дунька.
– А люди бают, ты вапетитные капли употребляешь? – сказала Анисья.
– Ну уж это враки, у меня пока и без капель аппетит – не жёвано летит! – добродушно улыбаясь, пояснила Дунька.
Хотя Дунька и сказала Анисье, что она не жалеет Николая Смирнова, но она с большой ревностью уступила его Анисье, но на это есть веская причина. По селу прошёл слушок, что Дунька Захарова где-то «благой боли» раздобыла. Дунька около месяца находилась на излечении, временно её «портаманет» оказался без монет. Николай Смирнов, услышав об этом, сразу же порвал с ней близкую связь и всецело привязался к Анисье. Да и красоту, и молодость у Дуньки всю вымакали мужики с парнями. Охотников на Дуньку сразу же значительно поубавилось, в любовных делах она стала сдавать. Не унимался только Николай Ершов, дорвался до Дуньки, да Кузьма Оглоблин изредка посещал её.
– Чу! Кто-то идёт! – насторожилась Анисья.
В избу, стуча ногами и громко хлопнув дверью, вломились сразу двое: Николай и Кузьма.
– Дуньк, ступай в ту избу! – приказала Анисья.
Дунька бесцеремонно прошла в комнатушку-бокоушку, Кузьма разъярённо двинулся за ней, несдержанно хватая её за груди.
– Погоди, я на двор схожу! – урезонила Кузьму Дунька.
– А зачем? – недоумённо спросил её Кузьма.
– Ты, рай, не знаешь, зачем «на двор»-то ходят?! Выпростаюсь! – без ужимок выпалила Дунька Кузьме.
Она вышла и вскоре вернулась. Не успела Анисья загасить огонь, как из бокоушки послышался шум. Кузьма медведем сграбастал Дуньку в охапку, повалил её на чисто вымытый пол, послышались звуки смачных поцелуев. Она, притворно сопротивляясь, избегала его ключей бороды, которая кололась, как только что скошенный луг. Во время возни, с пыхом, на чистом полу, Кузьма своими сапогами описывал затейливые круги, замысловатые спирали и петли-восьмёрки.

