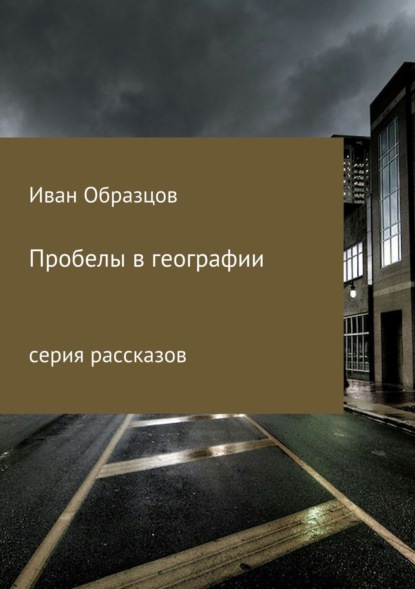 Полная версия
Полная версияПробелы в географии. Серия рассказов
В, о, д, р, е, з, л, а, я, с, б, к. Все необходимые буквы оказались на месте и ТТ облегчённо вздохнул. Проведя по фанере три карандашные линии, ТТ приготовился печатать текст. Накапав на войлочный обрывок масляной половой краски, он осторожно брал плоскогубцами каждую букву и, макнув в мягкий войлок, аккуратно делал отпечаток на фанерном прямоугольнике.
***
На следующий день краска просохла. ТТ вышел за калитку с табличкой, молотком в руках и с несколькими гвоздями в кармане.
– Здорова, Тимафеич!
Перед ТТ вырос, словно из ниоткуда, акселератичный и вертлявый сосед, которого все звали Велик. Великом он стал из-за фамилии, которая была то ли Велиалов, то ли Велизаров, но ТТ звал соседа просто Димон.
– Здорово, чего болтаешься, с работы что ли выгнали? – ТТ начал прилаживать табличку на заборные доски, сбоку калитки, так, чтобы на уровне глаз любого непрошенного гостя сразу виден был чёткий и недвусмысленный посыл «Во дворе злая собака».
– А ты чего эт, Тимофеич, про собаку пишешь, у тебя ж сроду её нету? – Димон пропустил вопрос Тимофеича мимо ушей.
– Теперь есть, – твёрдо сказал ТТ через плёчо и начал прибивать табличку.
– Чё эт ты, когда успел-то? – ТТ затылком чуял, как неприятно вертится рослая фигура и мимикрирует дебильная физиономия Димона у него за спиной. Димон-Велик катал и выпячивал губы, порьськал и цвикал, резко втягивая сквозь зубы воздух, непрерывно сплёвывал перед собой и мелко поглядывал по сторонам.
– Ну-ка, Димон, подержи здесь, – палец ТТ ткнул в край таблички.
Димон придавил одной рукой угол фанеры, а другой начал потрагивать то кончик носа, то бровь, то лоб, причём он умудрялся каждым движением свободной руки тронуть, утереть и почесать одновременно.
– О, глянь, Тимофеич, эт не к тебе едет, – Димон придурковато засмеялся.
ТТ обернулся. Мимо, по разбитой дороге медленно и аккуратно крался большой чёрный джип. Внутри сидели какие-то жирные, чёрно-коричневые силуэты, отдалённо напоминающие людей. Неспеша, вальяжно и презрительно джип проехал мимо и стал удаляться.
– Машину бережёт, смотри как потихонечку ползёт, – ТТ поднял руку с молотком и потряс им вслед джипу.
– Историю надо было беречь, и дороги были бы целые, – он повернулся и с силой последний раз ударил по гвоздю, словно ставя твёрдую точку в своём высказывании.
– Тимофеич, у тебя крыша-то чего не чищена? – Димон отнял руку от забора и, раскрыв широко рот, зевнул.
ТТ молча и степенно указал на табличку, мол, будьте внимательнее, а то обращаете внимание на второстепенные нюансы, упуская при этом важные инструкции.
К вечеру погода резко поменялась. Подул истеричными порывами холодный и сырой ветер. ТТ топил печь и листал старые выпуски «Наука и Жизнь». Так прошли две недели, а после с крыш опять потекло.
***
Получив пенсию ТТ отправился в хозяйственный магазин и купил ту самую, из толстого красного пластика и с металлической полоской окоёмки, снеговую лопату. Вернувшись домой, он по приставленной деревянной лестнице поднялся на уровень верандовой крыши, но снег скидывать не стал.
За две недели резкого похолодания снеговой студень на крыше превратился в сплошной кусок льда, из-под которого уже текли струйки оттепельной воды. Подниматься на крышу и стоять на этом скользком монолите было опасно, потому ТТ только выругался про себя и спустившись на землю задумался.
Подтаявший лёд мог в любой момент обрушиться с покатой крыши, тем более, что борозды профнастила, подобно скользким рельсам так и манили лёд сбежать весело вниз и обрушиться на голову проходящего мимо ТТ.
Скинуть нет возможности, но и оставить всё вот так тоже нельзя. ТТ понял, что за многие годы у него появилась даже не привычка, а неосознанное знание, что в это время весь снег с крыши сброшен и можно ходить спокойно. Он вдруг представил, что идёт задумавшись о чём-нибудь из сарая и совершенно не замечает опасности сверху. А в этот момент рушится лёд и калечит ТТ. Страшнее всего была вовсе не возможность летального исхода, смерть как раз никакого страха не вызывала. Но вот остаться беспомощным парализованным инвалидом было страшно и невыносимо глупо.
И тогда ТТ вспомнил про два одинаковых объявления, которые видел недавно возле крыльца местного ЖКХ. Действительно, ведь нет ничего проще, чем написать себе перед глазами памятку «Осторожно, на крыше лёд!». Решение оказалось настолько простым и гениальным, что дух захватывало, но главное, это не требовало никаких особых усилий.
Вернув в сарай лопату, ТТ отыскал на полке грифельный карандаш и кусок картона. Потом подумал и, отложив карандаш в сторону, достал банку масляной половой краски и щепкой начертил себе памятку «Внимание! Осторожно! На крыше лёд!». Довольный собой он прибил мелким гвоздиком табличку на уровне глаз сбоку окна веранды и, отойдя немного назад, посмотрел на свою работу.
Да, сделано было как надо. ТТ вернулся к сараю и неспеша пошёл в сторону дома, как бы репетируя возможную в будущем ситуацию. Табличка сразу бросалась в глаза и была прекрасно видна, но взойдя на крыльцо ТТ обнаружил, что этого недостаточно. Он сообразил, что если будет идти со стороны калитки, то никакой таблички не увидит.
Через полчаса была готова копия памятки. Прибив ещё одним мелким гвоздиком дубликат антильдовой таблички со стороны тропинки, ведущей к дому от калитки, ТТ остался полностью доволен результатом. Зайдя домой, он взял выпуск «Наука и Жизнь» за прошлый век, лёг на старый диван и погрузился в чтение.
***
Яблоневый сад в этом году дал обильный урожай. Крупные, сытые яблоки падали на землю тяжело и надёжно, словно собирались тут же прорасти новым деревом. ТТ собирал яблоки в деревянные ящики и уносил на веранду. Вся веранда благоухала приторным запахом спелых фруктов.
До конца августа оставалось чуть более десяти дней, а на дворе стояла такая жара, что казалось до осени ещё всё лето впереди. В эти редкие дни к ТТ обычно приезжал сын со своей коротконогой упитанной супругой и привозил Тимофеичу на недельку пару дебелых внуков. Уезжая, сын загружал багажник своей машины ящиками с яблоками и где-то сдавал их на продажу.
– Это самое, Тимфей Тимфеич, слышь, эт самое, – над забочиком, отгораживающим сад ТТ от соседнего участка, болталась мелкая головка соседки Анчутки. Эта была маленькая юркая старушонка, постоянно появлявшаяся непонятно когда и откуда. Казалось, что дожив до возраста, когда внешность уже теряет своё значение, Анчутка так и застыла в этой поре. Глядя на неё можно было подумать, что ей пятьдесят, также как и можно было подумать, что ей сто лет. Время для Анчутки давно остановилось и от молодых годов осталось одно имя – Анчутка.
ТТ аккуратно уложил пару яблок, которые только снял с ветки и распрямился. Голова Анчутки нетерпеливо бултыхалась над заборной стенкой. Иногда над ней взлетала сухонькая мумифицированная кисть руки и поправляла на жиденьких волосёнках засаленный платок.
– Эт, самое, Тимфей Тимфеич, ты яблоньку, эт самое, яблоньку-то удобрять чем хошь?
– Подкормку что ли какую? – Анчутка всегда напрягала своими назойливыми и идиотскими советами, но в этот раз ТТ почему-то совсем не понравился её интерес, и он даже подумал, что вот так если отрезать Анчутке голову и насадить на забор, то даже и тогда она наверно будет надоедать своей трескотнёй. Ещё ТТ подумал, что от этого может быть польза, ведь и пугало ставить не понадобится, и даже табличку про злую собаку можно снять. Он недобро улыбнулся про себя.
– Ну, эт самое, да, да, я, эт самое и спрашиваю, – голова Анчутки затрепетала ещё нетерпеливее, было ясно, что сейчас последует очередной совет, вычитанный ей из какой-нибудь рекламной колонки на последней странице «Унылого садовода».
– Чем всегда, тем и буду, – у ТТ немного закружилась голова и мир качнулся из стороны в сторону.
– Так я, эт самое, я вот тут прочтала, эт самое, надо этим самым, ну из сортира брать и мазать, эт самое, профессор – садовод сказал, что только, эт самое, этим самым, ну человеческим говном надо, вот, – выпалила голова Анчутки на одном дыхании. И звучало это так, будто это такая самая правдивая правда, которую от народа все скрывали, но сейчас всё открылось. А если уж профессорский рот изрекает эту правду, то сомнений быть никаких не может, значит всё так и есть.
ТТ представил ровные стволы своих яблонек, перемазанные вонючими кусками дерьма и его затошнило. Мир закачался ещё больше, и он присел на пустой ящик, чтобы перевести дух.
– Ты свои-то уже поди намазала? – ТТ почти был уверен в ответе.
– А как же, эт самое, сейчас самое время, эт самое, а ещё можно в тряпочку и к голове прикладывать, чтоб, эт самое, не вело, эт самое, от давлёнки, – на голове Анчутки был платок, потому ТТ не сразу заметил странный комок, выпиравший из под платка на её макушке.
– Что же так воняет-то, а я то думаю, что ж так дерьмом-то несёт, – пробормотал ТТ себе под нос, встал и грузно ушёл домой.
***
На память от лихих девяностых у ТТ остался спрятанный за домом, под кучей полусгнившего горбыля, пистолет марки «Тульский Токарева». Это была старая модель с широкими насечками на корпусе и деревянными щёчками. Он нашёл этот пистолет прямо на улице, когда пешком возвращался поздно вечером домой с похорон жены. Тогда обойма оказалась наполовину пуста, а из дула пахло копчёной колбасой.
«Тульский Токарева» лежал в ладони тяжело и надёжно. Тимофей Тимофеевич понюхал дуло. Сейчас оттуда пахло сыростью и распаханным полем. За годы, проведённые в земле, под гнилыми сосновыми досками пистолет пропитался какой-то земляной древностью и был похож на артефакт давно ушедшей войны.
ТТ сел на кровать, посмотрел вокруг. Его окружали такие родные и близкие сердцу предметы. Вот старая русская печь, покрытая пожелтевшей, но ровно уложенной известковой смесью, вот деревянная оконная рама – они с женой когда-то давно ставили эту раму и смеялись, когда с той стороны окна села сорока и, стрекоча, стала косить на них глазом, словно приглядываясь к новым жильцам. Он вспомнил о жене и о той стране, где они были счастливы. Сейчас он чувствовал себя старым брошенным плюшевым медведем. Не было страха или жалости, не было тоски по ушедшей эпохе, осталась одна только сосущая в груди пустая тяжесть. Это была тяжесть огромной пустой цистерны, из которой выкачали всё дизтопливо, это была тяжесть гиганских пустых космодромов, это была сама тяжесть земной гравитации.
Впервые он захотел во что бы то ни стало ощутить вкус полёта, полёта туда, где они опять будут счастливы, где они опять будут вместе.
Тимофей Тимофеевич счастливо улыбнулся и, ласково поднеся к виску дуло пистолета, нажал спусковой крючок.
***
Когда тело Тимофея Тимофеевича было обнаружено, то на стене, в красном углу наискосок от изголовья кровати висела табличка «В моей смерти просьба никого не винить». Внизу, на тумбочке, опрокинутый вниз лицом, лежал портрет вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.
Место Васьки бомжа
Бомжовость не была для Васьки чем-то мучительным и нисколько его не оскорбляла. Он воспринимал это своё житиё как альтернативу окружающему рекламному рабству.
«Настоящее, на него ведь надо решиться, – рассуждал Васька. – По крайней мере, я никому ничего не должен».
Каждый день Васька наблюдал из своего угла как мимо суетились небомжовые граждане.
За всё время наблюдений Васька нашёл только два признака, которыми различались небомжовые между собой.
Первый признак был из области гастрономической и выражался на лицах разной степенью сытости. Об этом признаке можно рассуждать совершенно отвлечённо, так как никакой солидарности он не предполагал, а больше раздражал самих граждан. Правда, как казалось со стороны, граждане приписывали своё раздражение чему угодно, кроме стремления к сытости.
«В общем-то это правильно, тем более, что даже немного облегчает чувство собственной виноватости, которое, конечно же, никуда не деть, и гложет оно гражданина из глубины подсознания. Да, небомжовым гражданам жить приходится не сладко», – мысли Васьки всегда носили рассудительный характер, уж такова была его неискореняемая слабость.
Второй признак, которым различались граждане, был чисто техническим. Он заключался в способности переносить себя от места ночёвки к месту суеты с разной степенью комфорта. Одни суетились пешком и общественным транспортом, а другие – на личном автомобиле – вот и всё различие.
Всё оказывалось понятным, когда наблюдаешь из своего угла, а пёстрая масса небомжовых граждан превращалась в один нервический поток, из которого выныривали то бампер джипа, то рука с продуктовым пакетом, то ещё какая-то общая деталь взвизгивающей повседневности.
Единственное, что смущало, это определение промежутка, когда злобное полуголодное лицо гражданина перетекало в самодовольное сытое. Это совершенно неуловимое изменение переводило гражданина из категории пешкообразных в касту автоездовых, но когда это изменение случалось и где та серединная форма сытости, этого заметить никак у Васьки не выходило. Всегда оказывалось, что проскальзывающие мимо лица относятся либо к голодной низшей, либо к сытой высшей категории.
В конце концов, Васька решил, что небомжовых объединяет здесь именно продуктовый инстинкт, а всё остальное – нюансы потребительских возможностей. В вопросах питания наблюдалось одно очевидное стремление – все стремились пожрать побольше, получше и посытнее.
«Главное же выявить и обобщить, а там и само понятно», – Васька выявил и спал спокойно.
Поесть Ваське тоже хотелось.
И хоть не с таким остервенелым фанатизмом как небомжовые граждане, но Васька тоже искал себе иногда еду. Воровать он не умел и потому боялся даже пробовать. Основным источником пропитания были для Васьки мусорные баки.
К еде Васька относился, как к неизбежной необходимости, но вот что действительно ценил, так это покой.
Ценность покоя росла с опытом. Накопившись достаточно, опыт позволил заключить – покой найти очень сложно, потому что от тебя всё время кому-то что-то было нужно.
Нужно было в том смысле, что небомжовые оказывались везде и везде обращали на Ваську своё назойливое внимание.
«Казалось бы, никому ничего не должен, ну так и отвяжитесь от человека. Ан нет, лезут и лезут. Кто со своим слащавым участием, кто с претензиями», – беспокоили небомжовые граждане Ваську постоянно, и чем дальше он прятался, тем сильнее оказывалось беспокойство.
Отдельная история, это полицейские патрули. Те выискивали Ваську специально и беспокоили так дуболомно и тупо, что казались заведёнными розовощёкими брёвнами.
«То ли их какой специальной кашей кормят, что они все такие розовощёкие и дубовые?» – недоумевал Васька.
Вообще, было странно, что вокруг ходили и ездили хамы, неучи, жулики и воры, но их никто особо не беспокоил своим назойливым полицейским вниманием. Зато Ваську бомжа беспокоили все кому ни лень, от полиции до базарных тёток.
Васька бомж не воровал, не пьянствовал и даже не курил, он только забивался в свой угол и только потому, что другого дома у него не было.
Та, прошлая небомжовая жизнь, которая когда-то то ли была у Васьки, то ли ему казалась – она забылась почти начисто. От прошлого Ваське перепал обрывок человеческого ФИО и клочки тёплых, полусонных привычек.
«Может я и вправду был кем-то важным, может даже и учителем в школе или там даже профессором», – но о прошлом можно было только мечтать, потому что никакого такого прошлого он не помнил.
«Васька, ты на вот, на. Тут осталось ещё, выкидывать-то жалко будет», – небомжовый водила Петрович сидел на корточках перед Васькиным углом, протягивая перед собой еду.
Васька взял промасленный кусок обёрточной бумаги с зажатым в ней недоеденным чебуреком. Петрович довольно ощерился, и у него во рту мелькнули неровным частоколом железные коронки.
«Поешь хоть, а то вот сидишь тут», – неопределённо прокряхтел старый водила и, поднявшись, ушёл к своему потрёпанному ПАЗику. Удалялся Петрович как бы рывками, приваливаясь на левый бок и нелепо болтая правой кистью, словно хотел показать что-то и всё никак не мог определиться, что именно.
Мясо в чебуреке было выгрызено подчистую. Васька достал из кармана целлофановый мешочек, аккуратно положил в него прожаренное чебуречное тесто и запихал мешочек обратно в карман.
Невдалеке кучковались таксисты-частники.
– Не, ну ты слышь, Серёга-то, он как бы не при делах, а этот ему наезжает, ну как бы тачку типа сам делай, мне вообще, говорит, не при делах как бы, ну, это самое, не будет платить вообще.
– Да Серёга сам, чё он быковать-то начал, надо было по уму оформлять и всё, а так, оно конечно мужик откажется и всё, и ничё не сделаешь.
– Ну ясно дело, а ему-то как бы от этого не легче, тачка-то в ремонте теперь зависнет на неделю, а то и вообще на полмесяца. Тот-то мужик на навороченной, бабла походу вагон, а Серёге теперь работать на чём. Этот мужик, он как бы мог и по-людски поступить, понять-то можно да и всё, а так, Серёге попадать, а тому вообще без разницы.
– Ну, так-то да. Чё вообще за народ пошёл, у него бабла нормально, а он жабит ещё больше.
– Там, Серёга говорит, разбирались когда, так этот мужик за каждый клапан удавиться готов был. Не, ну ты сам прикинь, если он за клапан так, то за остальное вообще понятно. Он, клапан-то, сколько там, рублей двести стоит. Я бы даже базарить не стал, тут пошёл бы, да купил без базара, жалко что ли, если на крутой, так две сотки-то вообще копейки, а мужик-то жабит, жалко ему что ли.
Мимо гудели проезжающие грузовики, стучали трамваи и копошились прохожие.
«Жалко, конечно же жалко, не ясно им что ли, что чем больше, тем жальче», – Васька поморщился от этой мысли и выпрямил затёкшую ногу.
Если смотреть на мир со стороны, то сразу начинаешь задумываться, а где этот мир, в истеричных автомобильных и общественных вскриках, в неровных движениях тел и машин? Может тот мир, который единственный, который и называется миром по-настоящему, он где-то там, наверху, где ещё нет такой толкающейся тесноты, а разваленные тучи ещё могут себе позволить быть неторопливыми и по-настоящему грозными. Васька пока не нашёл окончательного ответа на этот вроде простой, но если разобраться, то совсем неоднозначный вопрос. Васька пока наблюдал за небомжовыми гражданами. Наблюдал, прячась в своём углу. Наблюдал из-под бетонной плиты городской теплотрассы.
Ещё одно наблюдение Васьки бомжа было на первый взгляд случайным.
Глядя весь день из своего закутка за стеклянные витрины магазинов, блеском которых было заполнено пространство с гордым именем площадь Свободы, Васька заметил, что самые большие очереди всегда были в продуктовые отделы и аптеку. Неслучайная связь между этими очередями прояснилась внезапно.
Однажды мимо проходили два очкастых мужика, и из их оживлённой беседы до Васьки долетел обрывок.
– Всё стоят и стоят. Зайдёшь за булкой хлеба, а там очередь, зайдёшь за пачкой парацетамола – и там опять очередь. То ли привычка у дураков стоять гуськом такая, прямо никаким изобилием не вытравить, – говорил глухим басом очкастый, который пожирнее и помельче ростом.
На что второй, плотно сбитый, но с небольшим брюшком под полосатым свитером, бросил, словно между прочим:
– Так нажираются вначале всякой химии, потом лечатся, и тож химией, вот и выстраиваются за дозами – сначала в продуктовый отдел, потом в аптечный, – очкастый номер два скривился и провёл ладонью по полоскам свитера на животе.
– Народ у нас такой, – полосатый повертел пальцами в воздухе. – Быдло.
***
Поздно вечером, когда январский мороз набирает особенную силу и готовится морозить и дуть сквозняком во все щели, за Васькой погнались какие-то непонятные граждане. Он как раз отходил от мусорного бака, и вдруг ударили автомобильные фары, а из-за них закричали.
– Лови, вон он!
– Да здесь, здесь засел, я точно говорю!
– Оба-на, сейчас подрежем-то!
Васька метнулся за угол дома и увидел раскрытую дверь подъезда.
«Чудо», – пронеслось у Васьки в голове молниеносной вспышкой.
Все подъезды закрыты на домофонные замки, но этот сияющий свет впереди говорил о том, что проход свободен, и Васька ринулся в него, припадая к подвальным окнам и запыханно оборачиваясь назад.
Заскочил и юркнул под лестницу. Затих.
В подъезд ввалилась супружеская пара. Под лестницу прокатилась слабая волна запахов – винегрет, дешёвый алкоголь и лосьон после бритья.
– Кто-то заскочил, ты что, не видела что ли, – шатающийся мужской баритон икнул и завис над лестницей.
– Ну опять бомж туда залез, туда, под лестницу. Они и воняют здесь, и дверь специально сломали, – женский визгливый голос повысился на слове «специально» и настойчиво дребезжал, отскакивая от стен пустого подъезда.
– Ну посмотри, посмотри, чего стоишь-то! Надо выгнать, а то опять всё загадят, ну что ты стоишь!
Мужчина тяжело запыхтел и зашебуршал одеждой.
Зажёгся тусклый экран телефона. Огромная мутная тень стала опускаться по стене, намереваясь занырнуть под лестницу.
Васька испугался, что вот сейчас достанут и начнут трепать, а потом на улицу выкинут. На улице холодно так, что не по-человечески всё.
И от страха залаял собакой.
«Что вот, мол, сами испугаются и отстанут, оставят в покое, а он здесь погреется, полежит, да подремлет в пыльной подвальной темноте», – спутанные мысли проносились в Васькиной голове, пока он лая по-собачьи, и по-собачьи же пятился глубже и глубже в подвал, а потом провалился.
Видно под лестницей лаз какой-то был, и попал Васька в него совершенно случайно.
Притихнув, подслеповато поморгал и различил три, похожих на человеческие, силуэта, темнеющие темнее, чем темнота вокруг. Они лежали на полу клубками, свернувшись, как собаки, и только Васька к ним провалился, то зашевелились, завставали.
– Э, ты чо там? – хрипло и агрессивно выплюнул один клубок.
Васька уже привык к темноте и различал физиономию с уголовными глазами. Новая волна страха накатила на Ваську, и он начал хорохориться.
– Ничего, ты отстань, – Васька попытался придать голосу развязной наглости и угрозы.
Уголовный поднялся и пошёл на Ваську напролом, шебурша у себя за пазухой. Страх подтолкнул вперёд, и Васька сделал выпад, будто в руке у него спрятан ножик.
Он мягко тыкал пустой рукой в туловище напугавшего его уголовного.
«Так тебе, так», – стучало бессмысленно в голове, но рука упиралась в ватник уголовного и пружинисто отталкивалась обратно.
– Опачки, – услышал Васька над ухом, и до него дошла, оглушительно допрыгнула острая боль в правом боку.
Тело переломилось и будто зачесалось справа, под грудью. Зуд беспокоил и беспокоил. Васька хотел ползти от зуда в угол, пробираться по грубым осколкам бетона, но было так темно, что темнота стала ощутима всей кожей. Темнота превратилась в густой битум, и Васька всё никак не мог протолкнуть вперёд руку.
У кого-то наверху, за дверью орал телевизор.
– Вот вы говорите минусы, а продолжительность жизни, а?! Я вам говорю, вы посмотрите, нигде в Европе нет такой жизненной продолжительности! А материнский капитал? Вы слышали где-нибудь про материнский капитал, я вас спрашиваю?!
Васька не слышал. Он думал про то, что вот хорошо сейчас дома, после уроков, сидеть и смотреть, как мать собирает в саду яблоки. Яблоки крутобокие и пышные, а руки матери держат у бока большой эмалированный таз.
– В покрывало, в покрывало надо, чоб не кровило, – Ваську поволокли.
Между прочим, не Васька, а Василий. Он раньше вроде был учителем. И не каким-то там педагогом, который как банкомат, ни душе, ни сердцу, а учителем.
Ваську затащили и бросили на площадке первого этажа.
– Надо б позвонить хоть кому что ль. Ну, в дверь кому и дёрнем?
– Ага, чтоб тут и запалили, – зло прокашлял страшный шепот уголовного.
– Давай, сюда под дверь и валим.
Горят и искрами вспыхивают в голове мысли, как отсветы от пламени в голове. Горячо, ох горячо, когда тебя в бок, да ножичком. И кровь такая, что железной стружкой пахнет. И вязкая, да не густеет только, а всё как из бочки прохудившейся течёт и течёт. Нет конца этой крови будто бы. Только кажется теперь, что и начала у неё нет, что всегда так было, есть и будет – горячо и железом струганным пахнет. А если кровь железом пахнет, то и вязкая она тогда правильно, ведь железо плавят когда, оно на кисель вроде похоже и льётся густо-густо.
Блажен ты был, Василий, блажен остался. Так и помирать не страшно, Блаженным-то.

