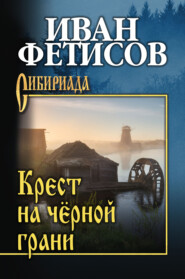скачать книгу бесплатно
Идём по питомнику, толкуем, вытираем с лиц обильный пот, день выдался жаркий, начало июля. Смотрю: перед глазами несколько делян, пшеница на них, замерял – почти по пояс! А колос – с указательный палец, весь на виду, без ости, уже чуточку зажелтел. Вот чудо!
Останавливаю Соснова, спрашиваю:
– Иосиф Петрович, что за пшеница?
– Сложный гибрид. С уклоном на засухоустойчивость.
– А урожай?
– На опытных делянах центнеров по пятьдесят обходится.
– И зерно мукомольное? Хлеб-то выпекали?
– Получается. Вкусный.
Смотрю на деляны, а вижу целые составы вагонов с зерном. Да вы что, говорю уже с укором, держите добро под пудовым замком в амбаре! А-а?
– Нельзя выносить на поля – не готова, – отвечает опять. – Пшеница до конца испытания не прошла, а это рискованно. Посудите, Степан Алексеевич, дадим мы колхозам пшеницу, а в ней какая-нибудь язвинка выплывет. Всякое может быть. Вдруг окажется нестойкой к какой-нибудь болезни. Нам, учёным, это полбеды, колхозам – сущее бедствие.
Слушаю Соснова, чувствую его душу, а сам всё-таки думаю ещё и о другом: неужели ради большого дела нельзя переступить какую-то, пусть запретную, но не преступную грань? Убеждение не подействовало. Отстаивал учёный свою линию. Усмиряю себя, чтобы не выпалить грубое, оскорбительное слово. Несговорчивость Соснова казалась капризным упрямством, а не убеждением застраховать колхозы от какой-нибудь напасти. Возможно, я ошибался в своих догадках, но тревога о хлебе не давала покоя…
Секретарь райкома отошёл от стола к сияющему светом окну на малолюдную улицу, повернулся лицом ко мне и сказал задумчиво:
– Я тогда, грешным делом, подумал: Соснов лукавит не потому, что пшеница не подоспела для передачи колхозам. Было подозрение органов госбезопасности, мол, он, отпрыск купеческого рода, не благоволит новой власти. Вот с такими противоречивыми мыслями я оставил учёного. На прощанье всё же попросил основательно подумать о нашей беседе.
Соснов недели через две появился – неожиданно и, к моему удивлению, радостный. В обыденной рабочей одежде, прямо с поля, в льняной куртке и лёгких парусиновых брюках. Загорелое, свежестью дышит его лицо, стушевались морщины. Из-под тенисто нависших бровей молодо светятся серо-зелёные глаза. Видел, пожаловал человек с приятной вестью. Сели в кресла рядом. Соснов, положив голову щекой на левую руку, смотрит на меня. Заговорил взволнованно:
– Вы торопите, Степан Алексеевич, но я не знаю глубоких мотивов. Потеряна Украина – житница наша, так это ж не навсегда. Освободим!
– Когда?
– Об этом надо спросить у Верховного главнокомандующего. Он знает.
– О-о, Иосиф Петрович, и он может ошибиться в сроках. Нынешнюю сводку Информбюро читали?
Соснов, молча кивая, глубоко вздохнул, неслышно покачнулся в кресле.
– Понимаю: неудачу под Москвой норовит восполнить захватом Сталинграда.
– Тыл должен лучше помогать фронту. Всем, чем возможно. И тут ваша пшеница, Иосиф Петрович, не на последнем счету. Давайте побыстрее её на пашню, – повторил я свою просьбу.
Помедлив, Соснов сказал:
– Придётся, видно, отпускать птицу на волю… Не без риска, – сделал паузу, по-стариковски степенно перевёл сдержавшееся дыхание, продолжил: – А если какая случайность, не оставите меня, Степан Алексеевич, с бедою наедине?
– Вот такая история, товарищ Егоров, – добродушно поглядывая на меня, сказал секретарь райкома. – Тогда-то и открылась душа учёного. Подружился я с ним. Осенью часть семян Соснов передал колхозу для размножения.
Округин, задумчиво ушедший в себя, вернулся за стол, медленно опустился в кресло, распечатал пачку «Казбека». Закурил. Я подумал: Округин прервал рассказ о Соснове неспроста, на каком-то важном моменте. Было время попрощаться и уйти, а вроде не видел повода. Что-то между нами оставалось недосказанным.
По кабинету рассыпалась звень телефона. Округина вызывали на разговор с обкомом партии. Я было собрался встать – самое время воспользоваться заминкой, благодарно кивнуть собеседнику и уйти. Округин махнул рукой – попросил остаться и, когда закончил разговор, спросил, каким транспортом я собираюсь в посёлок.
– На плотике.
– Да ну? Не шутите.
– Правда… Кучер мой где-то затерялся. Ефим Серебряков.
– Не беспокойтесь – отвезём на райкомовской эмке.
Разговор с Округиным не успокоил, только укоренил сомнение. Если «таёжная» выращивается в колхозе, то почему нет её на опытных делянах?
Чья-то невидимая рука затягивала узел всё туже и туже.
* * *
Маринка ожидала меня за накрытым обеденным столом. С нею же, возле её ног, крутился Степанка. Я его, пустившегося ко мне вприпрыжку, поймал на середине избы и поднял над головой.
– Испугался, орлёнок?
– Не, пап. Я лётчик. Полетим ещё выше.
– Да хватит уж, силы у мотора маловато.
Степанка потянулся достать ручонками потолок.
– Немного осталось. Фур-р-р…
Глядя на наше баловство, Маринка заволновалась:
– Не приучай парнишку к озорству. Потом сам не рад будешь.
– А ты, мамочка, не ругай папу. Он тебя не ругает, – деловито распорядился Степанка. – Ну, хватит, пап, спускай самолёт на землю…
Когда внимательно пригляделся к столу, то заметил непривычные для обеденного часа блюда: вместе с жареной рыбой стояли блины и кисель.
– Сегодня, Саша, полгода после смерти Иосифа Петровича. Надо помянуть. Много бед перенёс, – сказала Марина.
Я поглядел на неё, оторопело смущённый.
– Извини, не подумал… Надо… О старике забывать нельзя. Только почему говоришь – много бед перенёс?
– Ты ещё не знаешь, как он жил тут. Всё стряслось после пожара. У нас тогда сгорел склад. У Иосифа Петровича погибли чуть ли не все семена… – Маринка рассказывала, заметно волнуясь и едва сдерживая близкие слёзы. На лицо то набегала, то исчезала сумрачная тень.
– Это в самом деле?
– Я же напрасно говорить не стану, Саша. Сама пожар видела, бегала тушить, воду в вёдрах с речки носила. Да не помогли… Всё дотла взялось пеплом… Иосиф Петрович сам едва не сгорел. Схватился больной с постели. Прибежал, кинулся в сарай, а там пламя бушует. Оттащили мужики, не дали в склад пробежать. И то лицо опахнуло жаром. О-ох, Саша, что было!.. Назавтра его взяли под стражу.
– За что? – перебил я сгоряча Маринку.
– Заподозрили в поджоге… или по кляузе. Кто знает, Саша, нам ведь ничего не объяснили, – Маринка налила в стаканы тягучего кагора. Наступило грустное молчание. Оно напомнило, как мы в перерывах между боями находили короткие минуты, чтобы отдать скромную дань почести похороненным товарищам. Тогда мы, стоя у свежих могил, вынимали, если случалось, фляжки со спиртом и выпивали свои «боевые сто грамм», клялись павшим вечно хранить о них память и беспощадно уничтожать заклятого врага. Я вспомнил об этом, наверное, потому, что видел Иосифа Петровича похожим своей гражданской мужественностью на солдата…
Пожалуй, сегодня я впервые в своей жизни чувствовал себя за столом как человек семейный, рад был домашнему уюту и близости к родным людям. Впервые подействовала благотворно, подбодрив и воодушевив, рюмка выпитого вина. И можно было считать себя вполне счастливым, если сидели бы рядом самые близкие и дорогие мне люди. Я бы хотел побыть с отцом и матерью, с Иосифом Петровичем и однополчанами, расспросить их о житье-бытье. Вспомнив о них, я, может, совсем некстати увлёкся размышлениями. Подумалось о многом. Мама представилась мне жизнерадостной женщиной, принявшей моё возвращение с фронта и калекой как большую награду за свою справедливость и просьбу (кому только она ни относилась!) пощадить сына на войне. Иосиф Петрович в моём воображении рисовался необыкновенно восторженным стариком. («Ведь говорил же я, что надёжно постоит за свою Родину русский народ. Говорил! Так и вышло. И ждал Саню своего с победой. Пришёл! Дело наше продолжит. Теперь и успокоиться можно».) Однополчане тоже ликуют, радости ихней предела нет, и им всё ещё не верится, что кончились фронтовые дороги, и сидят они за семейным столом. Отец тоже будто тут в кругу фронтовиков и равняет с ихними свои тыловые дела. Солдаты с ним соглашаются: «Ты, батя, чести людской, призвания хлеборобского не посрамил!» Выше награды старику и не надо… Много таит похвала фронтовиков… Но что с Мариной? Не пошутит она, не рассмеётся. Насторожена. Пытаюсь понять её отчуждённость.
– Ты здорова, Марина?
– Хвори пока минуют.
– А что скучна? День такой нынче – трудный?
– И день… И вообще… Разные дурные мысли в голову лезут. О том и думать не хочется, а всё равно думаю.
– Отвлекись интересным делом, – советую. Марина кротко улыбнулась:
– Не могу. Как отвлечёшься, если не спадает тревога. Она – от тебя.
– Ну!.. Серьёзно, Марина?
Она не ответила. Повременив, вылила из бутылки в стаканы остатки вина и пригласила выпить. Подумав, произнесла тост:
– За благополучие и спокойствие…
Не обратил я попервости внимания на обыденные слова и только после того как, согласившись с её желанием, выпил одним ёмким глотком вино и, посидев некоторое время как бы в приятной отстранённости от всего окружающего меня мира, задумался. Почему же сказала Марина такой, как мне показалось теперь, отдалённый от нашей жизни тост. Могла бы другой – поближе, роднее, ну, к примеру, за здоровье Степанки. Вот он тут сидит между нами, зыркает глазами, что бы съесть повкуснее да умчаться на улицу – сверстники уже крутятся у ворот и кличут играть в прятки. Или бы – за здоровье живых и упокой ушедших из жизни родителей.
Нет, неспроста выплеснулась её душа. И я против своей воли пристально посмотрел на Марину. В эту минуту на её порозовевшем лице обозначилась непокорно-грустная улыбка, в туманных от влажности глазах, вынося сгусток печали и тревоги, метнулись колючие огненные искры. Я подумал, что Марина перешагнула какую-то ощутимую лишь ею грань и решилась наконец-то открыть мучившую её тайну. Предчувствие моё подтвердилось.
Она вдруг поднялась из-за стола, открыла форточку и попросила Степанку захлопнуть ставни окон. Я взглянул на неё с удивлением: закрывать рано, ещё не наступили сумерки и, конечно, сидеть в избе при тусклой лампадке, когда на улице светло, скучно и неуютно. Однако, зная, что хозяйке виднее, что делать по дому, перечить не стал.
Зажигать лампу она не стала и села рядом, положив руки на мои плечи. С сумерками, густо заполнившими всё пространство нашего жилища, к Марине наплыло воспоминание. С первого её слова я понял, почему закрыты ставни (чтобы наш разговор не подслушали у окон).
– В такую вот пору, месяца три тому назад, – сказала Марина, – ко мне приходил мужчина из НКВД…
Сказала и смолкла, как будто спохватилась, не зря ли затеяла этот разговор. И я не сразу нашёлся, что ответить. Марина заметила моё замешательство и поторопилась объяснить.
– Не подумай о чём-то плохом, Саша, – Марина глубоко вздохнула. – Разговор касался тебя. Ну, конечно, заодно и меня.
– О чём?
– Энкавэдэшник расспрашивал, где ты… откуда были письма? Когда? Сколько времени нету вестей? Со слов моих всё записал в протокол опроса и дал его подписать.
– И ты? Подписала?
– Ага.
– Не побоялась, что затеяли пакостную штуку?
– Я правду сказала.
– А хоть спросила – зачем?
– Спросила, но не знаю, так или иначе – энкавэдэшник ответил неохотно, мол, надо, проверяет факты. Допытываю – какие? Поухмылялся, не спуская с меня своих узких глаз, и всё же уточнил, что поступило письмо на мужа, то есть на тебя… Что будто бы ты не солдат, без вести пропавший, а предатель, изменник Родины и находишься в плену. От этих жутких слов я обомлела.
– Ты испугалась тогда? – спрашиваю Марину.
– Нет. Я схватила со стола протокол, разорвала на мелкие клочья и швырнула ему под ноги. «Затопчи! – говорю. – Прибавится совести…» Он рывком отвернулся от меня и вышел, размашисто хлопнув дверью.
– Напрасно протокол испортила, – сказал Марине.
– На душе спокойнее стало. И то всю ночь без сна провела. Всё думала, что будет дальше? За что же выпала на нашу долю такая мука? Кто приложил руки к доносу?
Я перебил её мысль:
– Ладно, Марина. Время всё расставит по своим местам. Каждый получит то, что заслужил. А кстати, ты фамилию этого гэпэушника не помнишь?
– Кажется, не то Сёмкин, не то Семенюк.
– Наверно, Семенюк. Мордастый, лысолобый детина? И глаза – поросячьи.
– Ты знаешь его?
– На призывном пункте встречал, когда медицинскую комиссию проходили. Чуть не все болезни себе приписал. Открутился, чертяка, попал на службу в тылу. Ловкач! Интересно было бы встретить его. Я бы рассказал ему, где был и что видел…
– Ты и со мной-то ещё словом не обмолвился.
– Тебе-то зачем?
– Надо… Спросят ребятишки про тебя, а не знаю, что ответить… Тебе, наверно, тяжело вспоминать пережитое.
– Да нет. Кое-что недавно рассказывал Ефиму Тихоновичу. И тебе много не буду… Может, после когда-нибудь…
* * *
На фронте делали то, что следовало солдату. Тогда пришлось мне выполнять основную свою работу – держать между пехотными подразделениями телефонную связь.
Во время боя в одной из рот батальона она прекратилась. Выбрался из окопа, пополз. Стараюсь, где можно, поглубже зарыться в снег. А пули так и клюют вокруг меня. Нашел место разрыва. Провод соединил. Проверил. На вызов отозвался батальонный: «Молодец, товарищ Егоров! Двигай обратно!» А в эту минуту чуть поодаль рванул снаряд. Меня подхватило вместе с комьями мёрзлой земли. Оглушённый упал в глубокую воронку – отдыхай, навоевался! Нашли полуживого… Самое тяжкое оказалось потом, когда уже многое повидавший доктор осмотрел обмороженные ноги и руки. «Плохи дела, солдат, – не скрыл он тревогу. – Руки, может, спасём, ноги – едва ли. Здорово, братец, прихватило». Много дней лежал в бреду, у самого порога смерти.
Одну ночь, говорила медсестра, даже пришедший в сознание всё ещё бредил. Будто встретил тебя и не поверил.
– Почему?
– Чудной какой-то представилась.
– Померещилось, что ли?
– Мне показалось, что всё наяву… Будто лежу я в землянке, после контузии, куда привели меня румын Антонес и санитарка, красивая русияночка Маня. И бог весть откуда-то явилась ты, Марина, и, склонившись к изголовью, сказала:
– Я пришла к тебе, Саш.
– Кто ты?