
Полная версия:
Фронтовые приключения. 80 историй о Великой Победе
На свете много хороших людей. Тамара Тимофеевна Бем – золотой человек и настоящий друг. Больше полувека с ней общаемся. И семья у неё замечательная, не раз они мне помогали, и сейчас нахожусь под их опекой. Очень внимательны не только ко мне, но и ко всем окружающим. И детей отзывчивых воспитали – один Артур чего стоит! Сразу дела все бросил и на мемориал отправился.
У меня много добрых друзей, достойную жизнь прожила. Тридцать лет проработала учителем математики и завучем в школе №60. Добросовестно трудилась. Имею звания «Старший учитель», «Отличник народного образования». В своё время пользовалась уважением. Работала на совесть и других так же заставляла! Часто встречаемся с коллегами, вспоминаем былые времена… До сих пор занимаюсь репетиторством. Недавно приходили девятиклассницы: «Спасибо вам, Надежда Ивановна! Экзамен на «отлично» сдали!». Вкладываю душу в занятия с детьми и получаю глубокое удовлетворение. Стараюсь не только научить человека, но и воспитать в нём добрые чувства.
А мечта съездить к отцу, конечно, сохраняется. Знаю, что российское посольство в Кыргызстане помогает соотечественникам. А я ведь именно в России родилась в 1930 году. Только в 1935-м мы во Фрунзе переехали. Вдруг и мне посольство посодействует? А цель у меня самая светлая – поклониться могиле отца, сражавшегося за наш общий дом.
30 июня 2010
Мальчишеские слёзы
Бодрый мужчина на вид не больше 70 лет, перемещающийся всюду босиком, широкие лужи преодолевает вприпрыжку.
– Веди здоровый образ жизни и в свои 80 будешь как я! – начал Василий Дмитриевич Куликов. – Но детство моё было непростым. Едва началась война, отец ушёл на фронт. Мать умерла в 1942 году, оставив четверых сирот. Зиму мы пережили в селе Васильевке – голодные, холодные…

Василий Куликов
Запомнился с той поры такой случай. Собрали у посёлка эскадрон и в Кант перебросили – готовиться к отправке на фронт. А местным жителям наказали напечь хлеб: «Солдат Красной армии должен быть сытым!». Поднатужились колхозом, испекли не меньше ста буханок, подпрягли лошадей да в Кант направились. Курьерами назначили нас с тётей Полей. Прибыли, развернули лоток и ждём. Несколько раз к нам солдаты подходили, но хлеб так и не взяли – не понравился им отчего-то. Стало смеркаться, пора держать путь обратно. Едем мимо посёлка Пятилетка, что близ нынешнего Ала-Арчинского водохранилища. Вдруг слышим чьё-то улюлюканье. Тут же из-за холмов показалась толпа воинственно настроенных грабителей – хлеба нашего захотели! Поставили поперёк дороги бричку, а сами подле нашей на конях скачут и хлыстами нас порют. «Держись!» – закричал я тёте Поле и погнал лошадей во всю прыть. Прорвались мы через барьер, ещё 2 километра до деревни продержались, а дальше враг не сунулся.
Поутру повстречал председателя колхоза. «Вася, ты спас наш хлеб! Ты настоящий герой и заслужил медаль за отвагу!» – сказал он и обнял меня по-мужицки крепко, а я вдруг закричал. Сняли кофту, а у меня вся спина в ранах от хлыстов…
О встрече с бандитами написал письмо папке на фронт. Вернувшись, он рассказывал: «Как раз сражение под Курском готовилось. Построили полк на плацу и письмо твоё зачитали. И солдаты поклялись отомстить за мальчишеские слёзы!».
В 1943 году поступил в ремесленное училище. Проучившись полгода, получил разряд и стал работать на заводе имени Ленина. Производство патронов было моей основной обязанностью, и калибровочный станок стал моим самым близким другом! Хотя работа за ним была для подростка тяжёлой…
На видном месте повесили плакат, обладавший удивительной побудительной силой – «Что ты сегодня сделал для фронта?». Глядел на него и вдохновлялся. Рабочего плана у нас не было, но начальство наказывало: «Ребятки, работайте! Вашим отцам и дедам на фронте стрелять нечем».
Бывало, что и на вторую смену оставались, работая за станком по 12 часов в сутки. А сыты ли мы – никто не спрашивал. Ели раз в день какую-то баланду, запивая чаем. Но, прежде чем попасть в столовую, обязаны были спеть «Вставай, страна огромная!». Такое воспитание.
Иногда выполнял обязанности разнорабочего – вагоны, например, разгружал. А пацаном ведь был – всё надо исследовать, потрогать! В одном ящике оказались термитные патроны. Взял один в руку, он и взорвался… Нам потом строго-настрого снаряды таскать запретили.
Случился однажды на заводе пожар. А главным инженером у нас был Войцех – мужик упитанный и сильный. Глядит – документы в опасности, схватил в охапку кучу бумажек и со второго этажа сиганул. А там высоко было! Но не пострадал и документацию спас. Были свои герои и в тылу!
Тем же днём выявили поджигателей. Гоним их, почти достали. А они к воротам подбежали, увидали снизу арык сквозной и прошмыгнуть решили. Удалось! Но охрана им с той стороны как следует всыпала.
Доступ к важному объекту серьёзно охранялся. Приходишь, дежурный на проходной берёт твою бляху и перевешивает с одной доски на вторую. Уходишь, возвращает на прежнее место. У каждого на заводе было своё кодовое обозначение. 10 тысяч 734 – то был номер мой. Прежде чем войти в цех, нужно было его зарегистрировать. Чтобы не забыть, нацарапывал номер стеклом на руке. Вот и запомнил его до сей поры!
В День Победы брёл поутру в булочную. Смотрю – бежит по улице какая-то женщина и орёт благим матом. Ну, думаю, опять кого-то местного на войне застрелили. А она: «Война кончилась!».
На вокзале на встрече победителей оператор снимал кинохронику. Пацаны, как всегда, на виду – забрались на столб и радостные лозунги выкрикивают. Глядим потом последние известия – вот те раз, это ж мы! Один я в кадр не попал и оттого потом дюже горевал.
После войны получил медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». До сих пор не пойму, за что награду вручили – то ли за работу на заводе, то ли за спасённый хлеб.
Сложное было время, детьми были… Но сражались и не сдались, и внесли свою лепту в дело общей Великой Победы!
4 августа 2010
Дудки вам, а не победа!
– Родился я в городе Анапе Краснодарского края в 1927 году, – начинает Михаил Иванович Чаецкий своё повествование. – В 5 лет попал в приют в Новороссийске. А тут и голод 1933 года наступил, многие умирали. Стало правительство детей спасать. Распределяют по колхозам – у кого нет, принимайте. Я попал в Ростовскую область на хутор Коврино. Там-то, воспитываемый чужими бабушкой и дедушкой, и встретил войну.
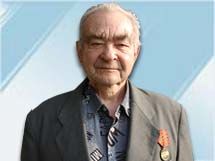
Михаил Чаецкий
Бабушкин метод
Немцы заняли Коврино в августе 41-го. Бегают по домам и требуют: «Куры, млеко, яйки!». Быстро организовали свою власть – полицию.
Случались в деревне перестрелки, артиллерия орудовала. А мы с дедом бои как пережили? Вырыли в огороде траншею глубиной 2 метра и прячемся. А бабушка в доме сидела. Хитрой была! Как войдут немцы в хату, кутается в платок и кашляет. Выходит дед и говорит: «Чахотка у неё». А фашисты чахотки ой как боялись – сразу уходили.
А у рубежей деревни танки немецкие стояли на вахте. Никак не могла Красная армия деревню освободить. Когда, наконец, немцев прогнали, командир отряда поведал: «Уже хотели из «Катюши» по вам запускать. Но так как есть нам нечего, не стали. Да и без кровли в такой холод тяжко».
Мороз в тех местах иной раз до минус сорока опускался. А снега было – не представить. Хаты заносило поверх крыши.
Воюя с природой
В 42-м организовали в деревне колхоз; меня посадили на трактор. Ходил человек от райкома партии и наблюдал, чтобы работа не стояла. А если провинишься чем – без раздумий на передовую отправляют. А я ведь сам на фронт просился, в военкомат письмо слал. Отвечает потом военком: «Надобно хлеб выращивать для фронта! Понадобишься – призовём».
Тяжело было весь день в поле. А выхлопная труба у трактора СТЗ была сбоку. Дует ветер – вся копоть в лицо. Так и ходил чумазый. И мыла не было. Протирал руки керосином да водой ополаскивал. Зимой грели бочку и мылись в ней по очереди всем семейством.
Урожай с полей выходил никудышный. Плохо посадки обрабатывались, специалистов не хватало. И природа подводила – не было дождей. Все военные годы народ голодал. Всё, что собирали, на фронт везли. Трактористам ещё более-менее перепадало – 3 килограмма хлеба на трудодень. А простым людям давали всего 50 граммов. Иной раз травой питались.
За хутором
В начале 42-го гнала Красная армия немцев мимо нашей деревни. Забежал один фашист к нам в дом и булку хлеба украл. Не успели оглянуться, а он –хвать и поминай как звали! А на стол свою насквозь промёрзлую буханку положил. Глядим, а на булке этой печать стоит – 37-й год. Где 5 лет хранилась? Разморозили мы её да с борщом съели. Не испортилась!
Простых людей немцы не обижали. Зато подлые полицаи из числа предателей вредили немало. Продавали информацию, где прячутся коммунисты. Думали, что с немцами будут жить в захваченной Европе. Дудки! Ещё шли бои под Сталинградом, а они уже эвакуировались с наших мест. Но советское войско их за хутором настигло и жестоко покарало.
Красная армия, отступая летом 41-го, представляла собой жалкое зрелище. Раздетые, разутые солдаты уходили пешком, на быках и лошадях, держа в руках трёхлинейные винтовки образца 30-го года. А немец вошёл бравый – на танках, мотоциклах, при всей амуниции, с гармошками да песнями. Увидал это народ и опечалился: не одолеть нам такого противника. Вот с той поры и стали некоторые в полицаи вступать. Но после Сталинграда пришла другая уверенность – победа будет за нами.
Баловливый пастушок
Пас я как-то ночью быков в поле. Вдруг самолёт немецкий прилетел. Пустил в небо осветительную ракету и давай нас бомбить. Я просыпаюсь: батюшки-светы – взрывы кругом! Но подниматься не стал, а самолёт улетел. Поутру пришёл на ток центральный, а бригадир удивляется: «Как здоровье?». «Живой. И скотина не пострадала».
В другой раз пас коров у пересохшей речки. Глядь – стоит танк на дне брошенный. Видать, заехали немцы, а выбраться никак. Залез я внутрь и гранаты обнаружил – целый ящик. Взорвал с десяток, а одну спрятал под рубаху и домой пошёл. Гляжу – дед играет на полянке с псом: бросает палку, а тот назад приносит. Ну, думаю, пошутим. Кинул гранату, а пёс увидал, да как припустит! «Что сейчас будет!» – испугался я и погнался за Шариком. Настиг его прыжками и телом накрыл. Тут невдалеке и граната рванула. Подбежал дед в отчаянии, а я замер. Перевернул меня, а я давай смеяться. 2 дня потом дед сердитый ходил и коров пасти больше не отправлял.
Оружия вообще много валялось: автоматы, винтовки, взрывчатка. Вооружились пацаны и на охоту за зайцем! Тогда же я и стрелять научился. Но потом указ вышел – всё оружие сдать.
За работу на тракторе получил медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». А 9 мая 1945 года сеял просо. Скачет вдруг мужик с хутора и орёт: «Войне конец!». До чего был я рад – бросил трактор и в деревню побежал за 3 километра. А там ликуют!..
26 августа 2010
Послание в вязаной рукавичке
Анна Ионовна Колодько-Чаецкая – женщина весьма бодрая. В 81 год ей не дашь больше 65. Работает по дому, ходит по магазинам, общается с супругом – ветераном-тыловиком… А какие она делает оладьи – объедение! Был я у них уже дважды, схожу и снова. Просто ради приятного общения с умудрёнными годами, много пережившими, но не потерявшими вкус к жизни людьми.

Анна Колодько-Чаецкая
– Родилась я в селе Каменка Оренбургской области. Когда началась война, мне было 12 лет. Отправили меня сразу в колхоз на тыловые работы.
Как-то раз послали в ночь пшено сдавать на элеватор. Полный кузов зерна, а я сверху присела и присыпалась, чтобы не выпасть. Остановится водитель подремать, а я нервничаю. Бужу его постоянно: когда тронемся? А дорога степью проходила. Гляжу по сторонам – глаза волчьи горят вдали да всё приближаются. Страшно! Наконец добрались. Я давай сразу зерно сгружать. Запыхалась, в горле пересохло… Весь кузов в одиночку опорожнила и назад поскорее.
А дома работы невпроворот. В 12 лет была занята тяжёлым мужицким трудом: копнила сено, работала на молотилке, косила хлеб, сушила, веяла, таскала пшеницу в амбары. Ничего не поделаешь – нужно трудиться для передовой.
Все продукты отправляли служивым. А самим есть нечего – голод. Особенно в 44-м туго пришлось. Не уродилась по осени картошка, и хлеба не было. Даже то, что на трудодень выдавалось, солдатам отправляли. Хорошо, что у старшей сестры муж трактористом был – ему хлеба чуть-чуть перепадало. Даст сынку кусочек, а тот со мной делится. Так и выживали.
Проснулась как-то утром, глядь в окно – тьма. Что такое? Оказалось, снега за ночь два метра намело. Пришлось туннели рыть из хаты до стойла и до дороги. И не валились они до самой апрельской капели – вот ведь морозы какие лютовали! А согреться-то и нечем. Кизяка было мало – им топили раз в неделю, когда пекли хлеб. В остальные дни – соломой, да разве ж ей обогреешься?!
Холодными вечерами занимались рукоделием. Мама пряла, а мы вязали. Чулки, носки, варежки из шерсти – всё для солдат. Свяжем рукавичку, а внутрь записку сунем: «Возвращайтесь с победой, хлопцы дорогие!».
Я ведь ещё и в школе учиться успевала. Тетрадей не было, писали меж газетных строчек. В классах сидели в шубах и шапках. Хоть и тяжко было, но влюбляться тоже успевали! Помню, нравилась одному парнишке-комбайнёру. Но деловой была, на него и не глядела, тайком вздыхая по другому юноше.
Поселились как-то в деревне две гадалки и давай женщин принимать. Несут им бабы последнее добро: «Ну как там мой? Вернётся ли домой?». «Вернётся!» – обещали гадалки. Обобрали баб до нитки и уехали.
На фронте у меня два брата воевали и сестрица. Один брат вернулся раненым и через полгода умер. Другого контузило, но он выжил. Много испытала и сестра – три года на полевой кухне трудилась. В Польше, говорит, была, в городе Люблине. Рисковала часто. Пошла как-то с подругой купаться на речку. Вроде в стороне от фронта, всё спокойно. Вдруг пуля шальная как просвистит – и прямо подружке в висок… И солдат голодных немало сестра видывала. Чистит как-то раз картошку, подходят бойцы: «Ты кожуру не выкидывай, мы за ней опосля подойдём!».
Отец у меня был уже в возрасте и в армию не попал. Отправили его трудиться в тыл – в город Златоуст. Рассказывал, выкопают местные жители картошку у себя в огороде, а солдаты следом идут перекапывать. И ведь находили кое-что! Соберут один котелок на двоих – ужинать можно.
В День Победы прискакал гонец с райцентра. «Мир! Мир!» – кричит на всю округу. Повыбегал люд с домов и ликует. Многие плакали. Передали мне в школу, что отец вернулся. Как сорвалась я с урока и бегу ему навстречу, целую, обнимаю…
30 сентября 2010
Вечный мусор у Вечного огня
Площадь Победы – одно из немногих мест в Бишкеке, где всегда приятно прогуляться одному или с подружкой, присесть на скамье или в увитой розами беседке. Красивый уголок столицы. Вероятно, поэтому и входит он в экскурсионный тур для новобрачных. Расписалась пара в ЗАГСе и вперёд – по местам городских красот. А я как раз рядом работаю. И что-то, знаете, много в последнее время у нас в городе женятся. Все говорят, миграция высокая. Откуда же тогда столько пар? Как-то видел очередь из новобрачных от Вечного огня до самой улицы Фрунзе. Дышат друг другу в затылок, будто служивые на марше.
Шёл намедни мимо. Батюшки-светы, сколько же возле Вечного огня мусора! Бутылки из-под шампанского, пива, водки, газировки валяются тут и там. Да ещё и осколки всюду. А мрамор-то, мрамор весь закопчённый! В чём это он? В высохших напитках что ли? Прошёл мимо и в сторонке стою. Подходит очередная пара. Выслушали пожелания и выпивают. Подруга невесты на вид высоконравственная – в короткой юбчонке и блузе с глубоким декольте, в колготках в сеточку и с пышной причёской, допив пивцо, поставила бутылку на ступеньки и ушла. Другие бросают тару на газон. Всюду полиэтиленовые пакеты (должно быть, из-под закуси) и пластиковые стаканы. В качестве урны народ использует чашу Вечного огня. Вот так: почтили память предков, возложили цветы, можно и помусорить. Сердце кровью обливается от такого отношения к священным местам.

Возле Вечного огня в Бишкеке. Октябрь 2010
Ещё одна пара подходит. Стандартная процедура – испили шампанского, поставили бутылку у Вечного огня и судачат. Вдруг оператор ко мне подошёл и прочь гонит. «А в чём, простите, дело?» – спросил я. «У нас здесь съёмки», – сказал он категорично. Всё понятно: эта местность закреплена за новобрачными, и посторонним тут делать нечего. Собрался ретироваться, глядь – свидетели уж по второй хлещут. Выдули бутылку и о чашу Вечного огня разбили. Должно быть, на счастье.
А ведь позади другая пара на очереди, неужели не видно? Уважать надо ближнего, а город свой беречь и не устраивать из места всеобщего поклонения свинарник.
По природной наивности я рассчитывал, что на следующее утро весь сор уберут, а мрамор вымоют. Ничего подобного. Площадка вокруг Вечного огня продолжает обрастать толстым слоем грязи.
18 октября 2010
Война на проводе
Григорий Дмитриевич Аксёнов весел и бодр.
– Вы проходите, я сейчас, – приглашает он в хату, а сам идёт уголь в топку подбрасывать. Взял совковую лопату и давай ею орудовать, будто юноша.
– Мне 84 года, – огорошил он меня, знакомясь.
– Да ладно!
– Серьёзно. Родился я во Фрунзе в 1926 году, а с 1931-го жил в районе Горной Маевки. У нас в семье шестеро детей было – пять сыновей и дочь. Трое старших, включая меня, воевали во Второй мировой. Первый сражался на Сахалине с японцами, второй был ранен в боях под Ржевом и демобилизовался. Ну а я, когда началась война, едва окончил седьмой класс.
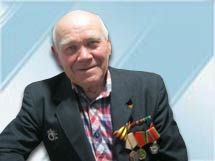
Григорий Аксёнов
В армию призвали в 1943 году. Отправился в Самарканд в стрелковый полк и пробыл там до весны 1944-го. Потом в течение двух месяцев проходил курсы радистов в Ташкенте. Попав на фронт, оказался в батарее 76-миллиметровых орудий во взводе управления вместе с топографами и связистами. Боевое крещение проходил в сражениях за Прибалтику. Всё время на передовой находился, держал связь с огневой батареей, располагавшейся сзади, передавал указания командира. Потрепали нас здорово, но Прибалтику мы взяли. Оттуда в Польшу отправились на реку Неман.
Случай был в ту пору. Поблизости находился плацдарм, занятый штрафниками, и мы их связью обеспечивали. Как-то раз немцы открыли артподготовку. Поливали как следует! Один снаряд угодил по нашим коммуникациям, и связь оборвалась. Послали нас с товарищем в ночь на починку. Бредём по льду, а он в пробоинах весь от взрывов – глаз да глаз нужен! До середины реки добрались, глядь – вот он обрыв. Соединили провода, подключились – связь с командиром восстановлена. А с огневой нет, вот те раз! Значит, где-то другой обрыв имеется. Берег перешли и в траншею уткнулись. Дальше на четвереньках пришлось двигаться. Нырнули вниз и ползём потихоньку. Вдруг пуля мимо ка-а-ак просвистит! Мы аж ухнули. Стрелявшим оказался советский солдат, сидевший на вахте. Не ждал он гостей. Да и мы не знали, что там полк стоит. «Ты что? Свои ведь», – прокричали мы служивому. Тут офицеры подоспели и стыдятся: «Не признали, извините… Но и вы могли бы предупредить!». «Предупредишь тут, если связь оборвана», – говорим мы. Восстановили коммуникации и назад отправились.
Потом оказались в Восточной Пруссии и бросились в атаку на Кёнигсберг. Подобраться к нему оказалось делом непростым. Город был окружён бесчисленными дотами и дзотами. На одном квадратном километре подступов стояло больше трёхсот орудий! Но главной преградой стали железобетонные форты. В каждом по три сотни гитлеровцев отстреливаются. Ни орудия, ни самолёты взять их не могли. А спереди минные поля, колючие заграждения и рвы! Озадачил нас противник такой обороной. Вдруг заметили, что все эти укрепления лишь по фронту выставлены. Атаки с тыла немцы не ждали. Этим мы и воспользовались, зайдя сзади и лишив их обеспечения. Сражаться стало легче, и нацистов мы из Кёнигсберга выгнали.
Но фашисты, даже отступив, продолжали вредительствовать. Советский солдат за неимением конвертов слал родным знаменитые письма-треугольники. Отступая, немцы оставляли нам «подарки» – конверты с отравленной клейкой частью. Проведёт солдат по ней языком – пиши пропало.
Неподалёку от Кёнигсберга проходила Балтийская коса, называвшаяся в ту пору Фрише-Нерунг. С той стороны косы в городе Пилау и засели отступившие немцы. Атаковать мы их не стали, оставшись охранять захваченные земли. У залива был рабочий городок. В нём мы до конца войны и просидели.
Боевых товарищей имел немало. В орудийном расчёте служил Яшка из Якутии, много общались. А с Сашей из Беларуси вместе демобилизовались и долго переписывались. Живы ли они теперь, не знаю. Разъехались в своё время кто куда.
А я до 1950 года служил в Киеве и только потом вернулся на Родину. Получил несколько наград. Самой дорогой считаю медаль «За взятие Кёнигсберга». Есть и Знак почёта за 44 года строительной деятельности. Только это уже другая история, мирная.
Вернувшись, женился. Два сына есть, четыре внука, два правнука. Жизнь удалась!
11 ноября 2010
Ангел-хранитель красноармейца
Яков Яковлевич Киселёв – мужчина хоть куда! Бодрый, статный, добродушный. Крепкое рукопожатие, искренняя улыбка. Ни за что не дашь ему 90 лет! Самый максимум – 75. Смеётся при комплименте о своём внешнем виде. «А ведь сколько раз я мог погибнуть! И до войны, и после…».

Яков Киселёв
Гость из Сибири
– Родом я из Сибири, из деревни Новопокровка Томской области. Семья у нас была большая – 9 человек, и все работали на поле. Постепенно стали богатеть, прикупать кое-какое имущество. А тут как раз началась коллективизация и ликвидация кулачества. В 1937 году на моего отца написали кляузу, и власти сочли его зажиточным, хотя рабсилу он не использовал. Без суда, без расследования его репрессировали, назвав врагом народа. Из отцовского дома нас выселили, и семья распалась. Вместе с матерью и старшей сестрой мы переехали к знакомым в Ташкент. Там я окончил 7-й класс, и в 1940 году меня призвали в армию.
Попал в часть под Минском на должность связиста. В 1941 году успел поучаствовать в первомайском параде. Город запомнился мне красивым, цветущим, современным. Затем нас перебросили в Бобруйск. Там-то и встретил я известие о начале войны.
Первый опыт
Нас сразу стали готовить к отправке на фронт, раздали противогазы. А надо же их опробовать, обновить! До этого мы только учебными пользовались. Была в части банька, в ней оставили ёмкость с ипритом. Это химическое оружие, чтоб вы знали, смертоносный яд. Нацепил я противогаз – и внутрь. «Вроде нормально дышится», – заметил я и решил проверить, а есть ли разница – в противогазе и без. Оттянул его чуть-чуть, вдохнул и чуть не упал! Закашлялся и как брошусь оттуда! Потом три дня в себя приходил.
Врагу закон не писан
Утром 23 июня, пережив первую несильную бомбёжку, погрузились в поезд и поехали на фронт. Путь пролегал через Минск. Что стало с городом! Заполыхал, задымился, ни следа от былой красоты. В нашем эшелоне не было даже противоавиационных пулемётов. Попадись мы немцам, было бы худо. Но они нас в таком дыму не заметили, и мы проскочили.
Невдалеке от фронта близ города Барановичи налетели вражеские самолёты и давай бомбить наш состав. Повезло, только несколько осколков в поезд попало. Но двигаться дальше было невозможно. В километре от нас показался поезд с ранеными, следовавший с фронта. На нём вывесили полотно с крестом – знак, по международным конвенциям запрещающий бомбёжку. Но фашистам законы не писаны. Уничтожили состав в два счёта.
Вскоре там появился вражеский самолёт и сбросил десант. Наше отделение отправили на поиски врага. Приходим в лес – никого нет. Глядь – красноармейцы какие-то стороной пробираются. У них своё дело, у нас своё. Так и не нашли мы никого и вернулись. И вдруг понимаем, что красноармейцы те были переодетыми фашистами. Они споро говорили по-русски, а мы-то неопытные, не заподозрили их, не спросили даже, из какой они части.

