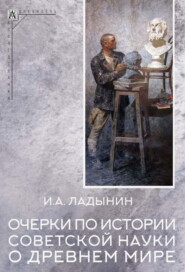
Полная версия:
Очерки по истории советской науки о древнем мире
В известном смысле апорией такого рода можно считать и теорию «революции рабов», т. е., по номинальному ее смыслу, перенесение модели межформационного перехода на рубеже средневековья и нового времени на такой же рубеж между древностью и средневековьем; однако само выдвижение этой теории было все же наращиванием квазиисследовательских конструкций вокруг случайной цитаты, а субъективную честность многих ее разработчиков можно как раз поставить под сомнение. Пожалуй, самый простой пример такой апории, порожденной историком безусловно честным, – это парадоксальная идея Е. М. Штаерман о формировании государства в Риме лишь накануне и в начале принципата [46]. Несмотря на упреки одному из оппонентов в его знакомстве с «“теорией истмата”» лишь «в самых скромных пределах» [47], исследовательница не могла отрицать, что сама руководствуется базовым со времен ГАИМКа тезисом Ленина о возникновении государства на основе классовых антагонизмов [48]: было достаточно пошатнуть этот тезис (к чему советская наука оказалась уже готова), чтобы обрушить и все ее построение. Тезис Е. М. Штаерман о многоукладности римской экономики [49], в отличие от софизма о государстве, скорее соответствует действительности: однако не стоит забывать, что с точки зрения марксистской классики большие этапы всемирной истории – это способы производства, в основе каждого из которых лежит какой-то один структурообразующий уклад [50]. Констатация того, что в римской экономике II в. до н. э. – II в. н. э. были в сопоставимой пропорции представлены как рабовладельческий, так и рентный уклады, причем соотношение между ними могло измениться относительно быстро и резко, хотя и была выдержана в марксистских категориях, но в определенной мере выхолащивала базовое для марксизма понятие способа производства применительно к Риму данной эпохи. Наиболее масштабной апорией послесталинского времени нам кажется возрождение в 1960-е гг. идеи об «азиатском способе производства» для определения специфики восточных обществ. Сторонники этой идеи (по сути, этого термина, подкупавшего своей апокрифичностью) пытались доказать раннее появление на Востоке то ли совершенно особой формации, то ли сочетания рабовладельческого и феодального укладов, то ли «вечного феодализма» [51]. Их оппоненты справедливо, с точки зрения марксистской терминологии, указывали, что понятие способа производства выделяется по наличию в его основе специфической формы эксплуатации и что если на Востоке не было какой-то иной формы эксплуатации, нежели рабовладение, рента или наемный труд, то и об «азиатском способе производства» говорить нет смысла [52]; рабовладельческие же и «феодальные» (рентные) отношения в разных неравновесных сочетаниях встречаются не только на Востоке и являются не особым способом производства, а самими собой [53]. Наконец, практически не замечена именно в качестве апории гипотеза К. К. Зельина об эллинизме как конкретно-историческом явлении греко-восточного синтеза: не вдаваясь в детали, скажем, что исследователь, придя к выводу (совершенно верному), что эллинизм не был этапом в развитии античного рабовладения, ушел от его трактовки как этапа вообще [54], ориентируясь на базовое марксистское представление о том, что крупный исторический этап может быть выделен только по критерию эволюции экономических отношений [55]. Использование в качестве такого критерия, справедливым для древнегреческой истории образом, эволюции полиса дало бы иной результат [56], тем более что и сторонники гипотезы Зельина не могут отделаться от восприятия эллинизма как явления с хронологическими границами, т. е. все же стадиального [57].
Судьба этих построений сложилась по-разному: гипотеза Зельина была принята академической историографией; гипотеза Штаерман о времени возникновения государства в Риме, на наш взгляд, не породила серьезной рефлексии в свойственных ей категориях, будучи высказана слишком незадолго до гибели СССР и резкой трансформации тематики и методологии исследований; а вторая дискуссия об «азиатском способе производства» вызвала недоброжелательство сверху как попытка построить масштабную историческую концепцию, автономную от официальной, альтернативную ей и при этом марксистскую по духу и букве [58]. Однако нет сомнений, что эти построения не содержали в себе упущенных возможностей создания широкой и эффективной концепции древней истории, основанной на марксистских постулатах. Искренность и альтернативность официозу все же не помогли решить задачу, с которой в свое время, действуя в рамках официоза и с определенной корыстью, не справились деятели ГАИМКа и А. В. Мишулин.
Однако именно позднесоветский период 1960–1980-х гг. породил ряд концепций, как говорится, longue durée, имеющих объяснительную силу для очень масштабных процессов древности. Пожалуй, наиболее поучительно наблюдать за построением С. Л. Утченко его концепции кризиса римского государства в I в. до н. э.: как известно, по его мнению, суть этого процесса сводилась к трансформации римской гражданской общины в государство качественно иного типа (сначала региональное, затем надрегиональное), а ключевое значение для этого имела Союзническая война – «грандиозное восстание италийского крестьянства» [59]. Со справедливостью этого построения по существу можно и, наверное, нужно согласиться; однако Утченко стремился сформулировать свой тезис в марксистских терминах и определил описанный им процесс как «социальную революцию». Препятствия к тому, чтобы счесть такое определение корректным, достаточно очевидны: в марксистской теории социальная революция – это способ преодоления конфликта между развивающимися производительными силами и отстающими от этого развития производственными отношениями [60]. С помощью серии цитат Утченко обосновал, что противоречие между свободным крестьянством и элитой в обществе Рима было двигателем его развития в несравненно большей мере, нежели противоречие между рабами и рабовладельцами [61]; однако его построение обходит вопрос о том, какое именно преобразование производственных отношений произошло в прямом следствии Союзнической войны. Утченко не скрывал, что понимал социальную революцию шире, чем единовременное или, во всяком случае, относительно короткое явление, приводящее к полной смене способа производства [62]; однако, если при этом не уходить от того факта, что противоречия между италиками и римским полисом были в большей мере политическими, чем экономическими, и во всяком случае не составляли классового антагонизма (а насколько мы знаем, это именно так), остается констатировать, что в его словоупотреблении термин «социальная революция» был условен и символичен. Фактически Утченко создал концепцию хотя и не альтернативную марксистской парадигме, но едва ли связную с ее категориями в их точном понимании.
Построение Утченко уступает по своей «протяженности» двум другим концепциям, которые окончательно оформились в советской историографии древности к 1980-м гг. и в своей совокупности могли, без преувеличения, претендовать на объяснение процессов, происходивших в древней истории в целом. Одна из них – это концепция путей развития обществ ранней древности, сформулированная И. М. Дьяконовым в значительной мере единолично [63], хотя и на основе широкого спектра работ востоковедов (прежде всего ленинградской школы). Буквально через год после того, как эта концепция была представлена в полном и обязывающем виде (в первом издании трехтомной «Истории древнего мира» [64]), появилась коллективная монография, посвященная архаической и классической Греции, в которой был суммирован опыт изучения эволюции древнегреческого полиса в I тыс. до н. э. вплоть до кануна эллинизма и фактически сформулирована целостная концепция этого процесса [65]. Детерминантой концепции Дьяконова было взаимодействие государственного и общинно-частного секторов в экономике, соотношение которых в каждом из регионов древнего Ближнего Востока было обусловлено экологически; в концепции антиковедов-грецистов это место занимала собственно эволюция полиса, также определявшаяся объективными факторами (прежде всего прогрессом экономики и межрегиональной интеграцией в Средиземноморском регионе) [66]. Принципиально важно, что суждения Дьяконова о закономерности формирования полисного строя Греции вследствие гибели микенского общества «третьего пути развития» на рубеже позднебронзового и железного века [67] создавали возможность для интеграции этих двух и без того обширных схем.
Интеграции этих схем содействовало и единство их создателей в том, что важнейшей чертой древних обществ как Востока, так и Запада была фундаментальная роль в их функционировании общины. Тезис о свободных общинниках как третьем классе древних обществ, не менее, а более значимом по своей роли в социальной борьбе, чем рабы, стал пунктом консенсуса советских исследователей древности по меньшей мере с 1960-х гг.[68] Принятие этого тезиса сделало более конкретным и изучение собственно рабства: фактическим итогом научной серии «Исследования по истории рабства в античном мире», выходившей в 1960–1970-е гг., стала констатация того, что эта форма эксплуатации была структурообразующей даже не во всех античных обществах [69]. Выкладки И. М. Дьяконова о типологии форм эксплуатации на древнем Востоке, несмотря на введение эффектного термина «илоты», выглядят достаточно бледно и уязвимо [70] по сравнению с его же схемой «путей развития», в которой вопрос о формах эксплуатации играет второстепенную роль. На наш взгляд, правомерно сказать, что в позднесоветской историографии произошло замещение детерминирующего фактора исторического процесса древности: эволюция общины оказалась признана таковым не столько наряду с эволюцией форм эксплуатации и классовой борьбой, сколько вместо них. Эта перемена аксиоматики осталась не «отрефлексирована», как она того заслуживала, ни в советское, ни в постсоветское время; однако ее значение трудно переоценить. По сути дела, было бы уместно поставить вопрос, можно ли с принципиальной точки зрения считать марксистскими исследования, принимающие в качестве детерминанты исторического процесса древности эволюцию общины. Дело не только в том, что этот подход смещает с позиций детерминанты формы эксплуатации и классовую борьбу как таковые: однако разложение общины еще в древности под воздействием института частной собственности и связанных с этим социальных противоречий – тезис, прописанный у основоположников марксизма весьма четко [71] и в свое время определяющий, в частности, для концепции В. В. Струве [72]. Ревизию этого базового тезиса можно было обстроить какими угодно шедшими к делу цитатами; но все же в сути этой манипуляции стоило отдавать себе отчет. Другое дело, что этому нимало не приходилось огорчаться: именно на этапе, когда такая манипуляция произошла, советская историография все же подошла к созданию единой и связной концепции древней истории, не порвавшей с представлением об определяющей роли в развитии общества объективных факторов, но отошедшей от их вульгарного осмысления [73].
Подводя некоторый итог сказанному нами, мы, прежде всего, хотим констатировать, что, говоря ленинскими словами, отказываться от того наследства, которое нам дает советская историография древности, нет ни смысла, ни надобности. Как мы видели, единую концепцию древней истории, которая последовательно выдерживала бы все постулаты марксизма, в советское время не смогли создать ни официозная наука, ни ученые, искавшие ей альтернативу в рамках марксистской парадигмы. Ближе всего к созданию общей теории древности советская наука подошла лишь в 1960–1980-е гг., когда отважилась на крайне существенные поправки к изначальной марксистской аксиоматике. Значение этого этапа состоит и в том, что именно тогда советская историография древности прошла основательную модернизацию с точки зрения не только методологических корректив, но и несравненно более широкого, чем прежде, восприятия опыта мировой науки: по существу, восстановилась интеграция с последней отечественных антиковедения и науки о древнем Востоке, которая была прервана с 1920-х гг.[74] Мы, конечно, не отрицаем ни идеологизации категорий, использовавшихся советскими историками древности для описания собственно социально-экономических реалий (без такой идеологизации эти категории сами по себе могли и служить исследовательским задачам), ни необходимости для историков «украшать» свои работы чисто ритуальными цитатами и формулировками, ни непропорционального уклона исследований отечественной школы в сторону «соцэка». Однако при отсутствии официозной единой концепции древней истории эти помехи не носили все же характера тотального диктата ученым (скромное, на первый взгляд, преимущество, но, кажется, специалисты по русской истории не имели и его!); а крен науки о древности в сторону «соцэка» и вычерчивания схем в ХХ в. был предопределен не только становлением марксизма, и отечественная историография не избежала бы его, хотя бы и с меньшими крайностями и с применением несколько иного набора категорий, при любом повороте судьбы нашей страны (чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить имя Ростовцева).
Последний момент, который нам хотелось бы отметить в связи с «советской древностью», – это роль, которую в ее изучении должен играть, так сказать, личный фактор. Многие сюжеты, нашедшие место на страницах этого журнала, дают представление о советских ученых не просто как об исследователях, а как о людях, в том числе людях с достаточно неприглядными чертами. Исследователь таких сюжетов рискует столкнуться порой с выражением сочувствия, подобного тому, что, по словам Набокова, выразил ему его друг, который, прочитав «Лолиту», «был искренно обеспокоен тем, что я (я!) живу “среди таких нудных людей”». Думается, однако, что заниматься этими сюжетами нужно по причине именно того, о чем мы много говорили выше, – идеологизации советского гуманитарного знания. Степень искренности в принятии исследователем марксистских постулатов, безусловно, влияла на его научные результаты, но она была разной у разных ученых; и в таком случае, чтобы верно оценить их работу, необходимо знать, какими они были людьми.
2. Понятие «древний Восток» в отечественной историографии XX в .[75]
Отечественные исследователи, привычно употребляющие термин «древний Восток», как кажется, редко задумываются о том, что в значении, принятом в русскоязычной науке, он, по сути дела, уникален. Вне нашей историографии этот термин используется прежде всего немецкоязычной наукой (der alte Orient) [76] и практически тождествен термину «древний Ближний Восток» (Ancient Near East) в английской терминологии: он обозначает культурно-исторический круг, существовавший до эллинистического времени в Западной Азии и в долине Нила и равновеликий с культурно-историческими кругами Южной Азии (Индии) и Восточной Азии (Китая). Как известно, в нашей науке понятие «древний Восток» относится ко всей совокупности древних цивилизаций Азии и долины Нила и включает в себя древние Индию и Китай; более того, оно имеет не просто географическое, но и стадиальное значение, обозначая определенный первичный этап в эволюции цивилизации.
Такое наполнение этого понятия порождает трудности в проведении его временных границ: если применительно к Индии и Китаю понятия «древность» и «древний Восток» совпадают, то для Ближнего и Среднего Востока история собственно древневосточных цивилизаций обычно ограничивается завоеванием Александра Великого. В связи с таким проведением финальной границы этого понятия не может не возникнуть ряд вопросов. Насколько правомерно отрывать от древневосточного этапа истории таких стран, как Египет, Вавилония и Иран, тот этап в развитии их местных культур, который приходится уже на эллинистическое время? Как следует относиться к политической традиции и культуре постэллинистических [77] царств Понта, Армении и в особенности Парфии – принадлежат ли они к античному миру или, ввиду значимости в них восточного компонента, должны считаться частью мира древнего Востока? Заметим, что в отечественной науке данные вопросы не столько имеют общепринятое решение, сколько мало обсуждаются; отчасти отношение к ним определяется тем, что постэллинистическими государствами занимаются прежде всего антиковеды, специализирующиеся по истории эллинизма, и в силу этого данные государства больше ассоциируются с античностью. Если же говорить о понятии «древний Восток» как обозначении определенной стадии в мировой истории, то вряд ли ее специфика имеет в сегодняшней отечественной историографии сколько-нибудь обязывающую «расшифровку». Тем не менее, несмотря на эти затруднения, сама привычность этого понятия в нашей научной традиции доказала его жизнеспособность, и сейчас мы мало задумываемся не только над уникальностью его значения, но и над его истоками. Несмотря на свойственную отечественной (в частности, советской) историографии тенденцию авторефлексии, эти истоки, кажется, никогда не анализировались специально; и предпринять опыт такого анализа и составляет задачу настоящей статьи.
Думается, что истоки данного понятия нашей историографии коренятся в научной и просветительской деятельности основоположника изучения древнего Востока в нашей стране – Б. А. Тураева, 150-летие со дня рождения которого исполнилось в 2018 г., а также в прямо связанной с нею деятельности уже в советское время наиболее успешного из его учеников – В. В. Струве. Однако формулировка понятия «древний Восток» Тураевым, безусловно, опирается на опыт мировой и, в меньшей мере, русской науки его времени, и, чтобы установить ее предпосылки, необходимо для начала обратиться к этому опыту.
Как известно, в новоевропейской мысли понятие «Восток» впервые употребил в стадиальном смысле как обозначение этапа истории, предшествующего классической античности, Г.В.Ф. Гегель. Можно допустить, что склонность российской науки удерживать это его стадиальное значение в какой-то мере определяется влиянием гегельянства. При этом для Гегеля в данное понятие входили как Индия и Китай, так и ахеменидская Персия, в которой он видел синтез всех культур ближне- и средневосточного ареала [78]. Примечательно, что на первом этапе своего творчества, в статье 1892 г. для «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», Тураев относится к такому соединению в одном понятии трех макрорегионов Востока резко отрицательно. Подчеркивая изолированность Индии и Китая, он говорит, что Гегель «придумывает связь фантастическую» между ними и Ближним Востоком, и солидаризуется с Л. фон Ранке, который «решительно выкидывает историю этих двух стран» в отличие от тех историков, что «продолжают видеть в древней истории комплекс частных историй» [79]. Как видно, для Тураева уже на этом этапе история древнего Востока представлялась прежде всего процессом, вовлекающим в себя сразу целый ряд народов.
Обосновать характер этого процесса во второй половине XIX в. удалось Г. Масперо, издавшему в 1875 г. однотомную «Древнюю историю народов Востока», а в 1895–1899 гг. – уже трехтомную «Древнюю историю народов классического Востока» [80]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Большаков 2007: 11.
2
Фролов 1990б: 79.
3
Цит. по: Гуревич 2005: 432–433.
4
Гуревич 2005: 435.
5
Дьяконов 1995: 737–738.
6
Кузищин 1994:.
7
«“Для структуралиста Отворите мне темницу, // Дайте мне дыханье дня, // Черноглазую девицу, // Черногривого коня! означает, что девица и конь – одно и то же. Но ведь он не путает, кого из них целовать”. И смешок» (Большаков 2015: 17, прим. 38).
8
Большаков 2001.
9
См. подробнее: Андреева и др. 2005: 18–27.
10
Дьяконов 1995: 418–419, 736.
11
Опубликовано: Ладынин 2016б. Данная статья была вводной к тематическому выпуску этого журнала, посвященному советской науке о древности («Советский ландшафт древней ойкумены: отечественная наука о древнем Востоке и античности в 1920–1980-е гг.»).
12
Крих 2013; Крих, Метель 2014.
13
Назовем следующие научные события: конференцию «Администрация и бюрократия на Древнем Востоке», посвященную памяти акад. В. В. Струве (22–23 апреля 2014 г.; Государственный Эрмитаж); «круглый стол» «Vita & судьба: советский историк древности между властью и обществом» на XIX Сергеевских чтениях (4 февраля 2015 г.; исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова); VII-е Миусские античные посиделки с одной из заявленных тем «Советская наука перед большой войной» (28 марта 2015 г.; РГГУ); конференцию «Советская древность: историография и рецепция античного наследия в СССР» (15–16 декабря 2015 г.; РГГУ); конференцию «Научное наследие А. Б. Рановича: к 130-летию со дня рождения ученого» (17 декабря 2015 г., Университет Дмитрия Пожарского).
14
Крих 2014б: 208.
15
Ладынин 2016 в. Здесь и далее речь о статьях, которые были опубликованы в тематическом выпуске «Вестника Университета Дмитрия Пожарского», где была опубликована и настоящая статья.
16
Ильин-Томич 2016.
17
Крих 2016а.
18
См. сноску ** на с. 21.
19
Метель 2016.
20
Крих 2013: 74–83.
21
Соответственно, остракизму была подвергнута первая версия концепции «азиатского способа производства», допускавшая неприменимость к восточному обществу на современном этапе тех же постулатов, которые применялись к обществам Западной Европы: Никифоров 1977: 176–186; Крих 2013: 83–89.
22
Рассел 2001: 436.
23
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса – по сути дела, единственное среди трудов основоположников марксизма монографическое произведение, целиком посвященное вопросам первобытности и древности (даже в этом случае не одной древности!).
24
Формозов 2006.
25
Не так уж принципиально, был ли лидер ГАИМКа А. Г. Пригожин ее вдохновителем (Формозов 2006: 164) или, напротив, ее ситуационным оппонентом (Крих 2013: 97, 103–104, 113–114): ее появление так или иначе укладывалось в рамки сформулированного ГАИМКом «социального заказа».
26
Крих 2013: 110–111, прим. 177; со ссылкой на: Дубровский 2005.
27
Формозов 2006: 182; см.: Симонов 1988: 200.
28
Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. 16 мая 1934 года. № 113.
29
См., например, мемуарный фрагмент К. М. Колобовой, аспирантки и сотрудника ГАИМК начала 1930-х гг.: Колобова 1967: 8.
30
См. слова А. В. Мишулина о ГАИМКе: «Мнимые “разногласия” и “яростные” выступления друг против друга служили троцкистам простой маскировкой их контрреволюционной работы…» (Мишулин 1937: 236).
31
Примечательно, что пресловутая теория «революции рабов» была сформулирована в ряде полемизирующих версий, причем власть даже не пыталась (явно не видела нужды) поддержать какую-то одну из них: Крих 2013: 116–139.
32
См. подробнее: Крих 2013: 89–115.
33
Мишулин 1939.
34
Например: Тарков 1950.
35
См. подробнее: Крих 2013: 126–127, 129–130 (см. в т. ч. важное прим. 254).
36
См., в частности, опубликованную П. Н. Тарковым уже после смерти Н. А. Машкина рецензию на его учебник: Тарков 1951.
37
См. о негативном обсуждении учебника Н. А. Машкина «История древнего Рима» в Отделе школ ЦК ВКП(б), инспирированным А. В. Мишулиным при участии В. Н. Дьякова: Машкин 2006: 658.
38
Бугаева, Ладынин 2016.
39
История древнего мира во «Всемирной истории»… 1952.



