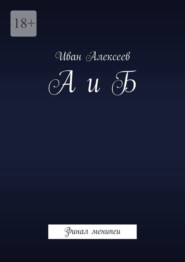
Полная версия:
А и Б. Финал менипеи

А и Б
Финал менипеи
Иван Алексеев
© Иван Алексеев, 2022
ISBN 978-5-0055-9177-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Настоящая книжка предлагает читателям повесть «А и Б» и рассказ «На Бородине» пишущего в самиздате Ивана Алексеевича Алексеева.
Содержанием повести «А и Б» является хрестоматийный обзор произведений Алексеева, выполненный от его имени в диалоге с им же выдуманным сочинителем – Ильёй Ильичом Белкиным. Продвинутые литературоведы придумали называть подобного рода сочинения менипеями, объясняя и доказывая, как и почему «Евгения Онегина», например, следует считать литературным автопортретом забытого ныне поэта Катенина, а в булгаковском Мастере разглядеть основоположника социалистического реализма.
Заметим, что поскольку сам Иван Алексеев оттачивал свои писательские умения, прячась за придуманным им повествователем, то заглавная повесть представляет собой двойную менипею с обзором белкинских «Повестей Ильи Ильича» и трёх алексеевских книжек («Светлые истории», «Херувим четырёхликий» и «Лебединое озеро»).
Приводимый здесь же рассказ «На Бородине» является последним и единственным необнародованным произведением Алексеева. Рассказ отличают определённые художественные достоинства и скорректированный на основе современных источников взгляд на ход Бородинской битвы и её значение. Кроме того, он даёт вдумчивому читателю образец алексеевского письма и, следовательно, возможность самостоятельно оценить успешность реализации авторской задумки с менипеей.
28 декабря 2021 г.А и Б
Повесть
1
Уже слепой разглядит, что климат меняется. Весна с осенью всё длиннее, зима с летом короче, да разные погодные причуды случаются каждый год.
В этом, например, на бескрайних просторах между Москвой и Петербургом весь апрель задували штормовые ветра, ноябрь был сух и без заморозков, а декабрь на целую неделю убрал от нас низкое хмурое небо, радуя солнечными днями, звёздными ночами и бодрыми десятиградусными морозами. Для полного счастья не хватало снега. За городом, на обезлюдевших дачах, в молчаливых полях и скромных перелесках он ещё понемногу набирался. А в столицах и городах забелил лишь островки малохоженой земли с заледеневшими лужами. Дороги и улицы долго оставались сухи, полны транспорта и люда, беспокойного и усталого – не столько от вируса и масок, сколько от очередных обещаний скорого роста экономики.
Примерно таким был общий фон мыслей седого человека с невыразительным лицом и глубоко посаженными глазами. На фотографиях с лесных прогулок, которые его супруга посылала по телефону родственникам, он выглядел угрюмым. Иногда они спрашивали: почему? – тогда супруга повторяла фото, заставляя мужа улыбнуться и закрыть рот.
Возраст и жизненный опыт непременно приносят толику мрачных взглядов на мир и изрядного пессимизма. Наложенные на соответствующие характер, темперамент и некую особенность поведения, они зачастую придают взгляду и всему лицу этакую отстранённость, которую трудно не заметить, остановив мгновение.
Особенностью нашего угрюмого героя была принадлежность к той счастливой или несчастной прослойке людей, умеющих делами и разговорами быть рядом с вами, а мысленно – в своих неведомых сторонках и мирах, на которые самым естественным для них образом раскладывался видимый мир. Сторонки эти бывают разными, – в том числе, заставляющими достигать недостижимых целей. Одна из них привила нашему герою навязчивое намерение заявить о себе посредством сочинительства. В нём рано пробудилась жадность до чтения хороших книг, склонность к холодному аналитическому мышлению, кажущееся умение видеть за литературными героями автора – всё это вместе с энергией проснувшихся чувств подвигли юношу ощутить сладкую горечь вдохновения. Впрочем, первые писательские опыты оказались нехороши, и их пришлось надолго оставить. И только когда дети выросли, ставшая рутиной работа позволила иметь свободное время, а в сердце потенциального сочинителя поселился страх ухода в безвестность, желание писать пересилило инерцию устоявшейся жизни.
Сочинитель наш, загадывая на умного читателя, назвался Ильёй Ильичом Белкиным. Имя-отчество псевдониму он взял от Обломова: и черты характера есть похожие, и желание вот-вот, прямо с завтрашнего дня, начать заниматься настоящим делом – с беспрестанным его откладыванием. А за Белкина спрятался по двум причинам. Первая отталкивалась от жизненного опыта и ясного понимания тщетности попыток добраться до вершин какого бы то ни было мастерства без соответствующего окружения и обратной связи. Пусть он не без способностей, пусть призван и даже талант, но как без общения, духовной поддержки, дружеской похвалы и обоснованной критики стать мастером? Ведь история литературы самородков не знает. Не считать же таковым сказочника Ершова за «Конька-горбунка», писаного пушкинским слогом и с пушкинскими закладками в тексте?
Вторая и более важная причина пряток состояла в прозрении удобства повествовать от чужого лица и чужим голосом, облегчая восприятие текста, с одной стороны, и сохраняя в нём загадки для пытливого ума – с другой.
Белкин нашему герою удался. Авторские мысли и мучительные сомнения Илья Ильич излагал по-своему, оставаясь верной тенью сочинителя, который на Белкина, если кто позовёт, отозвался бы без раздумий и с той же естественностью, как отзывался на данное ему родителями имя Ивана Алексеева.
Вот так лет десять назад в братской могиле самиздатовских сочинений появились белкинские «Повести Ильи Ильича», а позже и произведения Алексеева, разбросанные по нескольким общедоступным для любителей писательским и издательским платформам.
Продвинутые современники-литературоведы придумали называть подобного рода сочинения профессионалов мега-литературой и менипеями, объясняя и доказывая, как и почему «Евгений Онегин», например, сочинён от лица и зачастую слогом забытого ныне поэта Катенина, а в булгаковском «Мастере и Маргарите» мастером следует считать основоположника социалистического реализма.
Наверное, сравнение любителя с мастерами слова многим не понравится. Кто такой Алексеев?!
Соглашаясь со справедливым негодованием, мы с удовольствием добавим, что про менипеи и мега-литературу Алексеев вычитал недавно. А когда придумал Белкина, ничего про это не знал. Его Белкин, преодолевая кризис среднего возраста и тоскуя по литературе, которую мы потеряли, не умеем воскресить и скоро посчитаем излишней, должен был стать примером реализации возможностей самообразования и миропонимания, помноженных на компьютерные и сетевые технологии подготовки текстов. Образованный человек способен реализовать свои способности в любой области – вот что хотел доказать Алексеев и что, как он считал, доказал. Перечитывая повести своего Белкина, сам он всякий раз убеждался в том, что голос Ильи Ильича различим в щебете писательской братии и пробуждает добрые чувства, а то, что этот факт не подтверждает устроившаяся возле имеющихся кормушек окололитературная орда, списывал на победивший в нашей стране меркантилизм и его следствия вроде отторжения от чтения книг и общего культурного упадка.
Выплеснув в последней из «Повестей Ильи Ильича» свою приглаженную биографию, Алексеев навсегда, как он считал, расстался с придуманным им повествователем, но не с литературой, продолжив отстаивать свой взгляд на мир и место в нём современника. За модой удивлять особенно острыми и загадочными сюжетами, которые давно все известны и разложены, как по нотам, Алексеев не гнался и поэтому за семь лет сладкого и тяжёлого труда приобрёл не более сотни читателей, самым внимательным из которых был его отец, да получил на свою электронную почту десяток хвалебных писем от поклонниц. Столь скудное внимание к его сочинениям вкупе со слабеющей силой глаз, отражающей естественное возрастное угасание, не могли не принести нашему писателю известную толику разочарования в людях и заставили его отойти от правила сочинять каждый календарный год хотя бы один рассказ или повесть. В последние два года к литературным разочарованиям прибавились перенесённая им неприятная болезнь и выбившая из колеи смерть отца. Алексеев перестал писать, решив не напрягаться до пенсии, а в первый пенсионный год красиво закольцевать свой не очень удавшийся литературный поход с помощью поднятого из небытия Белкина.
Шестидесятилетняя отсечка вообще представлялась Алексееву крайней писательской ступенькой. Когда-то он посчитал недостойным начинать докторскую диссертацию после сорока, наблюдая отсутствие новизны и пользы науке от таких работ. Что-то сходно фальшивое и заведомо ненужное людям, грезилось ему и в писательстве после шестидесяти.
Однако выверенный план дал сбой: пенсионный возраст увеличили на пять лет, спокойного завершения сочинительства не получалось.
– Не понятно, зачем он это сделал. Говорил, что не будем повышать, и обманул, – пожаловался на президента Алексеев кому смог, то есть супруге.
– Сам под собой сук рубит… Я совершенно согласен с тем, что пенсии входят в пакет негласных договорённостей власти с населением. Они и введены капиталистами для устойчивого управления массами, в первую очередь. Ради обещанной кормёжки в старости можно и несправедливости потерпеть, и детей не рожать, и глаза закрывать на полезный буржуям круговорот пенсионных накоплений, вплоть до банального их воровства, в чём преуспело наше Отечество. Но зачем терпеть, если условия договора меняются одной из сторон без согласия другой? И ради чего весь этот сыр-бор? Ради желаний забугорного начальства и банального бухгалтерского стремления сэкономить, сводя баланс? – всё остальное дымовая завеса. Ну, сэкономите сегодня, а сколько потеряете завтра? Да и согласятся ли люди завтра жить под такой властью?
– А им на твоё завтра плевать, – откликнулась жена. – Они сегодня живут. Сколько, ты говорил, сэкономят в год на твоей пенсии? Больше трёхсот тысяч? Неужели плохо? А я им сколько подарила?
– Умножай свою пенсию на шесть, – жене Алексеева повезло переработать всего полгода сверх старого пенсионного возраста. – Тысяч сто.
– Немного?! – женщина возмущённо взмахнула руками, всем видом показывая, что муж со своими всеведущими умниками не умеют понять самые простые вещи.
Умниками она называла толкователей жизни из Интернета, забиравших своими беседами и лекциями свободное время у её уткнувшегося в компьютер супруга.
Первое время Алексеев, как мог, пытался объяснять свой голод до новой и правдивой информации, добывать которую ему было больше неоткуда. Повторяя за учителями, что ложь многогранна, правда у каждого своя, а истина одна, он считал, что овладевает различением истины, для добычи которой требуется перелопачивать горы информации. Он говорил, что наша жизнь не так хороша, как могла бы быть, оттого, что доступные нам знания не полны, противоречивы и грешат ложными утверждениями. Что принятые на веру официальные доктрины во всех областях науки от физики до медицины и от истории до социологии замалчивают неудобные факты и альтернативные представления об устройстве мира и общества. От кого об этом узнать, как не от самодеятельных подвижников, ведомых понятному нашему сочинителю желанию достучаться до людей?
Однако все воздушные замки Алексеева, построенные на вере в высшее предназначение человека, разбивались о твёрдый аргумент, что сыт этим не будешь.
Пришлось ему согласиться с известным учёным, популяризирующим современные научные достижения в понимании механизмов функционирования и изменчивости доставшегося нам от обезьян мозга. Если цели мужского и женского мозга отличаются вследствие различий в организации их работы, то добиться от супруги признания пользы его духовных занятий ему не суждено. Что, в свою очередь, компенсируется его неумением понять всю важность для жизни приземлённых женских трудов. Важное одному кажется неважным другому, полное взаимопонимание принципиально невозможно.
Так с кем Алексееву искать истину, если с супругой не договориться, а друзья, всегда готовые поспорить и поддержать, почти все с возрастом отсеялись? – с самодеятельными заочными аналитиками. Где выискивать новую и полезную информацию? – у них же. Других помощников нет.
Всё услышанное и увиденное можно обсуждать с самим собой, как привык обходиться Алексеев. А можно плюнуть на пенсию, которой не дождаться, и вызвать для общения и закругления писательских трудов своего записного помощника.
«Здравствуй, Илья Ильич! – обратился он к Белкину. – Выходи уже из своего далёка. Пора».
2
БЕЛКИН: «Зачем, Иван Алексеевич, беспокоишь покойника? Договорились в четырнадцатом году: я умер. Для тебя, в том числе».
АЛЕКСЕЕВ: «Помню, друг, всё помню. Но что делать, если время идёт, жизнь меняется, а посоветоваться не с кем? Мы с тобой, Илья Ильич, расстались на том, что ты умер как писатель. Рассказал про упадок культуры, кризис литературы и моду на чтиво, отчего твои повести не находят и не найдут читателя. Но мне от них было светло. И я верил, что мы на твоём пути не одни, что нас много, и чтобы убедиться в этом, надо продолжать идти в указанном направлении. Не хочешь ты, пойду я. И пошёл… Шёл-шёл, но устал. И теперь почти согласен с тобой. А чтобы совсем согласиться, хочу спросить, не поменялось ли твоё мнение?»
БЕЛКИН: «Нехорошо спрашивать, заранее зная ответ. Мыслим мы с тобой схоже. И видим одинаково. Что вижу я? В институте, например, где продолжаю работать нелюбимую работу? Вижу, что начальству удаётся скрывать прогрессирующий бардак теми же способами и с тем же результатом, как и во всей стране. Работающей молодёжи мало. Книг не читают. Думать не приучены. Стимулов развиваться нет. Ненужная информация обложила со всех сторон. Так что перспектив отклика, в том числе, на наше писательство, как не было, так и нет».
АЛЕКСЕЕВ: «Ладно, Белкин, не ругайся. Я ведь о чём подумал: пусть мы не востребованы, но если пришла пора закругляться, то хочется закруглить красиво. Вместе сподручнее, оттого и позвал. Ты формулируешь быстрее меня. Да и сочинял что-то наверняка. Так что помоги, как раньше».
БЕЛКИН: «Осталось у меня что-то типа записок. Ничего толкового: наблюдения, путешествия… Забирай. Помню я твою слабость приспосабливать к делу всякое разное, может, и с этим получится».
АЛЕКСЕЕВ: «Спасибо, Илья Ильич. Но это не всё. Хотелось попытать тебя насчёт современных представлений о работе мозга. Согласен ли ты с тем, что противоречивость и изменчивость наших устремлений, желаний и надежд могут быть объяснены на физиологическом уровне, отталкиваясь от организации и функционирования головного мозга?»
БЕЛКИН: «Древний рептилоидный мозг, лимбическая система против неокортекса… Знаю, читал».
БЕЛКИН: «Конечно, понимание работы мозга упрощает трактовку поступков и поведения людей. Спроецировав научное знание на уровень житейского восприятия, получим примерно следующее. Есть базовые инстинкты высших приматов: к еде, размножению и доминированию в стае. Есть управляющая нашим поведением кора головного мозга, полностью – и с невесть откуда взятым осознанием нравственного закона – формирующаяся к семилетнему возрасту. И есть вечная альтернатива заполнения полей неокортекса с помощью воспитания, семейных отношений, обучения и саморазвития: поддержать нравственное стремление стать человеком или его притормозить, потакая врождённым инстинктам. Отсюда двойственность сознания и наших желаний, их внутренняя борьба, противоречивые поступки, то есть „весьма важные последствия“ „от малых причин“ и простое объяснение того, что ложь многогранна, а правда у каждого своя, – ты это хотел услышать?»
АЛЕКСЕЕВ: «Возможно. Меня всегда интересовало, почему нам легче соврать, чем отстаивать правду? Откуда взялись и почему нам интуитивно понятны бог и отец лжи, их извечная борьба за наши души? Я пытался это понять сам и растолковать, как мог. А мог без понимания устройства и работы нашего мозга мало. Я и у других вижу и за собой знаю беду уводящего от темы витийствования, когда пытаешься объясняться на уровне интуиции и качественных понятий. Отталкиваться от физических основ проще и надёжнее. Но объяснение нашего поведения исключительно с материальных позиций работы мозга меня не устраивает. Мы с тобой лучше многих знаем, как трудна и энергетически затратна мыслительная работа. С медицинской и житейской точек зрения не думать выгоднее, чем думать. Ещё выгоднее обманывать других и себя, потакая инстинктам, получая удовольствия и оправдываясь тем, что все мы не святы и слабы духом. Но откуда тогда берётся счастье вдохновения и отрады от рождения нового и полезного людям? Счастье осознавать себя человеком? Развитой неокортекс, руководимый нравственным законом, судя по всему, имеет возможность настроиться в унисон внешнему источнику, задающему жизнь. А отсюда вопрос, ответа на который я не знаю: способны ли договориться между собой обладатели мозга, развивающегося в человечном направлении, с мозгом, деградирующим к обезьяньему первоисточнику? Пророки и учителя человечества, разные великие теории от непротивления зла насилием и слезинки ребёнка до великого инквизитора и миссии белого человека утверждают, что знают ответ на этот вопрос и его дают, но ответы их разные, вот в чём проблема».
БЕЛКИН: «Ты знаешь, о чём я подумал? Что пришло бы на ум услышавшему нас насмешливому учёному, знакомому с предметом эволюции, искусственного отбора и конструкции головного мозга? – Что наша уверенность в правоте собственных рассуждений и поразительное упорство в воплощении незатейливых идей посредством сочинительства объясняется масштабом потерь нейронов мозга от старости. Зная, что мыслительная компенсация за счёт богатой дендритной сети отдельных нейронов в пожилом мозге помогает любой мысли – особенно долго скрываемой – мобилизовать весь накопленный нейробиологический опыт для её отстаивания или осуществления, учёный нашёл бы в нашем поведении блестящий пример подтверждения теории мозга».
БЕЛКИН: «А если продолжать без ёрничанья, то трудно не видеть, что большинство людей используют свой мозг для умелого скрытия традиционного для высших приматов убогого поведения в бесконечном многообразии его особенностей. Декларируя справедливость и честность, приверженность традициям, верованиям предков и „вечным ценностям“, обезьянья кора большого мозга планирует воспользоваться этими заблуждениями и получить биологические преимущества в борьбе за ресурсы с наивными конкурентами, вроде нас с тобой. Жизненный опыт показывает, что самыми замаскированными обезьянами обычно являются публичные борцы за общечеловеческие ценности. Сосуществовать с ними трудно – я так понимаю твой вопрос о договороспособности.».
АЛЕКСЕЕВ: «Правильно понимаешь, Илья Ильич. Умеешь ухватить. В туманах, как я, не бродишь».
БЕЛКИН: «Твой туман, Иван Алексеевич, светлый и около вопроса, о котором беседуем. К тому же я не ленился, читал твои книжки. И предлагаю, продолжая разговор, вспомнить наших героев. Кто из них кто, и на чьей они стороне».
АЛЕКСЕЕВ: «Зато я обленился. Два года не работаю, отупел. Мне. чтобы вспомнить, придётся подглядывать в старые тексты. Предлагаю поэтому начать с тебя. Расскажи, как поживает сегодня твой лирический герой? Живы ли и чем занимаются генерал Василий Сергеевич, учёный начальник Михаил Михайлович, сбежавший предприниматель Антонов?»
БЕЛКИН: «Мой повествователь? – он постарел. Считает, что решил свои биологические задачи. Наблюдает общественный регресс. Склонен к слезливости. Констатирует угасающее желание совершать интеллектуальные подвиги, но продолжает относить себя к думающему меньшинству. Впрочем, отвечать двумя словами – не мой стиль. Изволь выслушать рассказ».
Рассказ Белкина
«Прибавь к семи годам после завершения «Повестей Ильи Ильича» пару-тройку лет на их написание и примерно получишь, на сколько нужно отступить, чтобы попасть в период самых острых моих размышлений на озвученный тобой вопрос. Для себя я его тогда формулировал так: кто и почему стремится к свету, кто довольствуется неразличимой серостью, а кого и по каким причинам бросает в тёмные стороны? Моими ответами стали картинки жизни, в которых я участвовал или которые близко наблюдал. Картинки эти я подсвечивал, отталкиваясь от размышлений Льва Толстого о пяти соблазнах или ловушках, придуманных для оправдания людьми своих обезьяньих грехов. Повествователем выбрал современника, ведомого мудростью Толстого, просветлённостью Достоевского, нервом Высоцкого и правдой коллектива под псевдонимом Внутренний предиктор СССР.
Что мною двигало? Скорее всего, желание поучаствовать в противостоянии культурному откату. Моя юность пришлась на период становления системы двойных отношений в советском обществе, когда новые социальные правила общежития, выработанные кровью и потом уходящего поколения, стали использоваться в качестве лозунгов, прикрывающих стремление обмануть наивное население. Параллельно с моим взрослением, становлением на ноги и накоплением жизненного опыта, в обществе развивались тенденции надувательства и вранья, из-за которых новый цикл искусственного отбора мозга, удаливший бы нас от обезьяньего прошлого на очередной шаг, остался незавершённым.
Более того, ускорился процесс снижения в среднем культурного потенциала общества. Уровень развития поколения детей заметно уступал уровню развития поколения отцов, который, как я понимал это по собственным возможностям, был довольно высок. У меня, например, получалось решать нетривиальные задачи на работе, к которой я не был особо расположен. Тем более и без сомнений должно было получиться на стезе сочинительства, способность к которому была мне давно открыта.
Продвинутые представители ВП СССР раздвигали горизонт осознания наших бед, подстёгивая моё желание присоединиться к борцам за народное просвещение, а оценка глубины нашего культурного падения отсылала во времена позднего Толстого с рассуждениями про уготовленные людям соблазны. Плясать от них, как от печки, показалось удобным. Придумав запрос от сына на понятные студентам тексты, я вознамерился показать в них силу ловушек, ожидающих людей на пути к человечности. Получилось следующее.
В «Приготовлении Антона Ивановича» толковый физик, безалаберно прожигающий жизнь, бесконечно откладывает намерение вернуть науку к правильным, как он полагает, началам, и когда, наконец, решается приступить к изложению новой теории эфира, странным образом и совершенно ошибочно верит, что не умрёт, пока не закончит работы.
Герой повести «В гостях», трудно переживший неудачи юношеских сексуальных опытов, предпочитает не напрягаться по жизни и быть «как все», внутренне оправдывая остановку своего развития благом своей семьи и детей.
Волин из повести «За отпуск», переживая смерти близких и неустроенность детей, вынужден задуматься о непрочности земного благополучия и поиске смыслов жизни. Решив думать обо всем, что придумано на земле, своей головой, и верить в то, что есть в душе с самого детства, он многое успевает за отпуск и надеется с божьей помощью выбраться на прямой путь.
Завершающей и ключевой повестью цикла стал «Мой путь», сочиненный в стиле биографического повествования. Повествователь окружён соблазнами дела, государства и одержимыми людьми, почти открыто оправдывающими неправедность пользой для коллектива, общего дела и государства. Нравственные поиски ведут его к пониманию причин побеждающих у нас несправедливости, неправедности, идей господства и превосходства одних людей над другими. Оседлавшие жизненный успех генерал, учёный начальник и сбежавший предприниматель, которые отчасти в определённое время приятельствовали с моим повествователем, оказываются в его глазах хитрецами и слепцами. Достигая обманом личных благ, они прикрываются знанием истины, а сами всю жизнь ходят вокруг да около, не понимая её. Но страх, земной страх иногда так сильно пронизывает все клеточки их тел, что ощутим моему сказителю. Тогда ему становится жаль победителей и хочется помочь им прислушаться к нравственному закону, который они перестали слышать. И он молится за одержимых в надежде использовать их возможности во имя света и добра, пока не понимает, что эта мольба выше его сил…
Перечитывая повести, мне было трудно тогда и трудно сейчас не признать, что при всём формально успешном воплощении общего замысла ответов на вызовы нашего времени, отвечал я на них с оглядкой на незримого свидетеля, который властно уводил моё повествование на вроде бы второстепенные наблюдения, странным образом оживлявшие мои искания. Как не выпячивал я размышления и рассуждения лирического героя на тему становления человека, они оказывались в тени случайных, на первый взгляд, и мало значащих деталей. Словно тот, незримо присутствующий третий, оценивал наши попытки уйти от обезьяньей природы и находил их лишь забавными и не новыми, как не нова и забавна для взрослого ума игра разгорячённых детей в догонялки. Зато отступления от темы с отдельными наблюдениями им явно приветствовались, заставляя частить моё сердце. Пробуждающие описания природы, обострённая ранимость чувств в минуты беззащитной людской открытости, тайна жизни и смерти, боль души в час ухода человека – в них, как подсказывало взволнованное сердце, не я один видел неброскую красоту и манящий свет жизни, открывающие прямой путь, выбираемый или невыбираемый моими героями.



