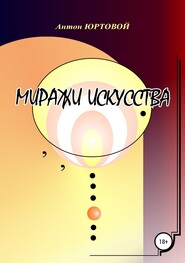 Полная версия
Полная версияМиражи искусства
Женя усмехнулся, подошёл к подозвавшему кругу, осмотрел его, покачал головой и сказал: «Не могу понять, как войти! Вы что, в педерастов играете?» И при этом не то что рассмеялся, а нарочито громко расхохотался, закатился в смехе. Из круга высшего ранга угрюмо наблюдали эту сцену от начала до конца. Её видели и проходившие вблизи многие местные обыватели. «Успехов!» добавил ещё Женя к уже сказанному и спокойно удалился.
Лихому удальцу, тому, из-за которого всё так вышло, уже не было смысла оставаться в местной партийной жизни и в жизни вообще. День спустя, сказавшись больным, он лёг в спецлечебницу, где его потихоньку и успешно допортили, и он умер, повторив пример вроде как беспричинного умирания, о котором больше века назад великолепно рассказал Чехов.
Теперь в самый раз вернуться к антиалкогольной кампании, о которой говорилось в начале. В ней для Жени Наумова нашлась подходящая ниша, и в то время, когда он там находился, его слава взмыла настолько высоко, что уже никак невозможно не рассказать здесь об этом подробнее.
Вопреки запретам на алкоголь Женя завёл манеру спаивать коллективы, которые он посещал по делам или по-приятельски. Достать пойла, а чаще всего это был спирт, ему не составляло труда у одного подпольщика, уже, кажется, дважды становившегося героем критических материалов на страницах каких-то мелких изданий. Женя его не трогал и берёг для своего фельетона; подпольщик же, зная об этом, трусил, но шёл ему навстречу, выручал крепышом, даже отказываясь брать деньги в уплату. Женя знал о нём самое главное: что тот был стукачём ведомства госбезопасности, и разоблачение могло обернуться для него как угодно плохо. Такие вот имелись у фельетониста путаные отношения с этой мерзостной личностью. Но ему приходилось считаться с ним, ведь иного способа регулярно приобретать алкоголь в условиях запрещённой торговли им можно было и не найти.
Питьё Женя разносил очень даже оригинальным способом. В своём портфеле из крокодиловой кожи он сделал вдоль боковин распорки, между ними горизонтально закрепил полочку из тонкой фанеры с отверстиями для малюсеньких рюмочек, ставил туда эти рюмочки числом шесть, наливал в них зелье, портфель закрывал и с ним, с этим потайным крохотным столиком, соблюдая определённую осторожность, отправлялся куда надо. Там происходило затем то, что и должно было происходить.
«Выпить не хочешь?» – спрашивал он кого-нибудь из тех, к кому успевал забрести, переступив порог учреждения или предприятия. «А – где?» – бывало обычным вопросом на вопрос Жени, вопрос, начинавший сразу кружить голову человеку, измотанному воздержанием, которому не виделось конца.
Женя преспокойно открывал портфель и, взяв оттуда наполненную рюмочку, ставил её перед ошеломлённым передовиком или служащим. Конечно, – кто откажется? Потом, в закрепление эффекта, доставал и ставил вторую. А затем повторял процедуру в другом и в третьем по счёту кабинете или у верстака. Иногда распределял влагу по одной рюмочке на одного человека или вперемежку, кому одну, кому две, увеличивая круг потребителей. Но это уже не имело никакого значения.
Жажда выпить настолько портила людей, вовлечённых в сомнительную кампанию, что им даже в голову не приходило спрашивать, выпьет ли с ними сам подававший.
А Женя покидал территорию коммунистического труда и услужения с чувством хорошо выполненного долга перед самим собой и своей великой страной. Шёл дальше. В течение дня ему удавалось посетить до трёх-четырёх массовых мест обитания уже состоявшихся и потенциальных пьяниц и выпивох. На всё, чему обрекались трудяги и служаки, хватало одной поллитровки, причём в основательно разбавленной крепости. Озорник, конечно, не каждый день выкраивал время для таких занятий. Но это уже также не имело никакого значения.
Выпивавшие на дармовщину, как огнём охваченные жаждой продолжения, делали всё, чтобы не остановиться. Бросали работу, рыскали по магазинным продавцам, по продуктовым базам, по ресторанам, по больницам и аптекам, притонам, по затаившимся торговцам самогоном, по спиртзаводам и ликёро-водочным комбинатам, которые несмотря ни на что и в кампанию продолжали исправно функционировать и выпускали продукцию в соответствии с их суровой специфичностью, переполняя «штатным» товаром потайные спецбазы где-нибудь на далёких обезлюженных широтах и меридианах необъятного советского севера.
Если горемыки ничего не находили, то всё равно уже не работали и не могли работать. Если находили, то сразу находились такие, кто страстно хотел их поддержать, сначала в выпивке, а потом в разыскивании выпивки для последующего, возвышавшего их сумасбродного цикла.
Учреждения испытывали при этом глубочайшую встряску; бывало, они не работали по целым неделям. Начальство метало громы и молнии. Впрочем, и у него, захваченного устроенной вакханалией безудержного поголовного пьянства, рыльце также нередко оказывалось пропахшим пойлом.
С особой тщательностью Женя обрабатывал коллег по перу. Это племя, как и в некие, уже отдалённые времена советского строя, на полную катушку использовалось компартией для развития своей шумливой пропаганды. Поощрения, правда, были уже не те, не прежние. Старые борзописцы ещё и много позже описываемых здесь событий любили похваляться перед молодыми неслыханными гонорарами за публикации. Выражались часто так, что, мол, кассир даже самой малочисленной редакции в дни получек приносил из банка денег едва ли не мешок. Это ещё в сталинской эпохе и частью после неё, значит, при отсутствии видимой инфляции!
За маленькую газетную заметушку начисляли так, что хватало купить овцу, а то и телка. Что уж говорить об очерке, о фельетоне. Ну, разумеется, не всегда же требовалось покупать овцу или телка. И, как следствие, пили в своё удовольствие, много, раскованно, дерзко, до потери сознания. Писали уже левой ногой, часто по пьяни, абы как, лишь бы угодить кормилице. Многие спивались начисто, большинство без алкоголя уже не могли жить и не жили.
Эту продажную и ни на что уже не способную публику Женя, выпивавший и сам, но редко и понемногу, не то что не любил. В ней скапливалось немало пропащих талантов, которым никогда не суждено было заявить о себе. Если по большому счёту, Женя сочувствовал им, видя по ним то, что становилось результатом измывания и глумления верхов над совестью и интеллектом работников умственного труда своей бедовой отчизны. В то же время он не считал нужным в чём-то делать коллегам скидки, вовлекая их в запои. Борзописцами, ограниченными пустым творчеством и пьянками, становилось и молодое пополнение. В этой среде уже ничего не могло возникнуть нового и полезного. По степени развращённости пишущая орава уже была в точности такой же, как и остальной народ в любом советском учреждении или на предприятиях, полностью принадлежавших тоталитарному государству.
С наполненными рюмочками в портфеле Женя благополучно обошёл все ближайшие издания, куда приносил и свои свежие фельетоны. Некоторые редакции посетил не по одному разу. Тексты газет и журналов, вещаний теле– и радиостудий, продуктов издательских организаций стали походить на смесь пошлого с дурным. Над исполнителями сгущались тучи. И вскоре последовала волна их переформирования. Некоторых бросили в Лету. Некоторым сменили названия. А уже недалеко было и до великих дней, когда тихо, без афиш и заявлений со стороны организаторов борьба с зелёным змием прекращалась и наступало новое раздолье по части потребления алкоголя, равного которому по урону для населения прежде не было никогда и нигде в истории земли
На Женю, когда он угощал спиртным, никто не косился, не давил увещеваниями. Так трудно становилось всем, что было просто не до него. Ну, ходит, ну, предлагает. Пусть. Несколько раз, правда, пробовали не пускать его в служебные двери или ворота, устраивали перед ним на входах и проходных своеобразные бамперы из наиболее преданных вахтёров-силачей. Так Женя и к ним подкатывал со своим портфелем, не менее других оказались падкими на дармовое спиртное и они на своей тупой работе, валилась и эта структура.
С окончанием кампании Женя легко вздохнул и, что называется, перекрестился. Баста! Ёрничать по-крупному было уже не над чем. И без его вмешательства жизнь валилась, портилась, тускнела, исходила плохотой. Он ещё какое-то время пробавлялся фельетонами, но с учётом качества окружающего удерживать их наполнение на прежней высоте ему уже не удавалось. И повлиять ими уже также ни на что было нельзя, поскольку набиравшая силу свобода превращала людей в разъединённые мельчайшие продукты хаотического распада. Что взять с них! Женя с грустью смотрел на этот странный губительный процесс, воспроизводивший призраков.
Постепенно он отходил от фельетонного творчества и в конце концов оставил его. Следы его затерялись в обывательской среде. О нём даже слухи проносились потом глухо и очень редко. Хотя можно было услышать кое-что характерное и любопытное. Будто он стал другим, с новою властью и с коллегами уже решительно не сходился, даже будто бы сильно пил…
III. ГРАФОМАНСТВО КАК ТАКОВОЕ
Не так чтобы часто, но почти регулярно мы с Виктором Иванковым, успевшим ещё до своего тридцатилетия написать роман «Я в тигриной шкуре», виделись у него на дому и, чтобы не очень мешать домочадцам, умостившись, как правило, за микростоликом на тесной кухне, попивая чаёк, принимались обсуждать что-нибудь из написанного или придуманного на текущий момент самими или прочитанного и услышанного чужого.
Время выбирали такое, чтобы и нам никто не мешал.
С изданием названного романа автор не торопился, всё ещё продолжал что-то в нём подравнивать и подчищать. Между тем эта интересная и внушительная по объёму вещица, давно успела стать известной по рукописи. Писались им одновременно и другие вещи. И они также не публиковались. Всего Виктор готовил с десяток массивных произведений с эпическим размахом освещения событий, что приводило многих, знавших его, в состояние лёгкой шокированности. Они считали поставленную автором задачу в целом неподъёмной и, значит, неперспективной. Мол, проходит время, произведения уже сами по себе могут провянуть, постареть, «зависнуть» – после этого кому они будут нужны?
Виктора это, казалось, мало тревожило.
Он говорил, что не желает выходить в свет просто так, без необходимой отшлифовки текстов, не убедившись, что интерес к ним окажется устойчивым и долгим, – не в пример тому, что всегда происходило и до сих пор происходит с подавляющим большинством писательских публикаций.
Подтверждая свои слова, он, с целью изучения мнений, смело, не боясь литературного воровства, раздавал на прочтение экземпляры своих оригиналов людям знакомым и незнакомым. Не однажды тексты попадали в орбиту оживлённого обсуждения как в обывательской среде, так и в кружках солидных знатоков художественной словесности, даже на научных чтениях и конференциях. Подобное случается весьма редко и с произведениями уже опубликованными и – далеко не безвестных авторов. Однако и к такому обороту Виктор оставался равнодушным.
Чем больше он получал доброжелательных отзывов на свои сочинения, а среди них немало было и вполне компетентных, тем крепче сидело в нём нежелание публиковаться. Ну, вот такой оригинальный писатель.
Насколько я мог судить уже после того, как мы с ним начали видеться и подружились, его творчество достаточно глубокое и оригинальное. Из написанного им я, правда, читал к тому времени вещи преимущественно из позднего периода его творчества. Не все, конечно.
Заметное выражение получали в них не только талантливость, но и тонкий аналитический склад ума, навыки безошибочной ориентированности в индивидуальной и в общественной психологии. Давало повод восхищаться умение автора заполнять тексты рассуждениями социального плана. Они представляли из себя живые картины, увиденные непосредственно в жизни и пропущенные через себя. Хватало тут места занимательным подробностям и разворотам с использованием яркой образности.
Часто этот материал подавался как лирические личные отступления с почти неуловимой иронией, отчего даже самые глыбистые факты и явления, входившие в ткань повествований, становились какими-то облегченными для восприятия, до обнажённости правдивыми и хорошо понятными по существу.
Эта вот особенность его творческого стиля была прямым следствием того, что Виктор попутно с работой над прозой художественной собирал что-то вроде антологии современного мирового юмора. Не того, который уже мотался в истории, распылён по ней и лишь частью отображён письменными свидетельствами, а – живой, свежий, текущий, юмор последнего дня. Для него сущим открытием становилась любая шутка, любой анекдот, любая сентенция, изречённые или изложенные в носителях где-нибудь первый раз.
Виктор говорил, что приобщаясь к этой сокровищнице реалистичного духа, можно знать жителей земли, страны и любого человека, а также их судьбы и будущее лучше, нежели с помощью долгих и нудных научных изысканий, а также литературы. Здесь он имел в виду литературу традиционного исполнения и содержательности и преобладающую массой, иначе говоря, художественную словесность окологосударственную, кондовую, смыслом повёрнутую лишь в услужение властям, от чего он сам неизменно дистанцировался.
Особенно его не устраивало то, что профессии писателя стали обучать, а обученных писателей объединяют в союзы, и эти заказармленные людишки уже как последние стажёры или дневальные в рабочие дни календаря исправно ходят в офисы, чтобы там писать, изображая этим свою работу, от которой на самом деле никакой пользы никому нет. Будто на протяжении многих веков не находилось примеров обратного порядка, когда энергичные и талантливые люди, не отвлекаясь на своё специальное, а то и на общее образование, писали по-настоящему достойные художественные произведения, находясь там, где им приходилось быть по обстоятельствам жизни, – в заброшенной хижине, на вилле, во дворце, на войне, в тюрьме, даже на плахе…
В общем, тут у Виктора проявлялся, что называется, свой взгляд, и этим он был интересен и привлекал к себе.
Ничто не могло остановить его в накапливании и классификации юморин. Ко времени, о котором я рассказываю, он собрал и хранил их многие тысячи. Только незначительная часть этого богатства – вещи самые свежие – была набрана и упакована в файлы, остальное же, разысканное, приобретённое или созданное самим ещё в докомпьютерную эпоху, томилось в старобумажном формате. Это, впрочем, относилось ко всей созданной им интеллектуальной продукции. Возиться с переводом её в машинную память у Виктора не было ни охоты, ни времени.
В его небольшой квартирке, где вместе с ним жили его жена и его же мать, бумаги с текстами, отпечатанными на машинке или и вовсе написанными от руки, торчали из письменного стола, из-под монитора и принтера, с антресолей, с кухонных полок, из плательного шкафа, из комода, из диванного нутра. Даже из-под стола и стульев, к которым Виктор подвязывал их снизу кипами. Было их немало ещё между оконными рамами и просто на полу, так что, пройдясь по нему, совершенно легко оказывалось наступить на какую-нибудь из них.
Наблюдая его и в жизни, и в творчестве, я пробовал говорить ему, что будучи многосторонне способным, совмещая в себе личности Лытова, Роллана, Андроникова, Задорнова, Бирмака и ещё, бог знает, кого, он неоправданно растрачивает себя, упускает свой шанс быть если и не великим, то знаменитым и почитаемым. Ведь столько уже наворочено! С написанным и собранным, если его предложить к опубликованию, даже крупное издательство будет пыхтеть не менее двух-трёх лет.
Виктор лишь усмехался на такие мои наскоки.
Меня он стал посвящать в дебри своей деятельности сначала в прямой связи с материалами не его, а моими. Узнав, что я, человек уже из другого, младшего поколения, участвующий в разного рода полемиках о творчестве и питающий интерес к писательству и к собиранию смешного, да ещё и к добавлению туда своего, он однажды позвонил мне и, порасспросив о том о сём, бросил в меня какой-то шуткой, которую я тут же легко отпарировал. Последовало приглашение к нему домой.
Здесь я перехожу к той части моего повествования, где я показываю Виктора Иванкова ещё до того, как хорошо узнал его, и – как бы в стороне от литературы высокой, одухотворённой идеями большой социальной востребованности или классическими.
Не умаляя в нём приверженности этому важнейшему стилевому направлению в искусстве художественного слова, я, однако, хотел бы обратить внимание на следующее: как почти любой, кто отправляется по этому нелёгкому пути на свой страх и риск, да, наверное, даже и с неплохой академической выучкой, он не избежал увлечения творчеством в той несовершенной степени, когда оно ещё может нести на себе черты графоманства. Не всегда такой «уклон» бывает без пользы. Для Виктора стадия графоманства оказалась неизбежной, и она же явилась периодом напряженной учёбы. Тогда им было немало написано текстов низкопробных. Во всём этом и крылась, как я полагаю, некоторая его неприязнь к собратьям по перу. Но дело-то в другом. Возвышение для Виктора стало закономерным
Он по-настоящему оценил значение идей не только высоких, общих, но и самых простых, которых не счесть вокруг. И достойно обращался с ними.
Может быть, это и не идеи вовсе. Это смысловые оболочки фактов, иногда вроде бы ничего не значащих. Писатель, если он не зевака или скучающий обыватель, встречая их, не может пройти мимо и не расположить их в такой ряд, где они складываются уже чуть ли не в готовое художественное произведение. Вот это умение брать из такой меры в Викторе просто нельзя было не видеть. Причём неважно, пользовался ли он таким материалом для эпических произведений или для юморесок.
Так как именно через юмор неплохо бывает начинать в писательстве, общение с Виктором давало мне многое.
К поре нашего с ним узнавания друг друга я уже всерьёз пробовал литераторствовать – сочинял обзоры, заметки, статьи, очерки, набрасывал первые рассказы. Но из художественного творчества никому ещё ничего показать не успел. При первой же встрече, которую, как и другие позже, я имел все основания называть творческой, он отнёсся ко мне без чопорности и воздействия своим опытом. Мы опять, как и по телефону, обменялись шутками. При этом куда-то моментально устранялось в нём то загадочное, которое усматривали другие, связанное с устойчивым признанием его таланта и творчества только за счёт разошедшихся рукописей, а не публикаций. Было приятно ощущать себя допущенным как бы в самую середину этого феномена.
Повеселевший от того, что общаюсь с Виктором уже вроде как равный, я рискнул тут же предложить ему посмотреть одну мою художественную вещь. Он при мне бросил принесённые мною листы в мусорное ведро, едва прочитав один из них. Его буквально ничего не устроило в моей писанине. Но он сказал, что если я принесу что-нибудь ещё, то он готов прочитать уже два листа. От своих друзей, тяготевших к филологии, я хорошо знал цену такому его подходу к рукописям начинающих. При показе ему кем-нибудь неопубликованной вещицы, по счёту уже третьей, он мог прочитать три листа. Если натыкался хотя бы на крупицу талантливости, подбадривал автора, просил приносить и показывать ещё. Если нет, мог просто вывести за шиворот на лестничную площадку и спихнуть к нижнему этажу. Я, имевший немалые амбиции, в такой перемол попасть не удосужился, поскольку события развивались резко по-другому.
Я пришёл к нему снова с желанием не только «поразмяться» в юморе и с рукописью очередного художественного опуса, как и в первый раз, но и с Басей или Баськой. Так звался небольшого росточка кобелёк с лоснившейся, плотно облегавшей его мускулистое тельце шкуркой и с короткою на ней шерсточкой белого цвета с тёмными пятнами разной величины. Это была настоящая вертлявая бестия. В один миг он мог обнюхать всё вокруг, кажется, за километр вокруг себя. Ну, и, разумеется, не медлил с опорожнением.
В моей семье как раз была моя очередь вывести непоседу на прогулку. Сразу, когда он выбегал за порог, он, поскуливая и подвывая от предвкушения свободы, снарядом устремлялся вперёд и тут же скрывался из виду. Сначала ненадолго. На два-три громких выкрика с приведением его имени он объявлялся, извинительно вилял хвостом и вихрем кружился по дворовой местности. Потом, уже взбодрившийся, терял голову, куда-нибудь девался, пропадал. Вернуть его мог только голод. Но сколько же нужно ждать! И если бы только это! Баську, по его возвращении, когда он отчаянно скрёб лапами по входной двери и издавал звуки, похожие на плач обиженного болеющего ребёнка, узнать можно было только с большим трудом. По самые уши его покрывали фрагменты мусора, помоев, шерсти от других собак, сажи, извёстки, нефти, всего не перечислить. Требовалось его отмыть по полной: мылом, отбеливателями, шампунями. Обновленный таким образом и основательно измученный, пёсик норовил быстрее поесть, и, когда с этим заканчивал, невинно так короткое время отдыхал, свернувшись калачиком на полу, на диване или в любом другом месте квартиры, где только желала его душа.
Дома его беззаветно любили, несмотря на трудности при выгуле. Всех покорял его взгляд. Такого умного взгляда, утверждали мои домочадцы, да и все мои знакомые, знавшие Баську, не могло быть ни у других собак, ни у людей, вообще ни у кого. Он всё понимал и знал всё, что ему нужно было знать. Например, ему откуда-то было известно о терпимости и бездействии существующей государственной власти в вопросе обеспечения народа некачественными продуктами питания. Пробовали давать ему ливерную колбасу, так он, уже издали угадывая скучный её состав, даже смотреть на неё не хотел. Ему подавали только высокосортную и самую дорогую. То есть он определённо умел считать деньги. Это указывало на его высокое происхождение. Сам он хорошо знал о нём и гордился им. Его мать, Гонза, проживала в одном из соседних домов. Они с ней встречались и оживлённо говорили о нём, о ней, об их родословной и ещё много о чём. Родовые особенности были примерно одинаковыми у обоих: они великолепно лаяли, но не злобно, не стремились никого укусить, даже чужого, если тот злил их.
В тот день я задумал ограничить пребывание Баськи на прогулке. Дав ему чуток побегать, я взял его под мышку и отправился к Виктору. Войдя в квартиру, отпустил шельмеца. Он здесь никогда не был, но сразу повёл себя так, будто хозяин здесь он, а не кто-то. Вмиг прошастал по всем доступным и недоступным уголкам. Прочитал немало газет, книг, рукописей. Одну из них пометил собой.
До Виктора тут же дошло, с кем он водит общение. То есть, имея в виду и собачонку, и меня. Он, казалось, уже изготовился принять решительные меры. Но вдруг, как бы что-то вспоминая, спросил у меня:
– Как, ты говоришь, зовут его?
Я сказал.
– Странно.
– А что?
Виктор быстро нырнул в тесную кладовку. Когда вышел оттуда, в руках у него была свёрнутая в рулон и перевязанная шпагатом залежалая рукопись. Развязав узел бечёвки и встряхнув пропылившиеся листы, он дал им распрямиться, снял несколько из них и, указывая пальцем на открытую страницу, сказал:
– Смотри!
Почерк был быстрый и малопонятный, но слово «Басилей» было написано довольно отчётливо.
– Тебе кто-нибудь говорил раньше? – Я уставился на него.
– Нет, конечно. Писалось это уж и забыл когда. Это – мой роман. О нём достаточно говорят, ты, наверное, слышал. Пёсика твоего в то время и на свете ещё не могло быть.
Я буквально был потрясён. Несомненно, он говорил о романе «Я в тигриной шкуре»! И так откровенно, просто. До конца даже не верилось, вьяве ли я слышу это. Может, он что-нибудь перепутал? Из-за незнания пока истории с созданием романа в её полноте и содержания этого произведения я предпочёл сделать вид, что как бы пропускаю услышанное мимо ушей. Будто бы для меня тут ничего неизвестного нет. А чтобы закрепить эту притворную позу, сказал:
– Но ведь у тебя – не Бася.
– У меня правильнее. Бася это женское имя в Польше. А Басилей, собственно, как Василий. По-древнегречески – военачальник, воин. Я тут об этом немного распространяюсь. Правда, без древностей. Вот, полистай. Да сядь поудобней.
Волнение не позволило мне осознать, насколько я польщён. Он доверяет мне прикоснуться к разделу его творчества, который у него – основной, главный! Я присел на табурет и углубился в чтение текста, с чувством смятения подбираясь к каждой новой странице. Неслыханно! В тексте речь шла о такой же собачонке, как и моя – до невозможности вёрткой, непослушной на выгуле, бесшабашной, согласной, когда её кормили, только на самую дорогую колбасу. Происходило в рукописи то же самое, что и с моим Басей. И матерь его звали Гонзой! «Кажется, и оно – польское», – бросил мне Виктор, когда я, очарованный и возбуждённый совпадениями, указал ему на них.
Я настолько увлёкся, отмечая схожести литературного изложения, что как бы уже не чувствовал времени и обстановки, где нахожусь. И тут, может быть, совершенно случайно я осознал, что от неожиданности меня уже давно ударило потом и я, словно подхваченный вихрем, куда-то несусь, весь пронизанный обвораживающим трансцедентным светом сюжетных озарений.

