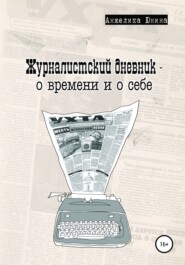скачать книгу бесплатно
Скажу сразу, в те времена никто не ограничивал журналистов в их творчестве, во всяком случае, в том 1994 году в газете «Ухта», да и в других СМИ. Я осваивала новые для себя жанры и была очень благодарна коллегам за их подсказки и критику, не всегда тактичную, но очень нужную для моего дальнейшего творческого роста.
Поскольку мы работали в одном кабинете с Ниной Александровной Поповой, человеком верующим, тема поиска Бога довольно рано вошла в моё творчество. Но начала я её издалека. Моим первым опытом в этой области стало интервью с преподавателем научного атеизма в Ухтинском индустриальном институте, и начиналось оно с фразы: «Вы верите в Бога?».
Тогда статьи на тему Православия стали появляться в СМИ. Это было необычно. После стольких лет молчания (гонений и отрицания я не застала). Но, тем не менее, только пришедшие к вере, горячие неофиты меня раздражали поучениями и наставлениями. Так появилось интервью, в котором я отстаивала своё право на выбор веры. В тот год я обошла несколько религиозных объединений – адвентистов седьмого дня, баптистов.
Про одну верующую семью даже написала в газете. Но в православную церковь тогда не пришла.
Вообще, читать старую «Ухту» для меня настоящее удовольствие. Сейчас ведь всё унифицировано. И в вузах, и на различных вебинарах журналистов учат, как выхолащивать информацию – никакой «воды», короткие фразы, меньше текста – больше фото. Впрочем, в этих идеях нет ничего нового, но об этом, может быть, позже. Нас же учили, как у Вадима Шефнера:
«Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести».
И потому, перелистывая старые газеты, я с умилением прочитала заметку Антонины Гороян. Ветеран ухтинской журналистики, она была одним из постоянных, на тот момент внештатных, авторов «Ухты» и писала на тему нравственности. История о бедолагеводителе, который из ревности пырнул ножом коллегу своей жены, в её исполнении приобрела масштаб романа. Ревнивца, кстати, трудовой коллектив решил отстоять, написав ходатайство в суд. Но это лирическое отступление.
Россия шагала по пути рыночной экономики, и вскоре стало заметно, что с этой самой экономикой у нас дело плохо. Чем был примечателен 1994 год? Прямо скажем, хорошего вспомнить можно мало – галопирующая инфляция, когда цены менялись по нескольку раз в месяц, закрытие предприятий, задержки зарплат. И из каждого утюга зазвучала реклама АО «МММ». Помните знаменитого Леню Голубкова, который жене то на сапоги, то на шубу якобы денег заработал благодаря пирамиде Мавроди. Уже к концу года «МММ» не стало, а тысячи обманутых вкладчиков безуспешно пытались вернуть свои кровные. При этом «новые русские» красовались в малиновых пиджаках, участвовали в криминальных разборках, организовывали заказные убийства. В глубинке всё это было не так заметно, но было!
Хотя в малиновом пиджаке уже даже руководители предприятий могли прийти, скажем, на презентацию. Как прозвучало в одном из моих репортажей с открытия магазина (рекламными статьями я начала заниматься уже с первых лет своей деятельности): «Очень выгодно из чернобелой толпы выделялся импозантный директор АО «Молоко» в малиновом пиджаке». Помнится, он высказал своё недовольство данным произведением моей коллеге и наставнику Нине Александровне Поповой. На промышленности и сельском хозяйстве в газете специализировалась она.
Несмотря на «распоясавшуюся» свободу слова и творчества, которая привела к распространению неприличных фильмов и изданий, в нашей городской газете производственный репортаж и люди труда на первой полосе еще долго были актуальны. И я наравне с коллегами вносила свою лепту. Рассказывая, например, о работе фабрики «Художественные промыслы». Это, кстати, был один из первых моих репортажей, который мы делали вместе с Виктором Михайловичем Чаниным, так началось наше сотрудничество с легендарным фотографом. Но уже слышны слова «приватизация», «долги бюджетных организаций энергетикам» и т. д. Но это были ещё цветочки. Ломка стала происходить на какомто глубинном уровне, менялось мировоззрение.
Мультики по телевизору в этом доме сегодня смотреть некому…
(газета «Ухта» от 30 марта 1994 года)
«Пусть эти тети вас и кормят», – с такими словами 34летняя женщина оставила в поссовете Водного двух своих дочек. Пока служащие приходили в себя, мамаши след простыл.
Беспрецедентный случай. Такого многострадальный посёлок ещё не видел. Работница завода «Прогресс», которая всегда была на хорошем счету, исполнительная, трудолюбивая, матьодиночка, растившая трех дочерей (старшая уже учится в другом городе). Февральским вечером она решила привлечь внимание городских властей весьма неординарным образом.
Девочки шести и девяти лет сидели тихо, как мышки, боясь тронуться с места. Ведь мама сказала сидеть здесь. Заместитель председателя поселкового Совета распорядилась поместить детей временно в местную больницу в надежде, что мать одумается. Чего не сделаешь в состоянии аффекта! Прошло три дня. Но мать не пришла. И девочек определили в Ухтинский приют.
Строки из письма Татьяны О.:
«Пошла я на этот шаг вынужденно, как бы я ни старалась, мне их не прокормить и не одеть. Мой доход составляет 45 тысяч на всех нас».
По справке из бухгалтерии «Прогресса», в январе этого года женщина заработала 56991, а в феврале – уже 103 тысячи рублей.
«Чисто почеловечески я её жалею, – говорит зам. председателя поссовета Нина Ивановна Крашенникова, – но как мать я не понимаю. Как она может спасть в своей квартире одна, без детей…».
Неоднократно к Татьяне О. приходили из поссовета, смотрели, как она живет, сочувствовали. В декабре ей была даже выделена помощь в размере 61 тыс. рублей. И потому, наверное, акция матери привела власти в состояние шока. Эта семья всетаки считалась благополучной. Детей в Ухте бросают, но это бродяжки, алкоголики, в общем, лица самого аморального поведения. Про Татьяну О. этого не скажешь, да и дети всегда ухоженные.
Строки из письма:
«Пришла ко мне комиссия, посмотрела, как я живу, а теперь твердят, что, мол, я должна продавать вещи. И этим выйду из положения. Я сказала, что из квартиры ничего продавать не буду. Не для того я зарабатывала болезни, чтобы опять ничего не иметь. Я знаю, дети меня этим не упрекнут, я для них и жила. Жалко, очень жалко детей, только они меня и поддерживали».
Сознавая всю бестактность своего визита, я всетаки пришла в гости к Татьяне О. Думала, насколько должно быть неуютно этой женщине рассказывать о своих бедах и унижениях. Но обманулась. Татьяна не выглядела смущенной…».
Посмотрев на хорошо обставленную трехкомнатную квартиру, я реально недоумевала. Сразу както вспомнилось, когда мужу не платили зарплату, я просто продавала вещи, эта же судьба постигла наши ваучеры, нужно было купить сыну сапоги. И, конечно, в материале это чувствовалось. И, тем не менее, бытие этой семьи мало чем отличалось от жизни нищенских трущоб.
Вот что я записала со слов соцработников и самой героини статьи:
«В отчем доме девятилетней Свете приходилось вставать в половине шестого утра. Маме к 8 на работу, а Надю кто в детский сад отведет? Вечером скудный нищенский ужин – и за работу. Мама – на сдельщине. Сколько деталек собрал, столько и получил. И хоть выполняют план на 150 процентов, из–за низких расценок зарплата – кот наплакал. Вот и приходится брать работу на дом, отсидев, не вставая, над проклятущими деталями рабочую смену. Бывало, до 11 часов вечера помогали девочки маме, что не только утомительно, но и небезопасно. Потом всю ночь тело чешется… Недаром у многих работниц «Прогресса» – хронические заболевания.
Не хватает денег – работай! Но где? На Водном, как мне сказали в поссовете, нет работы для женщин. Татьяне предлагали идти на свинарник. Отказалась, и не потому, что работы боится.
Строки из письма:
«Всю жизнь работала на 2–3 работах. Получала хорошо. Теперь нет здоровья».
Этот материал дался мне непросто. Тогда я сотрудничала с социальными службами города. Там хорошо понимали, что наступили нелегкие времена, хотели привлечь внимание общественности. Видимо, чиновники всерьез опасались, что единичные случаи отказов от детей могут стать массовыми. В статье я привожу цифры:
«В приюте на одно питание требуется немало средств. Это означает, что откажут комуто из очень нуждающихся. Средства выделяются скудные. После постановления Совета Министров Республики Коми «О создании единого механизма в системе социальной защиты населения» вздохнули было спокойно. Ведь по нему остро нуждающимся гражданам республики должны были доплачивать до прожиточного минимума – то есть до 42 тысяч на каждого ребенка. Однако, почувствовав, какие миллиарды понадобятся, чтобы претворить это постановление в жизнь, в министерстве пошли на попятную. Сегодня доплачивают лишь до минимального размера оплаты труда. Отгадайте сколько? 14620 – и ни копейки больше.
В отделе по делам семьи мне показали картотеку, в которой каждое дело – это крик о помощи. Сразу же выложили пачку дел, в которых рассказывается как раз о семьях, вынужденных жить на это грошовое пособие. Тоже работающие матери с двумя, а то и тремя детьми. Так не сдать ли и их в приют?
Татьяна сказала только одну понятную мне фразу: «Меня все осуждают в посёлке, говорят: хоть мы и голодные, но зато дети при нас. Наверное, они могут смотреть на своих голодных детей, а я не могу».
Но, согласитесь, странно слышать эту слёзную исповедь от женщины, которая приобрела в счет зарплаты бартерный телевизор и потому денег на заводе не получает, которая честно признается, что есть в её доме вещи ненужные, но не продаёт, надеясь сбыть подороже. А детишек хочет оставить в интернате, чтобы заняться коммерцией…
P. S. Пока верстался номер, матери дали добро на оформление старшей дочери в интернат. Младшую она согласилась взять домой, вот только надолго ли…».
Намеренно даю эту статью с сокращениями и изменением всех имен. Дела давние. Времена были непростые, как, впрочем, все годы, начиная с перестройки. Но статья имела большой общественный резонанс. В редакцию пришло письмо, и мы, посовещавшись, решили его опубликовать, ведь это была яркая иллюстрация – мироустроение в России рушится, надо чтото делать.
«Тварь я дрожащая, или Право имею?
Мы, работницы завода «Прогресс», прекрасно знаем Татьяну О. и хотим встать на защиту её и самих себя. То, что она сделала, – это её право, а вот почему она это сделала и именно сейчас, на 9м году «перестройки», давайте проанализируем, хотя много можно задать «почему?»: упала рождаемость, стали питаться хуже дети, мы почти все попали за «черту», нет уверенности в завтрашнем дне.
Почему Таня и все мы могли себе позволить рожать двоих, троих, и было чем кормить, одевать, одеваться самим, покупать мебель, ездить каждый год в отпуск и чаще к морю? Таня, как и многие другие, работала так тяжело, что вы себе и представить не можете, но она и получала так, что смогла обставить свою новую бесплатно полученную квартиру. А теперь вы предлагаете продать все, а коекто советует продать и квартиру и снова жить в коммунальной малосемейке? Всё это получалось для дочерей, для их будущего, ведь теперь они всего этого не смогут заработать никаким трудом.
Ну, продаст она, всё проедят, а дальше? Кто ответит на этот вопрос? И кто за это ответит?
Пусть она объяснит своим дочерям, что пока это единственный выход не быть голодными. А насчет интеллекта: те, кто учился в институтах, жили за счет того, что Таня работала, делала своими руками продукцию. А ктото в это время учился бесплатно в техникумах и вузах. Нет, еще и стипендию получали.
И не надо из нее делать монстра, потерявшего материнские чувства.
Наоборот, она спасает своих детей. Мы не уверены, что завтра не сделаем то же самое. Всего 12 подписей».
Для меня эта публикация, конечно, была неприятна, но я уже тогда понимала, что для газеты важна не констатация факта, а обратная связь, диалог, который делает издание живым. В то время не было соцсетей, где можно посчитать лайки и комментарии. И такого рода письма помогали понять, есть ли отклик.
Газета «Ухта» в то время была действительно рупором мнений. На её страницах обсуждали самые насущные вопросы экономики, политики, местного самоуправления. Во многом активной и принципиальной газета была благодаря главному редактору Александру Ивановичу Красавицкому, который возглавлял ее с 1989 года, на протяжении без малого 15 лет. Долгое время он был депутатом Совета города. И может, поэтому мы не испытывали особого давления со стороны властей.
Журналисты «Ухты» реально помогали людям, городу. Например, обратилась в редакцию жена инвалида, которому не дают положенную по закону квартиру.
Разобрались, я разложила всё по полочкам, и получился небольшой материал со звучным названием «Козырь в рукаве», и жилье предоставили.
У каждого журналиста в то время были такие материалы. Многие промышленные предприятия начали избавляться от непрофильных активов – Домов культуры, детских садов, и передача на баланс муниципалитета проходила непросто. Но вмешательство общественности и газеты помогало.
Так, пока Борис Духовской готовил свой материал «Туча над Ярегой» о Доме культуры в этом поселке, в администрации уже нашли деньги и взяли под своё крыло бесхозный очаг культуры.
Мёртвая петля авиаторов
Но всё больше становилось проблем неразрешимых. Ко Дню воздушного флота (в газете «Ухта» от 20 августа 1994 года) я сделала печальное интервью под названием «Мёртвая петля авиаторов»:
«Традиционные солнечные поздравления с Днём воздушного флота теперь, увы, вызовут горькую усмешку у наших авиаторов. Особенно пожелания процветания.
Вопрос о том, как сегодня отмечает любимый некогда в СССР праздник наше авиапредприятие, я задала начальнику штаба.
Нечто новое я действительно узнала, но, боюсь, это вряд ли взбодрит наших именинников и их земляков. Итак, нам отвечает Виктор Александрович Коньков:
– Ведь разваливается всё и вся: нефтяная промышленность, геология, сейсмика, с кем мы сотрудничали… Сложно теперь и нам, хотя даже в перестроечные годы мы оставались на рабочих высотах. По крайней мере, зарплата выплачивалась регулярно. Пережили мы и первое серьезное сокращение, особенно среди вертолётчиков. Практически вся ранее «громкая» тяжелая техника – летающие краны Ми10К, супергрузовозы Ми26Т – сейчас бездействует. Нет заказов, а календарные сроки для воздушных судов неумолимы.
Если говорить коротко, предприятию удаётся выжить только за счет зарубежной работы. Найти её и заключить договора на терпимых условиях чрезвычайно сложно, и, если бы не усилия руководителей Е. Ю. Старкова, И. Я. Бобкова, В. А. Бернгардта и других, мы бы просто перестали существовать. Совсем недавно удалось договориться о работе самолета Як40 в Африке. Всё сегодня под вопросом. Мы долго обсуждали в коллективах суть и варианты приватизации, не спешили – связанный воедино веник сломать труднее, верно? Наконец, оформили нужные документы для общей приватизации, но в Государственном комитете по имуществу России нам отказали. По распоряжению А. Б. Чубайса, предприятия гражданской авиации подлежат разделу на три комплекса. В состав «Росаэронавигации» войдут наши диспетчеры, связисты, специалисты по управлению полётами. С 1 октября почти 180 ухтинских «движенцев» отделяются от нынешнего авиапредприятия и в составе самостоятельного подразделения будут на государственном обеспечении. А всё это потянет за собой неоднозначные проблемы раздела основных и оборотных средств, разобщённость рабочих мест, замкнутость кадров и так далее.
По решению правительства РФ вышеназванная структура будет включать также лётнотехнический и аэропортовый комплексы. Это пилоты, инженеры, техники, работники аэродромного хозяйства и службы ГСМ, охраны, водители машин. Таким образом, тройственный передел одного большого, по всем меркам мощного предприятия, предполагает и создание во вновь образованных структурах собственной администрации, и перевод предприятий на полный взаиморасчёт за телефоннотелеграфную связь, заправку топливом и маслами, за поддержание в рабочем состоянии взлетнопосадочной полосы и стоянок, за исправность воздушных судов, аренду оборудования и многое другое.
Страшны и величины накруток на стоимость всех услуг. Обернётся всё это, в конце концов, крутым виражом цен на авиабилеты и ростом тарифов на авиаперевозки…
– А как на всё это смотрят в правительстве Республики Коми?
– Думаю, что и там со дня на день ожидают Указа Президента. Каким будет решение, пока неизвестно. Но мы очень рассчитываем, что победит здравый смысл, и будет сформировано единое управление воздушным транспортом Коми. Конечно, названные комплексы нецелесообразно отделять. Хотя… приходится просчитывать различные версии. Достаточно вспомнить горькие уроки 100процентной коллективизации и многие иные крайности по указке сверху.
Ожидать чьегото приказа тяжко всегда. Ждать и догонять – хуже не бывает. И для Ухтинского авиапредприятия, которое заслуженно входило в первую пятерку лучших по бывшему Союзу, такое положение как сейчас – унизительно. Уходят профессионалы, прогрессируют апатия, равнодушие к делу и друг к другу. А ведь это слагаемые безопасности полетов.
К тому же расчётный счёт предприятия арестован изза значительного долга за арендную эксплуатацию сыктывкарских самолетов Ту134. В ближайшей перспективе изза таких «мёртвых петель» в экономическом пилотаже ухтинские экипажи, летавшие ранее на Ту134, станут безработными, дополнительно к уже потерянным нами классным специалистам. Грустно, но приходится признать, что нынешний День авиации выдался для ухтинцев на редкость бескрылым и туманным. В Ухте, как, впрочем, и на других аэродромах, слишком задержалась нелетная погода».
***
И это всё о нём, знаменитом аэропорте страны. Я выросла в поселке Дальний, практически рядом со взлетной полосой, и в период моего детства взмывающие ввысь самолёты были частым и обычным зрелищем. И потому наблюдать картину угасания некогда мощного предприятия, дающего стабильную, хорошо оплачиваемую работу многим ухтинцам, было грустно.
Но при всех экономических сложностях для газеты «Ухта» и её журналистов 1994 год был вполне успешным. А для меня так и вовсе он был полон творческих открытий, у меня всё было впервые. Например, первое интервью со звездой, мне довелось побеседовать с самой Лией Ахеджаковой в мае 1994 года. Но разговор не задался. Я мечтала сделать с актрисой материал для моей семейной страницы, по которой я потом и диплом защищала. Но Лия Меджидовна сурово пресекла придуманные мной вопросы: «Я что, в провинцию приехала свою личную жизнь рассказывать?». Хорошо еще, что на интервью я была со своей коллегой и подругой Светланой Акулиной, которая подготовила театральные темы. Готовиться в то время к интервью приходилось в библиотеке, Интернета в свободном доступе еще не было. Вместо диктофона у меня был тяжёленький такой магнитофончик. А произведения свои я набирала на печатной машинке. И не было никаких программ, проверяющих орфографию и пунктуацию. Мне даже странно говорить об этом, кажется, что это такая древность, а ведь было всего 25 лет назад.
Именно в 1994м цивилизация пришла в газету «Ухта». В этом году у нас появились компьютеры. Новые технологии помогала внедрять Анна Викторовна Бурлаченко, которая 10 лет спустя возглавила издание. Поначалу с помощью компьютерной вёрстки делали только пятничный выпуск. Его мы старались наполнять развлекательным контентом, выражаясь современным языком. Я хорошо помню свой материал «Байки о роддоме», в котором привела и свои женские воспоминания, и истории подруг. Но в целом речь шла о позитивных переменах – в роддоме разрешили быть ребёнку вместе с мамой, появились платные услуги – комфортные палаты, партнёрские роды. В общем, такая завуалированная реклама.
Несмотря на титанические усилия журналистов, тираж снижался. В октябре 1994го он был меньше 14000 экземпляров. Мы устраивали встречи с читателями, рассказывали о газете. У меня осталась фотография Виктора Чанина, на которой одна из таких встреч.
На встрече была и моя мама. Всю жизнь она была участником моих публичных выступлений, надеюсь, что это доставляло ей радость.
Тем временем уже в декабре 1994 года Россия вступила в затяжную Чеченскую войну. Но пока жители провинции еще не ощущали эту тему так остро. Осознание пришло позже, когда на Кавказе стали гибнуть наши ребята.
Для меня же этот период был связан с написанием и защитой диплома, который я успешно получила в феврале 1995 года.
Уже в 1994м я начала вести школу юных корреспондентов, в этом вопросе мне помогала мой руководитель по диплому Мария Федоровна Попова, кандидат филологических наук. Я создала страничку «Тусовка от 6 до 16». Наладила работу со школами благодаря поддержке Управления народного образования Ухты. Ко мне стали приходить ребята, которые мечтали писать для газеты. И тогда Мария Федоровна подарила мне свою программу обучения юнкоров. Конечно, я ее адаптировала, а сейчас она и вовсе наполнена другими заданиями, темами, но я всегда с благодарностью вспоминаю этот подарок преподавателя журфака.
Страница для школьников получилась весёлой. Ответственный секретарь редакции Римма Александровна Лапина помогла с оформлением – её знакомая художница создала шапку и иллюстрировала отдельные публикации. Чего там только не было – опросы учеников и педагогов, шутки, словарик современной молодежи, интересная подача школьных новостей и многое другое.
Глава четвертая
1995 год
Защитив диплом в феврале 1995 года, я получила лестное предложение – побывать на семинаре редакторов детских изданий. Оказывается, мою школьную страничку представители детских объединений Ухты, о которых я часто писала, показали в Сыктывкаре. И там решили, что я достойна побывать в Москве и поучиться за счёт государства – и тренинги, и проживание с питанием были бесплатными. Требовалось только купить билеты на дорогу.
Своей радостью я тут же поделилась с главным редактором газеты «Ухта», но тот не разделил моего энтузиазма. Командировку оформлять отказался категорически. Но я не хотела упускать такую возможность и поехала за свой счёт, взяв несколько дней отпуска. К слову, деньги за дорогу потом мне компенсировал отдел молодёжи администрации Ухты, тогда там работала Нина Ивановна Крашенинникова.
Поездка принесла мне не только новые впечатления и знания, но и помогла написать один из самых значимых материалов. На дни проведения семинара в Москве пришлось одно из трагических событий в современной России – был убит знаменитый журналист Владислав Листьев.
Нынешней молодежи, наверное, даже трудно представить, насколько был популярен этот человек. Соавтор и ведущий программы «Взгляд», которая перевернула представление о телевидении для тысяч россиян. Передача имела бешеный успех, и не только за счёт демонстрации видеоклипов западных популярных исполнителей, но и изза тем, которые поднимали журналисты и обсуждали их в прямом эфире. Владислав Николаевич был автором и первым ведущим таких телепередач, как капиталшоу «Поле чудес», «Тема» и «Час пик», а также создателем программ «Звёздный час», «Lклуб», «Серебряный шар» и «Угадай мелодию». Некоторые передачи, созданные им, живут до сих пор. Но мало кому из современных ведущих удалось сравниться с ним в популярности, и дело тут было не только в профессионализме, но и в особом обаянии, которое чувствовалось даже через экран.
Листьев, кстати, приезжал в Ухту и выступал во Дворце культуры. Из его рассказов мне особенно запомнился один. Когда они с единомышленниками начинали программу «Взгляд», при демонстрации видеоклипов авторские права они соблюдали не всегда. И в один из дней выпустили в эфир даже пиратский клип Майкла Джексона и переживали, а вдруг потребуют компенсацию? Но увидев, как в одном из интервью Джексон на вопрос о России переспросил: «А где это?», они успокоились.
В 1995 году Владислав Листьев стал генеральным директором новой телекомпании – ОРТ. И, судя по всему, именно его действия на посту руководителя привели к трагической гибели. Влада убили 1 марта в подъезде собственного дома.
Чувства, которые мы тогда испытали, даже трудно описать. Расстреляли кумира миллионов людей. Это казалось немыслимым. Неудивительно, что я вместе с несколькими энтузиастами вместо семинара решила побывать на месте гибели, на официальных траурных мероприятиях и даже попала в «Останкино». Поучаствовать в прямом эфире, надо сказать, удалось чудом, моё редакционное удостоверение не произвело на охранника никакого впечатления. Но тут прибежала бойкая московская журналистка с оператором и подняла такой шум на всё «Останкино»: «Нас, коллег?! Не пускать выразить соболезнования? Это беспредел!». Охранник сдался, и мы под шумок проскочили вместе с боевой соратницей.
Час, когда Листьева не стало
(газета «Ухта» от 10 марта 1995 года)
В десятом часу 1 марта журналисты, приехавшие в Москву на семинар по линии Юнпресс, собрались, чтобы обсудить свои проблемы. И разговор наш неожиданно зашёл о мафии и национализме.
Оказалось, что многие имеют уже печальный опыт столкновения с мафиозными структурами. Телефонные звонки с угрозами и даже выстрелы – вот что приходится слышать простым провинциальным журналистам. Все эти истории мне показались дикими и выдуманными…
Через три часа к нам заглянул редактор телевидения из Орши: «Вы слышали, что Листьева убили?». Мы ошарашенно переглянулись и про себя решили, что человек бредит. Однако через несколько минут мы узнали об этом из новостей.
На следующий день четверо из нас были на прессконференции в Центральном Доме журналиста. Туда смогли попасть абсолютно все желающие по своим редакционным удостоверениям. Смерть коллеги сплотила журналистские ряды. Но, с другой стороны, было очень больно и обидно, что все сказанные слова ни к чему собственно не привели. Работники «Останкино» и журналисты газет поначалу говорили о забастовке, но, посоветовавшись, пришли к выводу, что должны выполнять свой долг перед обществом. Выдвигали протесты и требования к правительству, но к ним так никто и не прислушался.
Наиболее интересным было выступление Эдуарда Тополя, которому, кстати, не дали договорить. Приведу лишь несколько фраз: «Произошло чрезвычайное событие: на глазах у миллионов людей убили их кумира. Заказное убийство стало этической нормой решения любых конфликтов: экономических, политических и даже производственных. Произошедшее ярко показывает, что журналистика только существует, но никоим образом не способствует развитию демократии. Она просто её фасад, ширма, которую вчера расстреляли в упор».
Еще жёстче высказался редактор «Московской правды»: «Пора прекратить давать слово тем, кого мы не хотим видеть у власти. Слово на страницах газет или на телевидении – это общественная поддержка. Нет корпоративного объединения прессы, поэтому нас поодиночке выталкивают из страны. В конце концов, запуганные стрельбой граждане будут только рады приходу диктатора, который скажет: всё, больше беспорядков не будет. И никто так и не узнает, не диктатор ли был виновником этих беспорядков».
Много вопросов вызывал тот факт, что генеральный директор Общественного российского телевидения всюду ходил без охраны. Эдуард Сагалаев сказал по этому поводу: «Влад всегда нёс в души людей покой и оптимизм. У него не было охраны, потому что он верил в свою счастливую звезду».
Не обошлось на прессконференции и без инцидента. Очень долго выступал Святослав Фёдоров. Он остановился на экономическом кризисе, подробно описал хаос, который творится в России. Ему не дали заниматься словоблудием. Журналист из «Независимой газеты» громко, на весь зал, оборвал его: « Замолчи, Фёдоров! Разве об этом нужно сейчас говорить?». Перед С. Фёдоровым извинились, но речь ему пришлось закончить.
Из всего сказанного прозвучало только одно конкретное предложение – от группы, представлявшей «Бизнес России». Они заявили, что будут вести расследование убийства В. Листьева параллельно с официальными органами, взяв на себя все финансовые затраты.
Днём 2 марта побывала я и у дома, где жил Владислав, на Новокузнецкой, 30. Поразило одно. Обычно, если гдето собирается толпа, слышно издалека. Этот двор мы нашли не сразу, хотя находились неподалеку. Собралось человек пятьсот. Люди стояли молча. Приносили цветы, ктото плакал, и лишь на заднем плане охали старушки или тихо разговаривали друг с другом.
Ощущение унижения и растерянности чувствовалось и в прессклубе в «Останкино». Может, поэтому разговор получился несколько бессвязным. Всех душили слёзы от гнева и бессилия. Более продуктивным было общение по окончании прямого эфира.
Например, мне понравилось то, как отвечала на вопросы Ирина Хакамада. Прозвучала фраза: «А почему столько шума изза одного убитого, ведь тысячи людей гибнут по всей стране!». Хакамада ответила так: «Бесспорно, ценность любой человеческой жизни равнозначна. Но когда убивают людей такого уровня, как Владислав Листьев, всем становится ясно, что остальные жизни просто гроша не стоят».
Как очевидец могу утверждать: никаких волнений и ажиотажа на улицах не было. Гражданская панихида 3 марта проходила очень организованно. Я избежала пятичасового стояния в очереди, которая начиналась за две остановки до «Останкино». И с каждым часом становилась всё длиннее и длиннее. Но я видела, что та интеллигентность, которая всегда была свойственна Листьеву, передалась всем присутствующим. Никакой пустопорожней болтовни. Молчание, цветы и свечи.
Самым тяжёлым было приближение к гробу. Не верилось, что он умер. Я почувствовала себя участником какогото нелепого спектакля, который вотвот закончится.
Нет смысла повторяться.
Каждый из нас хорошо знает и понимает, кого мы потеряли. Жизнь продолжается, «Останкино» работает. Но нетнет, да тот, кто будет смотреть «Поле чудес» и «Тему», подумает: «А ведь Владислава Листьева нет с нами, его убили».