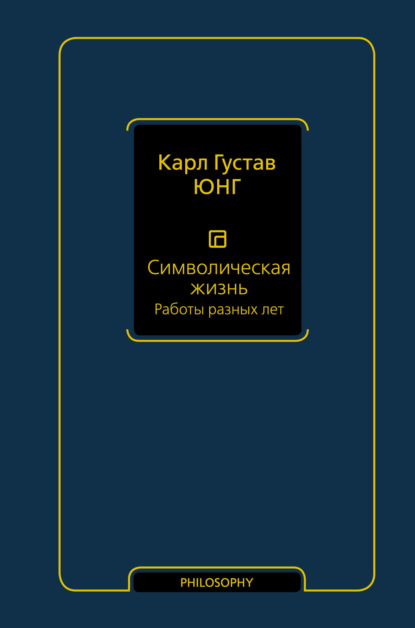
Полная версия:
Символическая жизнь. Том 2. Работы разных лет
1134 Чтобы завершить описание положения комплексной психологии в ее текущем состоянии, хочу упомянуть некоторые крупные работы своих учеников. Это «Введение в основы комплексной психологии» Тони Вольфф, удивительно ясная философская книга; работы Эстер Хардинг по женской психологии; анализ «Гипнеротомахии» Франческо Колонны, этого образчика средневековой психологии, за авторством Линды Фирц-Давид; введение в психологию от Иоланды Якоби; книги Фрэнсис Дж. Уикс по детской психологии, примечательные своим любопытным содержанием; великая книга Х. Бэйнса «Мифология души»; обзорная (synoptische) работа Герхарда Адлера; многотомное исследование Хедвиги фон Рокес и Марии-Луизы фон Франц; а еще весомая по содержанию и охвату книга Эриха Нойманна об эволюции сознания.
1135 Особый интерес представляет применение результатов комплексной психологии к психологии религии. Здесь уже подвизаются не мои ученики. Хочу выделить прекрасную книгу Ганса Шэра о протестантизме, а также работы У. П. Уиткатта и отца Виктора Уайта, посвященные взаимоотношениям нашей психологии и томистской философии; кроме того, отмечу превосходное изложение основных понятий за авторством Гебхарда Фрая, необычайная эрудиция которого изрядно облегчает понимание.
1136 Покончив с описанием прошлого и настоящего, пора, наверное, попытаться набросать картину будущего. Естественно, мой набросок будет учитывать самые приблизительные черты.
1137 Многообразные возможности дальнейшего развития комплексной психологии соответствуют различным стадиям развития, оставленным позади. Что касается экспериментальной стороны, еще остается множество вопросов, которые требуют экспериментальной проверки и статистических данных. Мне пришлось отложить ряд начинаний ввиду более неотложных задач, которые отнимали мое время и силы. Те же возможности ассоциативного эксперимента, к примеру, еще далеко не исчерпаны. До сих пор не ясно, почему наблюдается (и наблюдается ли) периодическое возобновление эмоционального тонуса комплексов-стимуляторов, а проблема общесемейных ассоциаций и вовсе не изучена, при всей своей несомненной полезности; то же самое можно сказать и об исследовании физиологических проявлений комплекса.
1138 В медицинской и клинической областях остро ощущается недостаток полностью проработанных историй болезни. Это понятно, ведь обилие и полнота материала встают почти непреодолимой преградой и предъявляют высочайшие требования не только к знаниям и терапевтическому мастерству исследователя, но и к его описательным способностям. В области психиатрии анализ пациентов с паранойей, сопровождаемый сравнительными исследованиями символизма, имел бы, полагаю, огромную ценность для науки. Особое внимание нужно уделить оценке сновидений раннего детства и предкатастрофических сновидений, то есть таких снов, которые посещают человека перед несчастным случаем, болезнью или смертью, а также сновидений в ходе тяжких заболеваний и под наркозом. Сюда же относится изучение предсмертных и послесмертных психических явлений. Они чрезвычайно важны по причине сопутствующей им относительности пространства и времени. Трудной, но интересной задачей выглядит исследование процессов компенсации у психотиков и преступников, а еще – цели компенсации как таковой и характера ее направленности.
1139 В нормальной психологии важнейшими предметами исследования выступают психическая структура семьи с точки зрения наследственности, компенсаторный характер брака и эмоциональных отношений в целом. Насущной проблемой видится поведение личности в людской массе и обусловленная этим фактом бессознательная компенсация.
1140 Богатый урожай предстоит собрать в области гуманитарных наук. Здесь открываются широкие перспективы, и в настоящее время мы только приближаемся к этому полю. Большая часть территории еще избегает нашего внимания. То же самое справедливо для биографических исследований, которые крайне важны для истории литературы. Но главной областью применения аналитической психологии мне кажется психология религии. Изучение религиозных мифов не только способно пролить свет на психологию народов, но и подсказать некоторые пограничные направления исследований, как уже отмечалось. Тут нужно в первую очередь совместными усилиями психологов и физиков сосредоточиться на символике четвертичности и proportio sesquitertia, примером которой является алхимическая «аксиома Марии»[55]. Физикам, возможно, придется допустить возможность пересмотра представления о пространстве-времени, а психологам понадобится более тщательно исследовать и описать триадные и тетраэдные символы в их историческом развитии, продолжая ценный труд Фробениуса[56]. Также необходимы всесторонние исследования символов цели и единства.
1141 Этот список, составленный более или менее случайно, вовсе не притязает на полноту. Сказанного, пожалуй, достаточно для приблизительного представления о том, что уже достигнуто комплексной психологией и в каких направлениях мы вправе ожидать будущих исследований, в том числе в нашем институте. Конечно, многому суждено остаться благими пожеланиями, далеко не все из намеченного исполнится; виной тому как индивидуальные устремления сотрудников института, так и непредсказуемость и иррациональность научного развития как такового. К счастью, любое учреждение, располагающее ограниченными средствами и независимое от государства, попросту вынуждено трудиться много и качественно, чтобы выжить.
Глубинная психология
1142 «Глубинная психология» – это термин, заимствованный из медицинской психологии и предложенный Эйгеном Блейлером для обозначения той отрасли психологической науки, которая занимается феноменом бессознательного.
1143 Как философское и метафизическое понятие бессознательное появляется довольно рано, например, в виде «малых восприятий» у Лейбница[57], «вечного бессознательного» у Шеллинга, «бессознательной воли» у Шопенгауэра или «божественного Абсолюта» фон Гартмана.
1144 В академической психологии девятнадцатого столетия бессознательное как основополагающее теоретическое понятие встречается у Теодора Липпса, который трактует его как «психическую реальность, необходимо признаваемую лежащей в основе существования сознательного содержания», а также у Ф. Х. В. Майерса и Уильяма Джеймса, которые подчеркивают важность бессознательной психики. У Теодора Фехнера бессознательное становится эмпирическим понятием. Тем не менее можно обоснованно утверждать, что эмпирический подход к бессознательному возник совсем недавно, поскольку до начала века психика обычно отождествлялась с сознанием, и это делало идею бессознательного несостоятельной (Вундт).
1145 Подлинными пионерами экспериментальных исследований бессознательного были Пьер Жане и Зигмунд Фрейд, два медицинских психолога, чьи исследования патологической психической жизни заложили основы современной науки о бессознательном. Огромная заслуга принадлежит Жане, изучавшему истерические состояния и выдвинувшему теорию «частичной психической диссоциации»[58]; он проводил различие между функциями partie superieure и partie inferieure[59]. Столь же плодотворным стало экспериментальное доказательство существования idées fixes и obsessions[60], а также их автономного воздействия на сознание.
1146 Однако особое положение бессознательного как основного понятия эмпирической психологии – это заслуга Фрейда, истинного основоположника глубинной психологии, известной еще как психоанализ. Это специфический метод лечения психических заболеваний, состоящий, по сути, в выявлении того, что было «скрыто, забыто или вытеснено» в психической жизни. Фрейд занимался лечением нервных болезней. Его теория развивалась в кабинете врача и навсегда сохранила этот медицинский отпечаток. Его внимание привлекала в первую очередь патологическая, невротически дегенеративная психика.
1147 Развитие мысли Фрейда можно проследить следующим образом. Он начинал с исследования невротических симптомов, в частности истерических симптомов, психическое происхождение которых Брейер[61], используя метод, заимствованный из гипноза, ранее обнаружил в причинной связи между симптомами и некоторыми переживаниями, чуждыми для пациента (не осознаваемыми). В этих переживаниях Фрейд распознавал аффекты, которые неким образом «заблокированы» и от которых пациенту необходимо освободиться. Он установил наличие значимой связи между симптомом и аффективным опытом, связи настолько сильной, что сознательные переживания, которые позже становятся бессознательными, являются важными составными частями невротических симптомов. Аффекты оставались бессознательными из-за своего болезненного характера. В результате Фрейд перестал применять гипноз для «преодоления» заблокированных аффектов, а вместо того разработал технику «свободных ассоциаций» для возвращения подавленных процессов в сознание. Тем самым он заложил основы причинно-редуктивного метода, который предполагалось использовать прежде всего для толкования сновидений.
1148 Для объяснения истерии Фрейд выдвинул теорию сексуальной травмы. По его утверждению, травматические переживания столь болезненны в силу того, что в большинстве своем возникают из инстинктивных позывов, обусловленных сексуальной потребностью. Для начала он предположил, что истерия как таковая проистекает из сексуальной травмы в детском возрасте, но позднее подчеркивал этиологическое значение инфантильных сексуальных фантазий, которые оказались несовместимыми с моральными ценностями сознания и потому были вытеснены. Теория вытеснения составляет ядро учения Фрейда. Согласно этой теории, бессознательное, по существу, есть вытеснение, а его содержания суть элементы личной психики, которые были когда-то сознательными, а теперь потеряны для сознания. Таким образом, бессознательное обязано своим существованием моральному конфликту.
1149 Существование этих бессознательных факторов можно наглядно показать, что и сделал Фрейд, при помощи различных ошибок поведения (оговорки, забывание, неправильное прочтение и т. д.), но ярче всего оно проявляет себя в сновидениях, этом важнейшем источнике сведений о бессознательных содержаниях. Особая заслуга Фрейда состоит в том, что он вернул сновидения в область психологии и предпринял попытку нового их истолкования. Он объяснял сны, исходя из теории вытеснения, и утверждал, что они состоят из морально несовместимых элементов, которые, имея способность осознаваться, подавляются бессознательным моральным фактором – «цензором», а потому могут проявляться лишь в виде замаскированного исполнения желаний.
1150 Инстинктивный конфликт, лежащий в основе этого явления, Фрейд первоначально описал как конфликт между принципом удовольствия и принципом реальности, причем последний играет роль тормозящего фактора. Позже он стал говорить о конфликте между сексуальным влечением и инстинктами «Я» (или между влечениями к жизни и к смерти). Получение удовольствия соотносилось с принципом удовольствия, а культуротворческий порыв – с принципом реальности. Культура требовала принесения в жертву удовлетворения инстинктов – как со стороны всего человечества, так и со стороны индивидуума. Сопротивление вело к тайному исполнению желаний, искаженному «цензурой». Опасность этой теории заключалась в том, что выдавала культуру за замену неудовлетворенных природных инстинктов, в итоге сложные психические явления, такие как искусство, философия и религия, попали под «подозрение», как если бы они были «не чем иным», как результатом сексуального вытеснения. Может показаться, что негативное, редукционистское отношение Фрейда к культурным ценностям было обусловлено исторически. Его отношение к мифам и религии определялось научным материализмом девятнадцатого столетия. Поскольку фрейдовская психология интересовалась преимущественно неврозами, патологическая сторона инстинктов занимает непропорционально большое место в теории бессознательного и в трактовке самих неврозов. Бессознательное выглядит своего рода придатком сознания; его содержанием являются вытесненные желания, аффекты и воспоминания, которые своим патогенным значением обязаны инфантильной сексуальности. Важнейшим из вытесненных содержаний выступает так называемый эдипов комплекс, который представляет собой фиксацию инфантильных сексуальных желаний на матери и сопротивление отцу, возникающее из чувств зависти и страха. Этот комплекс составляет ядро невроза.
1151 Вопрос о динамике бессознательных фантазий привел Фрейда к употреблению понятия, чрезвычайно важного для дальнейшего развития глубинной психологии, а именно, к понятию либидо. Сначала Фрейд рассматривал либидо как сексуальное влечение, но позже расширил значение понятия, допустив существование «либидиозных притоков», обусловленных смещением и диссоциативностью либидо. Исследуя фиксации либидо, Фрейд открыл «перенос» – фундаментальное явление в терапии неврозов. Вместо того чтобы вспоминать вытесненные элементы, пациент «переносит» их на аналитика в форме некоторого текущего опыта; то есть он их проецирует и тем самым вовлекает аналитика в свой «семейный роман». Так его болезнь превращается в «невроз переноса» и затем разыгрывается между врачом и пациентом.
1152 Позже Фрейд расширил концепцию бессознательного, которое назвал «Ид», или «Оно», и противопоставил сознательному эго («Я»). (Сам термин ввел в употребление Гроддек.) «Оно» воплощает естественный бессознательный динамизм человека, тогда как «Я» составляет ту часть «Оно», которая видоизменяется под влиянием окружающей среды или заменяется принципом реальности. Уточняя взаимоотношения «Я» и «Оно», Фрейд выяснил, что «Я» содержит не только сознательные, но и бессознательные содержания, и потому ему пришлось как-то описать бессознательную часть «Я»; он назвал ее «Сверх-Я», или «Идеал Я». Он считал «Сверх-Я» олицетворением родительской власти, наследником эдипова комплекса, побуждающим «Я» сдерживать проявления «Оно». Это совесть, которая, будучи облеченной авторитетом коллективной морали, продолжает проявлять отцовский характер. «Сверх-Я» отвечает за деятельность «цензуры» в сновидениях[62].
1153 Альфреда Адлера тоже обыкновенно причисляют к основоположникам глубинной психологии, однако его школа индивидуальной психологии лишь отчасти продолжает исследования, которые начал его учитель Фрейд. Изучая тот же самый эмпирический материал, Адлер стал рассматривать его с совершенно иной точки зрения. Для него основным этиологическим фактором была не сексуальность, а стремление к власти. Ему казалось, что невротическая личность находится в конфликте с обществом, в результате чего спонтанное развитие личности блокируется. При таком взгляде индивидуум никогда не живет исключительно для себя; он поддерживает свое психическое существование только внутри сообщества. В отличие от внимания Фрейда к инстинктивным устремлениям, Адлер подчеркивал значимость факторов окружающей среды как возможных причин невроза. Невротические симптомы и расстройства личности суть результаты болезненно чрезмерной оценки «Я», которое не приспосабливается к действительности, а развивает систему «руководящих фикций» (fiktive leitline). Эта гипотеза тяготеет к финалистической точке зрения, принципиально противоположной причинно-редукционистскому методу Фрейда; она выделяет движение к цели. Каждый человек выбирает для себя некую направляющую в качестве основного образца для упорядочивания психических содержаний. Среди обилия возможных фикций Адлер придавал особое значение завоеванию превосходства и власти над другими, стремлению «быть на высоте» (oben zu sein). Исходным источником этих ошибочных устремлений выступает глубоко укорененное чувство неполноценности, которое требует избыточной компенсации в форме обретения безопасности. Этиологическим фактором часто оказывается первичная, «врожденная» неполноценность – или неполноценность конституции в целом. Воздействие среды в раннем детстве тоже играет роль в создании этого психического механизма, поскольку именно в ту пору закладываются основы развития «руководящих фикций». Фантазия о превосходстве поддерживается за счет тенденциозного искажения всех оценок и придания необоснованной значимости нахождению «наверху», а не «внизу», выпячивания мужского в противоположность женскому и т. д.; эта склонность получает свое наиболее яркое выражение в так называемом мужском протесте[63].
1154 В индивидуальной психологии Адлера основные понятия Фрейда подвергаются переосмыслению. Эдипов комплекс, например, утрачивает свое значение ввиду возрастающего стремления индивидуума к безопасности; болезнь становится невротической «arrangement»[64]для выстраивания жизненного плана. Вытеснение лишается этиологического значения, когда его трактуют как инструмент реализации «руководящих фикций». Даже бессознательное представляется «искусством психики», и потому справедливо задаться вопросом, следует ли включать Адлера в число основоположников глубинной психологии. Сны он тоже рассматривал как искажения, направленные на обеспечение фиктивной безопасности эго и на усиление влечения к власти. Тем не менее, не нужно забывать о заслугах Адлера и его школы в области феноменологии нарушений личности у детей. Необходимо подчеркнуть, что целый класс неврозов действительно можно объяснить прежде всего с точки зрения влечения к власти[65].
1155 Фрейд начинал как невролог, Адлер был его учеником, а вот К. Г. Юнг учился у Эйгена Блейлера и начинал свой путь как психиатр. Прежде чем соприкоснуться с идеями Фрейда, он при лечении сомнамбулизма у пятнадцатилетней девочки (1899) заметил, что в бессознательном заложены зачатки будущего развития личности, принявшие форму расщепления (или «двойной личности»). Через экспериментальные исследования ассоциаций (1903) он установил, что у нормальных людей, как и у невротиков, реакции на слова-стимулы нарушаются по вине отщепленных («вытесненных») эмоциональных комплексов («чувственно окрашенных комплексов идей»), которые проявляются посредством определенных симптомов («указателей»). Эти эксперименты подтвердили существование описанных Фрейдом вытеснений и их характерных последствий. В 1906 году Юнг полемически поддержал открытие Фрейда. Теория комплексов утверждает, что невроз возникает в результате отщепления жизненно важного комплекса. Похожие отщепления могут наблюдаться и при шизофрении. При этом заболевании личность как бы распадается на ряд комплексов, а нормальный эго-комплекс в результате почти исчезает. Разделенные комплексы относительно автономны, неподвластны сознательной воле, их нельзя вернуть в прежнее состояние, пока они остаются бессознательными. Они поддаются персонификации (например, в сновидениях) и по мере возрастания диссоциации и автономии приобретают признаки частичных личностей (отсюда и берется привычный в старину взгляд на неврозы и психозы как на состояния одержимости).
1156 В 1907 году Юнг лично познакомился с Фрейдом и почерпнул от него множество идей, особенно в отношении психологии сновидений и лечения неврозов. Но кое в чем он пришел к выводам, отличным от взглядов Фрейда. Ему казалось, что опыт не объясняет сексуальную теорию неврозов, а уж тем более шизофрению. Понятие бессознательного требовалось расширить, поскольку бессознательное – не просто следствие вытеснения, а творческая часть разума. Еще Юнг придерживался мнения, что бессознательное нельзя объяснять персоналистически, как сугубо личный опыт; оно хотя бы частично является коллективным. Соответственно, он отвергал утверждения, будто бессознательное имеет чисто инстинктивную природу, и не соглашался с теорией сновидений, трактующей последние как мнимые исполнения желаний. Вместо этого он подчеркивал компенсаторную функцию бессознательных процессов и их телеологический характер. Теорию исполнения желаний он заменил представлением о развитии личности и сознания, исходя из предположения, что бессознательное состоит не только из морально несовместимых желаний, но и, в значительной степени, из до сих пор неразвитых, бессознательных частиц личности, которые стремятся к объединению в целостность. У невротика этот процесс самореализации проявляется в конфликте между относительно зрелой стороной личности и той стороной, которую Фрейд справедливо называл инфантильной. Конфликт сначала протекает исключительно в личном пространстве и может быть объяснен персоналистически, как поступают сами пациенты, притом в полном согласии с фрейдовским объяснением. Данная точка зрения сугубо субъективна и эгоистична, она не принимает во внимание коллективные факторы, и вот почему люди страдают душевными болезнями. У шизофреников, напротив, сильно преобладают коллективные содержания бессознательного в виде мифологических мотивов. Фрейд не мог согласиться с такой трактовкой своих взглядов, поэтому они с Юнгом расстались.
1157 Указанные различия во взглядах, еще более усилившиеся ввиду противоречий в объяснениях невроза у Фрейда и Адлера, побудили Юнга более внимательно изучить важный вопрос сознательной установки, от которой зависит компенсаторная функция бессознательного. Уже в ходе ассоциативных экспериментов он выявил признаки типа установки, а в дальнейшем подтвердил свои догадки клиническими наблюдениями. В качестве общей, привычной предрасположенности каждому индивидууму свойственна более или менее выраженная склонность либо к экстраверсии, либо к интроверсии, причем в первом случае интерес направлен на объект, а во втором – на субъект. Эти установки сознания определяют соответствующие способы компенсации со стороны бессознательного: в первом случае налицо возникновение бессознательных требований к субъекту, а во втором – наличие бессознательных связей с объектом. Такие отношения, частично дополняющие, а частично компенсаторные, осложняются одновременным действием дифференцированных и ориентирующих функций сознания, конкретно, мышления, чувства, ощущения и интуиции, которые все необходимы для целостного суждения. Наиболее дифференцированная («высшая») функция дополняется или компенсируется наименее дифференцированной («низшей») функцией, причем сначала именно в форме конфликта.
1158 Последующее изучение коллективного материала бессознательного у шизофреников, а также сновидений невротиков и нормальных людей, выявило типичные фигуры или мотивы, которые имеют свои аналоги в мифе и потому могут быть названы архетипами. Их не следует рассматривать как унаследованные идеи; скорее, они во многом сродни «модели поведения» в биологии. Архетип представляет собой способ психического поведения. По сути, это «непредставимый» фактор, который бессознательно располагает психические элементы так, что те составляют типичные конфигурации, подобно тому, как кристаллическая решетка располагает молекулы в насыщенном растворе. Конкретные ассоциации и образы воспоминаний в этих конфигурациях бесконечно варьируются от человека к человеку, но основной узор остается прежним. Одной из наиболее ярких архетипических фигур является анима, олицетворение бессознательного в женской форме. Этот архетип свойственен мужской психологии, поскольку бессознательное мужчины по своей природе женственно – возможно, благодаря тому, что пол определяется просто-напросто преобладанием мужских генов, а женские гены оттесняются на задний план. Соответствующую роль у женщин играет анимус. Фигура, общая для обоих полов, – тень, олицетворение низшей стороны личности. Эти три фигуры очень часто появляются в снах и фантазиях нормальных людей, невротиков и шизофреников. Реже встречается архетип мудрого старца и матери-земли. Также имеется ряд функциональных и ситуативных мотивов, скажем, восхождение и спуск, переправа (через брод или пролив), напряжение и ослабление притяжения противоположностей, мир тьмы, прорыв (или вторжение), добывание огня, дружелюбные или опасные животные и т. д. Наиболее важным из всех является условный центральный архетип, или самость, которую, по-видимому, мы вправе считать средоточием бессознательной психики (а эго – средоточие сознания). Символика, связанная с этим архетипом, выражается, с одной стороны, в круговых, сферических и четвертичных формах, в «квадратуре круга» и в символике мандалы; с другой стороны, в образах сверхличности (Бог и символика Антропоса[66]).
1159 Эти эмпирические данные показывают, что бессознательное состоит из двух слоев: поверхностного слоя, выражающего личное бессознательное, и более глубокого слоя, представляющего коллективное бессознательное. Первое обнимает личные содержания, то, что было забыто и вытеснено, стало подсознательным или «экстрасенсорным» восприятием[67], предвосхищением будущего развития, а также прочие психические процессы, никогда не достигающие порога осознания. Невроз возникает из конфликта сознания и личного бессознательного, тогда как психоз имеет более глубокие корни и представляет собой выход из конфликта с участием коллективного бессознательного. Подавляющее большинство сновидений содержит преимущественно личный материал, а их действующими лицами являются эго и тень. Обычно материал сновидения служит лишь для компенсации сознательной установки. Однако встречаются сравнительно редкие сны («большие» сны первобытных людей), в которых присутствуют отчетливо узнаваемые мифологические мотивы. Сновидения такого рода имеют особое значение для развития личности. Их психотерапевтическая ценность была признана еще в древности.



