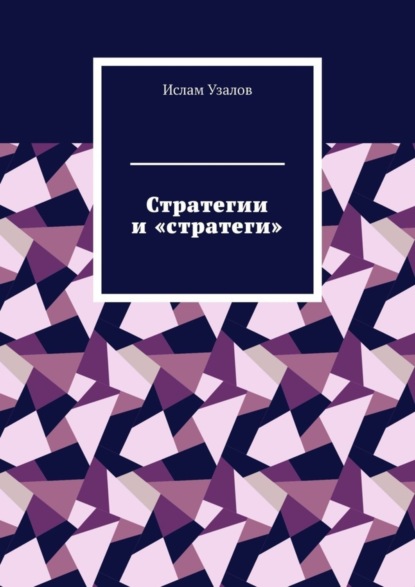
Полная версия:
Стратегии и «стратеги»
Попробую предположить: А может Минэкономики этим заданием предлагает стратегам самим прикинуть и представить на рассмотрение некие ориентиры?
Ведь цель то можно поставить и о-го-го какую! И удвоить, и утроить…
А вдруг окажется, что стратегия, которая «должна способствовать…», напротив – никак не видит возможности достижения установленного свыше или наоборот, окажется, что планку можно поднять ещё выше?
Зачем же жёстко привязывать к заранее заданному результату?
Цели и стратегия – категории взаимозависимые.
Их успешная разработка возможна только в творческом процессе постоянного общения и корректировки взглядов заказчика и исполнителя.
Для начала же заказчик может просто сказать: Ребята, нарисуйте, как нам обустраивать Дагестан в ближайшие десять лет, чтобы получить максимум возможного по части социально-экономического развития.
Впрочем, судя по интервью в Дагправде теперь уже одного из разработчиков стратегии (Цапиева О.), проблем с доктриной она не видит.
Ну и правильно.
Правда, из её слов, невольно приходишь к выводу, что действующая сейчас программа развития (до 2010 года) уж точно никуда не годится, поскольку разрабатывалась, всё-таки, не имея стратегии.
Интересная тенденция. Каждый последующий считает своим долгом нивелировать труды предшественников.
Было бы любопытно выслушать заодно и разработчиков программы развития.
Лично мне невыполнимость действующей программы (2010) была очевидна ещё до её принятия, но вовсе не из-за отсутствия целей, стратегии или предполагаемых отставок исполнителей.
Просто, она стоила 120 миллиардов рублей (ежегодные инвестиции, соизмеримые с бюджетом республики!), а реальность привлечения даже трети выглядела эфемерной.
Вот и всё. «Утром деньги – вечером стулья».
Естественно, возникает вопрос: – А что же видели заказчики и разработчики?
Могу лишь предположить, что власть настолько жаждала инвестиций, что разработчики не решались её разочаровать, ну и нарисовали соответствующую писульку.
Возможно, ещё кто-то кому-то пообещал что-то инвестировать и, на радостях, обещания были восприняты, как гарантийные письма.
Не могу исключить и того, что исполнители были теоретиками, с лёгкостью необыкновенной распоряжавшимися на бумаге чужими деньгами, не представляя реальности. – Схемы, диаграммы, графики роста… Блеск!
Инвесторы будут в восторге.
Тогда, действительно, некомпетентность налицо.
Судя по тому, что советники видят главные причины неудач прежних программ совсем не в равнодушии к ним инвесторов (один лишь господин Дохолян в конце, как-то вскользь, ссылается и на это обстоятельство), то и новая, не исключено, может превратиться в очередной воздушный замок миллиардов на триста. Тоже воздушных.
Впрочем, профессор Цапиева, знает места, где деньги лежат.
Это фонды (пенсионный, медстрах, соцстрах).
Однако, боюсь, что получить их будет невозможно.
Во первых, наши отделения от этих фондов дотационны.
Во вторых, вопросы инвестирования являются компетенцией не местных отделений, а центральных аппаратов.
Ну, и самое главное – такие фонды, как и их коллеги во всём мире, боятся рисков значительно больше любых других инвесторов.
А рисков у нас более чем достаточно и гарантий почти никаких.
Вопроса «где деньги, Зин?» и почему они, с моей точки зрения, не желают вкладываться в программу, я коснусь позже, сейчас же, возвращаясь к началу, хочу заметить, что взгляды М. Чернышёва на место и роль Экономсовета, грозят появлением органа не просто утяжеляющего структуру управления, а расщепляющего её, нарушая один из основополагающих принципов – единовластие.
Речь идёт о той самой вертикали, без которой исполнительная власть не может нормально функционировать.
(Другое дело, когда под одну вертикаль выстраивают все ветви власти. Но это уже совсем другая тема.)
Кардинальное ослабление роли правительства, вызванное этим, не может не привести к столь же кардинальному снижению его дееспособности.
Что такое правительство, которое не отвечает за разработку и внедрение экономической стратегии и мимо которого все стучатся в соседнюю дверь?
Это правительство без авторитета, которое, к тому же, в случае неудачи не может отвечать за то, к чему не имело отношение.
Лично для меня безусловно, что главным экономическим стратегом должно быть правительство и никто более.
Если же оно действительно погрязло в текучке, то это, прежде всего, признак его некомпетентности и основание для роспуска и формирования нового, а может и пересмотра структуры, но никак не повод для создания ещё и параллельного правительства больших дел.
При правильной организации управления, предполагающей грамотное делегирование полномочий и жёсткую ответственность на каждом уровне, проблемы неработающих унитазов должны решаться жилконторой, не добираясь даже до муниципалитета.
Премьер же и его министры как раз и обязаны заниматься проблемами стратегии и, естественно, тактики.
Именно при правительстве следует создавать экспертные и рабочие группы.
А как же Экономический совет?
Да очень просто:
С одной стороны, это форум, где могут проходить обкатку какие-то идеи президента и самих членов совета с последующей переадресовкой в правительство для более детального изучения и перевода на язык практических документов.
А с другой, когда правительство (само или с подачи президента и его совета) проработает что-либо стратегическое и представит на утверждение президенту, то это опять-таки «пища» для Экономсовета.
Окончательное слово, естественно, за президентом.
Ну, а правительство после этого должно исполнять и нести ответственность.
Такая же схема выстраивается и в отношении законотворческой деятельности парламента.
Всё просто, как таблица умножения – Экономсовет это действительно советник президента и в этом качестве во многом должен быть оппонентом правительства (парламента) при обсуждении программ. Ничего более.
И ещё: В таком совете, как мне представляется, не могут состоять ни депутаты, ни члены правительства, поскольку именно органам, которые они представляют, предстоит ему оппонировать, и сидеть они должны по разные стороны.
«Коллапс» экономики
«Экономика Дагестана находится в системном кризисе… Что есть кризис? Это некое опасное состояние. А что такое системный кризис?…». Понятно дело – нечто совсем ужасное (это я уже от себя).
Вот такое вот мнение заместителя председателя экономического совета при президенте РД Михаила Чернышёва. Нужно сказать, что господин Чернышёв вовсе не одинок в своей оценке. Я упомянул о нём только потому, что его имя в последнее время чаще всего на слуху. Мнение же это, с той либо иной степенью апокалипсичности, культивируется в Дагестане практически всеми.
А разве оно не верно?
Заводы-фабрики стоят, безработица – массовая, доходы населения ниже плинтуса, выращенного хлеба хватает только на месяц, живём на содержании Москвы. «Великая депрессия».
Отталкиваясь от неё, выстраиваются и программы «что делать».
Нужны заводы, заводы и ещё раз заводы…, высокие технологии, непременно высокие…, продовольственная безопасность…, туризм, непременно, туризм…
Инвестиции, инвестиции, инвестиции!
Естественно, вооружившись для начала целями, доктринами, концепциями и конечно же, стратегией.
Возразить, вроде, нечем.
Правда, несколько смущает количество иномарок на километр дорог, строительных лесов на гектар поселений и переполненные самолёты в Москву по билетам стоимостью (только в один конец!) в две среднемесячные зарплаты, которые подсчитал родной Дагстат. Десятки тысяч пассажиров в месяц. А вроде должны летать пустыми.
В Махачкале ежедневно сотни тысяч (!) «обнищавших» пассажиров маршруток не считают нужным брать рубль сдачи с десятки, которую вручают водителю.
Что до инвестиций, то кто ж в здравом уме, от них откажется? Даже в самых благополучных экономиках.
Общеизвестно, что наиболее высокая оборачиваемость капитала имеет место в торговле, сфере услуг, лёгкой и пищевой промышленности.
Именно там обеспечивается его быстрое накопление, откуда он, собравшись силами, перетекает в другие отрасли. Этот путь в своё время проделали «азиатские тигры».
Китай, над ширпотребом которого мы продолжаем посмеиваться, завалил им весь мир и, раскрутившись, на этих деньгах, теперь уже нацелился завалить мир электроникой и автомобилями, а заодно начал работать над программой полёта на Луну (!).
Так вот, если посмотреть на экономику Дагестана с такой точки зрения, то окажется, что мы идём по этому же классическому пути и речь должна идти ни много, ни мало, а об экономическом чуде.
До Швейцарии и Швеции нам ещё далеко, но, думаю, по числу и качеству магазинов, ресторанов, АЗС, развлекательных учреждений и прочих объектов торговли и услуг Дагестан в состоянии конкурировать с наиболее развитыми регионами России.
Что касается лёгкой промышленности, то наша «лакская» обувь не только безраздельно занимает свой сегмент в республике, но и совершает экспансию по России.
То же самое можно сказать про мужскую и женскую одежду.
А производство мебели или строительный бум, который тянет за собой длинную цепочку производств стройматериалов и строительных изделий самого разного назначения?
А выпуск алкоголя и безалкогольных напитков, кондитерских изделий, продуктовых полуфабрикатов?
Может у нас перебои с хлебом? Население растёт и ест, как и раньше, трижды в день.
А где теперь «ножки Буша», которых вытеснили «кумыкские» куры?
А основной для республики транспорт – автомобильный? Разве потребности в пассажирских и грузовых перевозках покрывают не дагестанские, а пришлые перевозчики?
Перечень можно продолжать ещё долго.
Всё прекрасно видно невооружённым взглядом и суждения о нынешней экономике Дагестана, якобы, находящейся в системном кризисе, выглядят как- то неубедительно.
Экономика республики, в основе которой средний и малый бизнес переживает бурный рост.
Если кого-то смущает, что дагестанцы не инвестируют сегодня, например, в машиностроение, то это лишь означает, что норма прибыли с таких инвестиций ниже той, что даёт инвестирование в другие отрасли – в те самые торговлю, услуги, лёгкую и пищевую промышленность.
Рыночная экономика, действительно, экономна.
Уже начал подтягиваться гостиничный бизнес и туризм. Не тот убогий, государственный, а относительно приличный частный.
А вообще-то, почему под экономическим развитием должны пониматься только заводы – гиганты и дымящие трубы?
Не следует особо попадать и под гипноз красивого термина «высокие технологии».
На заводы по производству микрочипов или автомобилей технологию привозят из метрополии, а от аборигенов для работы на конвейере достаточно интеллекта обезьяны.
Рядом с ними продавец шаурмы смотрится профессором.
Впрочем, ничего против таких заводов я, в принципе, не имею.
Бьём в фанфары, что у нас где-то там наметились цементный завод, медный рудник, нефтяная вышка…
А нам они нужны?
Мы хорошо взвесили то, что потеряем и что приобретём взамен?
Может кое-кому следует для начала совершить экскурсию на природу в местах традиционного обитания объектов цветной металлургии, а заодно поинтересоваться и здоровьем местных жителей?
Может, лучше зарабатывать на том, что имеем, не копая под экологию?
Нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах, даже при нынешних её ценах, стоит в несколько раз дешевле питьевой воды, которой биржевики утоляют жажду.
Грубая прикидка показывает, что объем воды, выпиваемый (а не потребляемой вообще) населением земли, в 4—5 раз больше мирового объёма добычи нефти – безбрежный рынок.
Это было довольно неожиданно, но тут же вспомнил давний телерепортаж об одном из регионов ФРГ, экономика которого почти полностью основана на воде, разливаемой там и развозимой по всей Европе, обеспечивая «водяным» немцам вполне общенемецкий уровень жизни.
Почему мы с придыханием говорим о строительстве на берегу моря некой «немецкой деревни»?
– К нам приехал, к нам приехал Он – инвестор дорогой!
Разве кто-либо слышал о проблемах с инвестициями, например, в Барвихе?
Разве в Махачкале, если посчитать суммарно свои новострои, итак не идёт ежегодно строительство во много раз масштабнее «деревни»? И всё на деньги местного бизнеса.
Пусть и «немцы ” строят, хотя, если создать такие же условия для местных инвесторов, может, и они создадут пул и тоже что-нибудь такое выстроят.
Невольно возникает вопрос: Если всё так хорошо, то отчего же всё так плохо?
– А что плохо?
Если по вечерам в рестораны и банкетные залы не пробиться, если стоимость сотки земли в центре Махачкалы достигает ста тысяч долларов это вовсе не признаки кризиса.
Речь-то идёт не о двух-трёх ресторанах и чрезвычайно тонком слое лиц, сделавших состояние, присосавшись к бюджету или жируя на взятках – пир во время чумы.
Не следует считать, что тысячи особняков и автомобилей приобретаются только на разворованные бюджетные деньги. Доступ к ним имеют далеко не все, да и пенсию или зарплату, всё-таки платят. Значит, не особо поживишься.
Другое дело, госинвестиции с дутыми сметами, фальшивыми тендерами и откатами.
Но опять таки, доступ к этим источникам имеют далеко не все.
В Дагестане, независимо от бюджета, благодаря собственной предпринимательской активности, сформировался достаточно внушительный слой среднего класса.
По моим довольно осторожным подсчётам, они ежегодно инвестируют порядка 1,0 – 1,5 миллиардов долларов.
Иначе двузначные цифры роста за последние годы были бы невозможны.
Да. Есть, бедняки, с трудом сводящие концы с концами и даже хуже.
Их немало и о них не следует забывать, но не следует рисовать картины поголовной разрухи и нищеты.
Согласитесь, что рецепты, прописанные стратегией развития экономике «великой депрессии» и экономике в состоянии бурного роста, должны быть вовсе не одними и теми же.
Выбор не тех путей из-за ошибки в определении места старта и состояния стартующего, скорее всего, приведёт не туда.
Тезис, что без правильно сформулированной задачи невозможно её решение, актуален не только в математике.
P.S. Экономика действительно находится
даже не в системном кризисе, а в состоянии клинической смерти.
Но не та, что я описал и которую не видит господин Чернышёв, а та, которая состоит из заводов-динозавров советской эпохи, агония которой столько лет продлевалась государством и всевозможных ГУПов и МУПов, присосавшихся к бюджету.
Здесь он, действительно, прав.
«Паразитирующая» торговля
«В Дагестане активно развивается лишь два вида деятельности: торговля и строительство. И в итоге формируется потребительский или даже паразитический образ экономики». Заявление – удивительное потому, что звучит не из уст обывателя, а учёного-экономиста, доктора наук, мало того – секретаря экономсовета при президенте Дагестана С. Дохоляна. Ему вторит коллега М. Чернышёв – заместитель председателя экономсовета, считающий, что «в Дагестане сформировалась структура экономики „паразитического типа“, нацеленная не на производство новой стоимости, а на потребление уже созданной» – то есть, всё та же торговля.
Удивительно не то, что, вопреки мнению этих экономистов, даже обыватель относит строительство к столь любимой всеми сфере материального производства (кляня «торгашей», он, вроде, никогда не упоминает заодно и строителей).
Удивительно то, что торговля воспринимается советниками как нечто паразитическое, не создающее ничего, с которым приходится мириться, как с неизбежностью.
Гони её в дверь, так она влезет в окно.
С этой точкой зрения перекликается и позиция профессора Цапиевой. которая считает, что если бы республика сама производила большую часть потребляемых населением товаров, а не завозила извне, то дотационные деньги, получаемые из Москвы и тратящиеся бюджетниками на закупки, развивая при этом у нас, как она выразилась, сферу услуг, оставались бы в самой республике и работали на развитие её экономики (сфера услуг, включающая, надо понимать и торговлю, это по Цапиевой, вроде, как и не экономика).
А сколько лет внушаются народу эти расхожие «истины»?
Если Экономсовет и стратеги будут «воспитывать» президента на таких взглядах, можно представить, сколь ущербные концепцию и стратегию развития республики можно получить на выходе.
О месте торговли в экономике попозже, а пока о закупках, уводящих деньги из республики:
Вот, хотим мы производить именно у себя, например, всё необходимое молоко.
Для этого, разумеется, нужны коровы.
Их выращивать самим или закупать, уводя из республики деньги?
Коровам нужны корма, для производства которых, в свою очередь, нужны семена, удобрения, сельхозтехника и ещё много чего.
Их тоже у себя производить или закупать на стороне?
Перечень можно продолжать бесконечно.
Здесь невольно вспоминается глава нашего правительства девяностых годов (очень, кстати, толковый мужик), который почему-то проповедовал, что главная беда дагестанского машиностроения в том, что заводы выпускают лишь комплектующие к изделиям, которые собираются за пределами республики, куда и стекается основной доход от продаж конечного продукта.
А я в это время думал: Отчего тогда процветает всемирно известная корпорация BOSCH, специализирующаяся на производстве комплектующих для автомобильной промышленности, не претендуя никогда на производство автомобилей целиком?
Так вот, будь то торговля пирожками, производство молока или микросхем, главным является наличие рабочих мест.
Если они имеются, значит, труд людей востребован, они им заняты и генерируют добавленную стоимость.
Работодатель получает доходы, платит зарплату, налоги…
Что ж теперь, закрывать магазин только потому, что это не сфера материального производства.
Но он же востребован, раз работает.
Раз предприниматель вложил деньги не в коровник, а в магазин, значит, в данное время в данном месте это экономически более эффективно.
Власть в предвкушении налогов должна радоваться, а не делать кислое лицо.
Если большинство дотационных денег уходит из республики, но люди не берут сдачи в маршрутках и наблюдаются двузначные цифры роста экономики, значит, помимо дотаций имеются ещё иные более мощные источники поступлений денег в республику. Иначе не сложится баланс, поскольку права собственной денежной эмиссии Дагестан, как известно не имеет.
Есть такое микро государство – Монако, где нет никакого материального производства и практически всё завозное. Однако, торговля и услуги стабильно обеспечивают ей уровень жизни, о котором мы только можем мечтать.
Неправильное, получается, государство.
«Советский» комплекс осаждённой крепости может породить далеко не оптимальную стратегию развития республики, поскольку принцип рыночной экономики заключается в максимизации стоимости бизнеса, а не уровня самообеспечения региона.
Здесь же невозможно не затронуть и тему продовольственной или какой иной безопасности:
Какая безопасность в условиях глобализации?
Боязнь, что нам что-то вдруг перестанут поставлять?
Это такая же глупость, как и боязнь (во всяком случае, декларируемая) Запада, что Россия может прикрыть нефтяной или газовый вентиль.
А разве Россия не должна бояться, что вдруг Запад перестанет покупать у неё энергоносители?
Проще говоря, главное – иметь то, что пользуется спросом и приносит доход, в том числе, в бюджет.
Будут деньги, всё остальное не проблема – поставщики выстроятся в очередь.
Эти примеры приведены мною вовсе не с целью отрицания целесообразности организации производства молока или компьютеров, а чтобы показать, что отрицательное отношение к торговле это нонсенс.
Вот к ней более конкретно и перейдём, начав с той самой добавленной стоимости, которую она, якобы, не создаёт.
В создании добавленной стоимости точка ставится вовсе не в стенах производителя продукта, а только при попадании его к конечному потребителю, поскольку продукт создаётся не для того, чтобы хранить его на складе.
Продукт, для которого невозможна «встреча» с покупателем, не имеет никакой стоимости, как бы дорого не обошлось его производство, ибо стоимость это мера, определяющая степень его полезности для покупателя.
В зависимости от того, как и куда осуществляется поставка (опт, розница, франко-порт отправления, франко-порт назначения…), существует масса видов стоимости, в которых отражаются издержки не только производственные, но и логистические, и торговые, связанные с этим.
В мире, если взять величину стоимости товаров массового потребления у конечного потребителя, то на производство в ней приходится порядка 40—50%, на логистику где-то 10% и торговлю порядка 50%.
Соответствующие соотношения между производством и торговлей складываются и с величиной добавленной стоимости.
Соотношения эти формируются не по приказу свыше и не из-за хитроумия торговцев, а благодаря чувствительности рынка, реагирующего на издержки в каждом звене цепочки от производства товара до доведения его к конечному потребителю. Причём, все её звенья равнозначны.
Отношение к торговле как к системе, паразитирующей на покупателях, это отрыжка времён социалистического производства и тотального дефицита.
Зайдите в любой книжный магазин.
В разделе экономической литературы вы, в первую очередь, обнаружите массу книг о том, как правильно вести продажи, а не производство.
А почему?
Да потому, что в условиях рынка, прежде чем начать производство чего-либо, необходимо решить очень непростую задачу – как будет реализоваться произведённое.
Это азбука маркетинга.
Торговля есть равноправный участник в неразрывной цепочке создания добавленной стоимости, требующий не меньше технологий и квалификации персонала, чем сам производитель и от обязанности платить вполне реальный налог на эту стоимость её ещё никто не освобождал.
Здесь же будет, наверное, уместно коснуться ещё одного вопроса:
Когда некоторые журналисты негодуют о так называемых перекупщиках, которые не подпускают до прилавка производителей, то они, наверное, не подозревают, что демонстрируют этим собственное невежество.
Разве недостаточно простого здравого смысла, чтобы понять, если фермер будет стоять у прилавка, у него не будет времени заниматься фермой?
Вздумай же он создать собственную товаропроводящую сеть (склады, транспорт, торговые точки), то создание и содержание её потребует немалых средств, для чего придётся поднять цену на продукт и, в конечном итоге, она окажется той же, что сложилась на рынке у так называемых перекупщиков.
Если всё то же молоко на ферме стоит, например, десять рублей, а на рынке – двадцать пять, это вовсе не значит, что фермер, явись он на этот рынок самолично, будет торговать им за десять.
Проводимые ежегодно в Махачкале осенние сельскохозяйственные ярмарки, куда приезжают сами производители, яркое тому свидетельство.
Цены на них обычно лишь на 15—20% ниже рыночных и, самое главное, эта акция длится только один день.
Более длительный срок производители просто не могут себе позволить.
А кушать, как известно, хочется всегда.
И ещё, стоимость того же молока на рынке формируется не количеством перекупщиков, стоящих между фермером и покупателем, как считают обыватели и журналисты – популисты, а количеством самого молока на прилавках и покупательной способностью населения.
Если молока меньше, чем способных и желающих приобрести его, то цена автоматически поднимается, отсекая этим покупателей с меньшей покупательной способностью, ну и наоборот.
Именно поэтому рыночная экономика не знает, что такое дефицит.
Безусловно, на ценообразование влияет множество факторов, но в, конечном итоге, цена это всегда производная от количества денег в кармане и товара на прилавке.
Полагаю, что для экономистов ничего нового этим я не сообщил.
С древнейших времён города возникали только на торговых путях.
Когда путь почему-либо исчезал, вместе с ним исчезал и город или, в лучшем случае, приходил в упадок.
Свежий пример – унылое прозябание Буйнакска после строительства объездной дороги от Леваши к Махачкале, когда основные транспортные потоки пошли мимо.
Звание третьей столицы Нижний Новгород в своё время получил благодаря знаменитой ярмарке, давшей мощный импульс развитию города.
Основой нынешнего процветания Москвы являются торговля, услуги и строительство, а не давно скончавшиеся гиганты типа ЗИЛ и АЗЛК.



