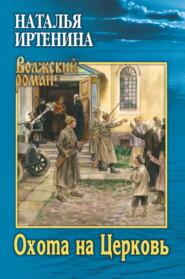
Полная версия:
Охота на Церковь
– Тяжело жил, Вася, скрывать не буду, – вздохнул отец Алексей. – Господь, однако, облегчает бремена неудобоносимые. Слава Богу, дети все выжили, ходят в школу…
Василий покачал пальцем перед лицом брата.
– Из холмогорского лагеря смерти не твой Бог тебя вытащил, а я. Иначе гнили бы сейчас твои кости в яме на безымянном острове в куче других белогвардейских костей.
Отец Алексей хотел было возразить, да передумал. Коротко, излишне сухо, будто не с родным братом говорил, а со следователем райотдела НКВД, изложил все, что пережила семья за пятнадцать лет.
После холмогорского концлагеря бывший преподаватель гимназии Алексей Владимирович Аристархов еще пытался найти место учителя, но советской единой трудовой школе не нужны был ни словесники, ни помеченные ярлыком «белогвардейского прихлебателя». Через три года он принял сан и приход в селе под Нижним Новгородом. Обустроили дом, завели огород и скотину. Ненадолго. С началом колхозной эпопеи их раскулачили: просто-напросто выселили из дома с тремя детьми в двадцать четыре часа. Старшего сына выгнали из школы. Приют нашли в соседней деревне у полуглухой старухи, которая знать не знала, что сельсовет и милиция запретили давать кров поповскому семейству. Через полгода отца Алексея арестовали, вменили антисоветскую агитацию и подрыв колхозного строительства. Три года лагеря в пермских лесах: от пеллагры и цинги, косивших заключенных, спасся чудом. Семья голодала – лишенцам не полагалось даже хлебных карточек. Кое-как прокормиться можно было только в городе, и Дарья с детьми уехала в Муром – здесь жили в ссылке знакомые. Устроилась на фанерный завод, стала трудящейся, получила продуктовые карточки. Одиннадцатилетний Миша снова начал учиться в школе. Ютились в съемном углу в пригородной слободе, спали на полу, подстелив тряпье. Весной, едва сходил снег, искали на колхозных полях невыбранную перезимовавшую картошку. Она была черная, гнилая, и лепешки из нее получались такие же черные. Мать посылала детей в лес собирать липовые почки и березовые сережки, растирала их и добавляла в муку, пекла хлеб. На прокорм шла любая съедобная трава, корни лопуха. Летом радость: ягоды, грибы. Младшие, дочь и сын, бегали в лаптях, деньги на ботинки были только для Миши. В тридцать четвертом году отец Алексей освободился, приехал в Муром и перевез семью в железнодорожный поселок при станции, который местные называют Казанкой: церковное начальство дало ему приход. Но два года спустя городские власти храм закрыли, здание приспособили под заводские нужды. Отца Алексея позвали служить в Карабаново, в небольшую церковь при кладбище, одну из двух в селе. Другая, большая, давно стала клубом, а в кладбищенской как раз освободилось место священника. Предыдущий настоятель сделался расстригой, объявил через городскую газету, что религия и Бог – обман и сам он всю жизнь дурманил трудящихся.
– Тебе, Лешка, тоже надо снять с себя рясу к чертям, – сказал Василий. – Иначе пропадешь.
– Вы правда в нашем райкоме работаете, дядь Вась?
Из-за стеганой занавеси вышагнул старший сын отца Алексея. Он был в трусах и фуфайке, с босыми ногами. Впервые в жизни видевший своего дядьку, пятнадцатилетний Миша рассматривал родственника с затаенным чувством, будто ждал от него чего-нибудь внезапного, необычного.
– Михаил, иди спать! – велел отец. – Завтра поговорим об этом.
Парень недовольно развернулся и исчез за занавесью.
– Недолюбливает тебя сынок-то? – усмехнулся Василий, нетрезвым глазом разглядевший в подростке нечто, что заставило его на мгновенье повеселеть. Покончив с флягой, он извлек из потайных недр пальто бутылку водки. – Не по поповской он у тебя части.
– Да, Миша у нас заправский радиолюбитель. – Отец Алексей сделал вид, будто не понял, о чем говорит брат. – Сейчас собирает из деталей приемник, бредит короткими волнами. Здешние комсомольцы попросили его помочь обустроить радиоточку в клубе. У них монтер из города запил, а радиотарелку хотят к Первомаю. Может быть, дадут ему рекомендацию в кружок Осовиа… Никак не научусь выговаривать эту абракадабру.
– Осоавиахима, – подсказал брат, осушив стакан.
– Точно. Этот Авиахим руководит движением радиолюбителей, но Михаила как сына церковника туда не берут. Он в прошлом году кончил семилетку, и в восьмой класс его не взяли – родители лишенцы. Только зимой приняли в городскую школу, когда новая Конституция отменила лишенческий статус. И то лишь потому, что он на отлично сдал экстерном все предметы за полгода. Знаешь, Вася, мне кажется, это положение парии в обществе сломало что-то в моем мальчике… – с горечью поделился священник. – Он очень скрытен, никогда не говорит со мной по душам, как сын с отцом.
– А чего ты хотел. Испортил парню жизнь. – Василий заугрюмел – то ли от выпитого, то ли от услышанного. – Да и я-то вряд ли сумею ему помочь. Родней тебя и его не призна́ю. Сам не ищи меня в городе и его не пускай. Береженого Бог бережет. Не дадут мне тут долго просидеть. Скоро всем нам достанется: сестрам по серьгам, братьям на орехи… Да нет, Вадька наш, академик, вывернется, он скользкий. Отречется и от тебя, и от меня. А я-то ему взлететь помог при советской власти, он теперь шишка в искусстве. Галиматья его теософская не очень-то способствовала. Ты, Леша, за деньгами к нему не обращайся, не даст. Квартира вся в антиквариате, но жаден как Кощей.
Отец Алексей смолчал. Средний из братьев Аристарховых жил в Москве. Добраться до него было непросто, и все-таки священнику удалось побывать в гостях у Вадима, когда-то известной в оккультных кругах личности, а ныне правоверного партийца. Рассказывать об этом он не хотел – слишком печально.
– Вот ты уже и Бога поминаешь, Вася. – Он попытался направить разговор в иное русло. – Может, и тебе пригодится скоро Бог?
– Сказать тебе, чем я занимаюсь в кресле второго секретаря? – Василий вскинул поникшую было тяжелую голову. – Составляю справки, они ж доносы, на исключенных из партии для обкома и начальника райотдела НКВД. Прямо говоря, выписываю им приговоры. В начале месяца было расширенное заседание бюро райкома с парторгами и членами партактивов района. Зачитывали закрытое письмо из ЦК с решениями Пленума о чистке партии, повышении партийной бдительности и разоблачении врагов. Теперь все эти парторги и члены партактивов будут соревноваться в доносах на своих же, на коммунистов. Вот такое паскудство, Леша. Вся советская власть теперь существует на доносах и взятках. Честному человеку в ней уже нет места.
– Ты разочаровался в коммунизме?
Отец Алексей был не просто удивлен. Откровения брата предъявили ему некую иную реальность, существующую параллельно, а может быть, перпендикулярно той советской власти, с которой сталкивался в жизни он сам и круг его знакомых. Нет, разумеется, он слышал о московских судебных процессах над приверженцами троцкистской партийной оппозиции. И как все нормальные люди, не понимал, каким образом эти бывшие соратники Ленина превратились в немыслимых чудовищ, коими их выставляли собственные признания и обвинение во главе с генеральным прокурором Вышинским. Но он и предположить не мог, что подобных чудовищ, разве что более мелкого масштаба, плодит в кабинетах за семью замками сама Коммунистическая партия СССР в лице своих рядовых тружеников.
– Я разочаровался в людях, которые должны строить коммунизм, – бессильно пробормотал Василий. – Идеи коммунизма чисты и прекрасны. Они слишком чисты и высоки для этих крыс, которыми теперь набиты обкомы, горкомы и прочие комы. Это те же мещане во дворянстве, которые при царях давились за подачку, копили денежки на свой домик, набивали карманы взятками и на трудового человека смотрели как на отброс. Они по скудости умишка никогда не постигнут великой идеи самоотречения во имя народа. Им подавай филе, икру, коньяк и папиросы «Герцеговина Флор». А иначе зачем жилы рвать, промышленность в стране поднимать и колхозы строить?..
– А зачем колхозы строить? – спросил отец Алексей. – Коммунизм для человека или человек для коммунизма? Наши правители выбрали, несомненно, второй вариант. Ведь вы, Вася, губите русского мужика, крестьянина, делая из него наемного сельского пролетария, у которого ничего своего нет. Вы проповедуете материализм, а между тем принуждаете народ к вредному, по вашим же словам, идеализму, когда масло и мясо, а также штаны и башмаки ему даются исключительно в великих идеях, а не в вещественном виде.
– Молчи, Лешка, про то, в чем не смыслишь. Ты вот про Бога затянул… Тоже считаешь его великой идеей…
– Бог не идея. Он реальность…
– Не цепляйся к словам. Ты считаешь Бога великой идеей. Только вам, попам, в точности так же не с кем строить ваше Божье царство. Строители-то – такая же гниль, как в обкомах и райкомах, черт их дери… Подл человек, Алешка. Грязен и срамотен. А советский партиец и того подлее, запомни. – Василий вдруг тихо засмеялся. – Но я знаю, как уйти от этих крыс. Я, братка, запасливый, и склянка с отравой всегда при мне.
– Не надо, Вася, – содрогнувшись, попросил священник.
Старший Аристархов только рукой на него махнул.
Далеко за полночь они вышли во двор дома. Покачиваясь, Василий отыскал у забора свой велосипед. Отец Алексей уговаривал его остаться до утра, проспаться – не то кувыркнется где-нибудь в яму или попадется промышляющим на дороге молодчикам с финками и обрезами.
– У самого ствол найдется.
– Ты пьян, Вася. Даже достать не успеешь.
– Я пьян?! Ты, Лешка, не видал пьяного партийца. Мне уже не по чину так закладывать…
Отец Алексей еще долго всматривался в темноту вдоль сельской улицы, пока вихляющий силуэт на колесах не слился окончательно с ночной мглой. «Ну вот и повидались», – сказал он себе, твердо зная откуда-то, что больше с братьями никогда не встретится. Советская жизнь развела их далеко… а смерть разведет еще дальше.
4– Буржуйски живешь, Брыкин!
Юрка Фомичев сбился со счета и вернулся в прихожую, чтобы заново исчислить количество комнат в квартире. Впервые в своей шестнадцатилетней жизни, прошедшей под сенью политических разговоров о счастье и бедах народа, под девизом революционного аскетизма, приверженцем которого был Юркин отец, Фомичев ощутил неприятный и болезненный укол зависти. Жилплощадь партийного инструктора Муромского райкома Брыкина-старшего состояла из четырех комнат с хорошей мебелью, кухни и отдельной туалетной комнаты.
– При коммунизме так будут жить все, – убежденно ответил Генка. – По-спартански, но с жизненным комфортом.
– По-спартански, – фыркнул Фомичев и проворчал: – Когда еще у нас дождешься коммунизма.
Он заглянул в столовую и ошалел от вида накрытого стола. На белоснежной скатерти источали аромат двух сортов колбасы блюда с бутербродами, красиво уложенными горкой. Румянились корочкой пироги – круглые гладкие, длинные с гребешками, с верхом-корзиночкой, из которой выглядывала начинка. Ваза была полна шоколадных конфет в бумажках с картинкой. Между тарелками стояли бутылки портвейна номер четыре и кувшин с вишневым компотом.
– Пока в Кремле сидит усатая Вошь народов, не дождешься, – согласился Брыкин. – Коммунизм в мире возможен единственного рода – тот, за который борется Лев Давыдович.
– Коммунизм в отдельно взятой квартире уже построен! – объявил Фомичев, подцепив пирог с завитушкой. – Это твоя мать напекла?
– Да ты что, мать такое не умеет. Она сейчас в санатории в Абхазии. Это Аглаша, прислуга.
– А нас сегодня уплотнили. – Юрка затолкал половину бутерброда в рот и потянулся за пирогом. – На паровозоремонтный набрали деревенских, распихивают по домам в поселке. К нам тоже квартиранта вписали. Теперь с матерью в одной комнате на девяти метрах будем жить.
– Отец пишет? – спросил Брыкин.
– В тайге почтовым разносчиком устроился, – с кислой усмешкой сказал Юрка. – Пишет, что дали семь лет ссылки. Сообщает, что встретил там двух знакомых, тоже ссыльных эсеров. Революция была двадцать лет назад, а тех, кто боролся за народ, до сих пор, как при царе, ссылают в Сибирь и гонят на каторгу.
– Твоего, по крайней мере, не расстреляли, – раздался голос Толика Черных, который сидел в углу за столом-бюро и писал в тетрадку.
– Спасибо за это дорогому товарищу Сталину! – возгласил Брыкин, кривляясь. – За то, что не всех врагов народа записывают в троцкисты, а только избранных. Толька, твой отец был настоящий троцкист или липовый?
– Мой отец был инженер, – отозвался Черных, не отрываясь от тетрадки.
Фомичев заглянул ему через плечо. Аккуратным косым почерком Толя заполнял страницу рукописного журнала «Карась и щука». Журнал существовал пока что в единственном экземпляре и был информационным рупором подпольной группы, которая еще не имела названия, но уже разрабатывала стратегические планы. Заполнять журнал материалом по мере его созревания мог любой участник группы. На первой странице рупора крупно были выведены слова: «Прочитай и подумай о своей жизни: за то ли боролись наши отцы-революционеры?»
Синими чернилами Толик старательно переписывал с куска оберточной бумаги карандашный набросок: «Рабочие были и остались рабами, черной костью. Белая кость – партийцы-большевики, которые заняли место прежних дворян-угнетателей. К рабочим эти новые хозяева, господа-большевики относятся как к собакам. Народные массы для них навоз, которым удобряется история…»
– Ленька обещал раздобыть для журнала едкие стишки на смерть Кирова, – сообщил Фомичев.
– Ладно, – сказал Черных. – Тут еще останется место.
В квартиру ворвались трели звонка, Брыкин пошел открывать. На пороге стояли девушки: Муся Заборовская с задорно торчащими у румяных щек локонами прически каре и незнакомка с красиво подколотыми на затылке длинными волосами.
– Девчонки! – расплылся Генка в улыбке.
– Это Женя Шмит, моя подруга, – представила Муся незнакомку, которая отдала свое пальто Брыкину, ставшему невозможно галантным.
Удивленно озираясь, девушки прошли в столовую.
– Ого! – Муся оценивающим взором окинула стол с яствами и, напустив на себя равнодушный вид, направилась к трюмо с зеркалом. Поправила прическу и складки темно-зеленой блузки на груди, скользнула пальцем по значку «Ворошиловский стрелок», стирая с него невидимые пылинки. Комсомольский значок рядом с ним оставила без внимания. – А где Игорь? И Звягин опаздывает. Девушкам положено, а мальчики могли бы быть и повежливее, не заставлять себя ждать.
– Не бузи, Муська, – рассмеялся Фомичев. – Комсомолкам опаздывать тоже не положено.
– Вот он, твой Игорь, – объявил Генка, убегая в прихожую после очередного звонка.
– Вот еще, почему это он мой, – пожала плечами Муся.
Минуту спустя столовая взорвалась бурным оживлением. Игорь Бороздин, как всегда, серьезный, неулыбчивый, собранный, гладко причесанный, сын председателя Муромского райисполкома, принес под глазом свекольного цвета наплыв. Его окружили и забросали вопросами. Брыкин хохотал, Муся смотрела обиженно.
– С отцом поговорил, – объяснил Игорь, считавшийся руководителем группы.
– Сказал ему, что Сталин дурак и сволочь? – смеялся Генка.
Игорь нашел глазами Мусю и, адресуясь к ней одной, стал рассказывать:
– Я говорю ему: вы, большевики, все время твердите, что уже построили социализм в стране и идете к коммунизму. Вы ждете революций по всему миру, помогаете деньгами десяткам компартий в разных странах. Вам нужны деньги, много денег, миллионы. И вам нужно продовольствие, чтобы кормить всех. Своих товарищей вам нужно кормить досыта и с добавкой. Почему же вы так изуверски относитесь к русскому мужику, который дает вам это продовольствие? Морите его голодом и нищетой, ликвидируете самых работящих.
– Что он тебе ответил?
– Он сказал: потому что крестьяне – это мелкие феодальчики. Они копируют своих прежних хозяев-помещиков и обделяют городской рабочий класс, если дать им волю. Вот почему этих хозяйчиков нужно давить и уничтожать, как клопов-кровососов. Не только кулаков, но и подкулачников. Чтобы и у деревенских бедняков не было ни единой возможности выбиться когда-нибудь в богатеи. Вот что мне сказал мой отец.
– По крайней мере, честно. Его слово не расходится с делом.
– Твой отец из рабочих? – спросила Женя.
– Был крестьянином, еще до войны ушел работать на фабрику. Я так и говорю ему: ты же сам из деревни, ты был в партии эсеров, которая за крестьян. Зачем ты продал себя большевистским бандитам, которые грабят и уничтожают мужиков? Ты сидишь в своем председательском кресле как старая шлюха, у которой теперь свой бордель со штатом размалеванных кокоток.
– Фу. – Муся сморщила нос. – Грубо.
– Может быть. Я не девушка, чтобы думать в такой момент о вежливости и приличиях. Но замечу: сорвался он не на шлюхе, а на партии эсеров. Он был эсером недолго и скрывает этот факт биографии. Иначе его вычистят из сталинской партии, а без нее он никто. Так и говорит все время: «Без партии я никто». Он нервничает из-за чисток, которые сейчас идут во всех партийных комитетах. Мой отец трус и приспособленец, – с презрением окончил рассказ Бороздин.
– Точно, у них сейчас жаркая пора критики и самокритики, – подхватил Брыкин. – Мой приходит домой только ночевать. Ездит по собраниям, усиливает бдительность, учит разоблачать и исключает из партии. Потом исключенных объявляют почем зря троцкистами и расстреливают. Сейчас любое партсобрание – как церковная исповедальня с кающимися блудницами.
– Где же Ленька? Жрать хочется, а тут изволь ждать, – недовольно высказался Фомичев, лучший друг и одноклассник Звягина, его напарник по хулиганским вылазкам, всяческим бузотеркам.
– Давайте выпьем, есть тост, камрады. – Генка разлил по стаканам портвейн и, подняв свой, вдруг заговорил самым известным в стране голосом с грузинским акцентом: – Выпьем, товарищи, не за старые методы, не методы дискуссий, а за новые методы, методы выкорчевывания и разгрома!
– К чертям грузина и его методы, – хмуро возразил Юрка, допивая.
Решили не ждать больше Звягина, расселись за столом. Брыкин принес из кухни большую кастрюлю с теплыми еще сосисками. Игорь присматривался к Жене, сидевшей напротив. Та отвечала ему спокойным взглядом человека, сознающего свое старшинство по возрасту и жизненному опыту.
– Я тебя помню, ты училась в классе на год старше, – сказал он. – Ты работаешь?
– Санитаркой в тубдиспансере. Хочу выучиться на врача.
– Комсомолка?
– Нет.
– С билетом проще поступить в институт, – встряла Муся. – Без него тебе кое-какие дороги закрыты.
– Мне не нужны эти дороги. У меня своя.
– Жить, товарищи, стало лучше, жить стало веселей, – актерствовал Брыкин, изображая генерального секретаря партии. – Кому стало? Сталину, наверное, весело, что тысячи дураков кричат и пишут в газетах про великого Сталина. По радио одни хвалебные речи про Вождя народов и прочих вождишек. Все достижения Льва Давыдовича приписали Сталину. Меня тошнит от этого! Даже в букваре написали «дорогой товарищ Сталин» и учат по нему читать.
– Что думаешь о будущей войне с Германией? – спросил Бороздин, обращаясь к Жене.
– Война будет, – коротко ответила та.
– Кто победит?
– Не знаю. А ты можешь ответить на этот вопрос?
– Могу. Победят Германия и Япония. Коммунисты проиграют фашистам сначала в Испании, потом их режим рухнет и в Советском Союзе. Тогда нам понадобятся новые люди, которые вычистят большевиков и установят подлинно народную власть.
– Такими людьми будете вы? Ты думаешь, вы будете нужны Гитлеру, если он победит?
– Гитлеру, конечно, нет. В Германии своя партийная диктатура. У нас и у них все держится на тайной полиции и подавлении. Мы против этого.
– Германские фашисты лучше! – заспорил Брыкин. – Гитлер умный, он строит социализм мирными способами. Гитлера поддерживает немецкий народ, поэтому он победит. Я думаю, Лев Давыдович это понимает и ищет способы составить союз с Адольфом. Два гения – Троцкий и Гитлер завоюют мир и откроют человечеству дорогу в светлое будущее!
– Ты, Брыкин, прожектер, каких мало, – с едва заметной брезгливостью произнес Игорь.
Звонок оборвал дискуссию, грозившую перейти в непримиримую стадию.
– Это Ленька! – заорал Фомичев и понесся открывать.
Звягин оказался не один. Впереди себя он подталкивал робеющего парня в бедной одежде рабочего класса: штанах с дырами, рубахе с порванным воротом и масляными пятнами, в короткой ватной курточке и кепке-восьмиклинке, которой щеголяла обычно городская шпана.
– Витька Артамонов с паровозоремонтного, ученик слесаря, прошу любить и жаловать, – объявил Звягин. – Свой парень. Я к отцу на завод ходил, а батя там с этим возится. С голодухи в обморок свалился.
– Свой, говоришь? – сощурился Брыкин, откинув голову набок. – Слышь, Витек, анекдот знаешь? Час говорят о товарище Сталине, два часа говорят о товарище Сталине, три часа говорят о Сталине… Что происходит? Юбилей Пушкина! – Генка захохотал.
– Ну… – сказал Витька. – И чего?
– Ты с голодухи такой несообразительный? – наседал Брыкин. – Или ты из тех, кто на собраниях по команде поднимает руку?
Вместо ответа Витька повернулся к Звягину:
– Ты куда меня привел? Обещал, будет жратва и девки, а тут какая-то комса со значками.
– Девки, да не те, – насмешливо сказала Муся и демонстративно отвернулась.
– Марлен, давай сюда, – позвал Игорь вновь прибывших к столу. – Сейчас накормим твоего работягу.
– Я же просил называть меня Ленькой, начальник, – беззлобно огрызнулся Звягин.
Он сам налил себе и новому приятелю портвейн, навалил на тарелку еды и молча, сосредоточенно, как делают в рабочих семьях, стал насыщаться. Игорь вернулся из прихожей с толстой книгой, положил Звягину на колени. Тот скосил глаза на непонятное название – «Камо грядеши?».
– «Куда идешь?», по-старинному, – пояснил Бороздин. – Исторический роман какого-то поляка. Обрати внимание, как изображается древнеримский император Нерон. Найдешь немало сходства с известной усатой личностью.
– Библиотечная? – заинтересовался Ленька. Он имел склонность к литературным упражнениям, которую не афишировал среди друзей и знакомых. Но Игорь знал о Ленькиной нежной привязанности к книгам и нередко снабжал редкими изданиями царского еще времени.
– Да ты что, такое там не держат. Один человек дал почитать. Старорежимный.
Муся с Женей шептались на диване.
– Кто из них тебе нравится?
– С чего ты взяла?!
– Не из-за разговоров же о политике ты водишь с ними компанию, – улыбнулась Женя. – Дай-ка угадаю… Вот тот, Игорь, да? Он у вас главный?
Витя Артамонов держал по пирогу в каждой руке и попеременно с жадностью запихивал в рот. На неумытом лице было написано чрезвычайное изумление. Не понимая, куда он попал, парень не интересовался ни компанией, ни разговорами, ни обстановкой квартиры. Смотрел только на еду, пил вино, быстро, как станок, молотил челюстями, словно опасаясь, что все это съестное изобилие вдруг исчезнет, как сон.
– А это… – внезапно застеснялся он. – Родители-то где? Им останется?
Генка покатился со смеху, едва удержавшись на стуле.
– Нонсенс! Изможденный советский пролетарий спрашивает, не объедим ли мы моего партийного папашу. Разуй глаза и оглянись, несчастный! Ты знаешь, как расшифровывается Торгсин?
– Ну… торговля с иностранцами? – Витька сложил два бутерброда кружками колбасы в середину.
– Товарищ, опомнись, Россия голодает, Сталин истребляет народ! – провозгласил Брыкин и убежал из-за стола в недра большой квартиры.
– Родители – пропащее поколение, – громко сказала Заборовская. – Ты за них не беспокойся, Виктор.
– Мои нормальные, – смутился парень и перестал жевать. – Нельзя же так… про отцов.
– Можно, – решительно тряхнула головой девушка. – Мой отец в феврале семнадцатого бросал камнями в городовых. Потом они выкинули из окна третьего этажа пристава, и восставший народ растерзал держиморду. Он сам мне это рассказывал, и я гордилась его революционным прошлым. Мой отец, хоть сам из дворян, свергал царя! После революции он стал профессором математики, мы жили в Ленинграде. А потом его выслали. Кто теперь мой папа? Счетовод на заводе и сексот НКВД. Отец Юрки второй раз в ссылке. Отца Толика расстреляли. Отец Жени отсидел ни за что в лагере. У Игоря и Брыкина родители партийцы в комитетах, но это ничем не лучше. Вся эта масса бывших революционеров-подпольщиков, героев Гражданской войны теперь как стадо баранов. Сталинские рабы! Они могут только блеять и жить в страхе. Один только смелый нашелся – Николаев, застрелил Кирова.
– Жалко, Вошь народов не пристрелили, – вставил Брыкин.
– Николаев – герой, – подтвердил Черных. – Он как Софья Перовская, как народовольцы.
– Но за один этот мужественный поступок все стадо баранов теперь давят и режут, – гневно продолжала Муся, – а они хвосты поджали. Либо молчат, либо несут чушь по указке НКВД. Мечтали строить свободную страну, справедливое общество, а оказались не пойми как в тюремном каземате, где жируют надсмотрщики. Вместо сброшенных революцией оков дали надеть себе на шеи новые цепи.

