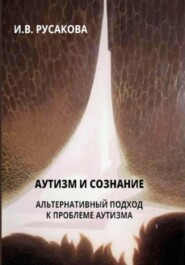
Полная версия:
Аутизм и сознание. Альтернативный подход к проблеме аутизма
Начальный этап – это этап вхождения в группу. Это самый сложный и тяжелый период, сопровождающийся борьбой, протестами и истериками, через который проходят абсолютно все дети даже те, которые первоначально создают впечатление спокойных и даже пассивных. Вхождение в группу осуществляется на основе требований соблюдать определенные правила, существующие в группе. На них подробно остановимся позже, но основное правило на этом этапе, которому должен следовать ребенок, можно выразить формулировкой: «Из команды уходить нельзя!»
Следует отметить, что при зачислении в группу я придерживаюсь следующего порядка. Сначала ребенок приходит с мамой раз в неделю по субботам на консультативные занятия, которые продолжаются один час. Это позволяет мне лучше познакомиться с ребенком и его особенностями, а ребенку привыкнуть ко мне и обстановке. После принятия в группу ребенок в течение одной-двух недель (по ситуации) также ходит с мамой, что смягчает стресс у ребенка от смены обстановки, а также помогает маме лучше понять и запомнить режимные и дисциплинарные правила группы, которых она, по идее, должна придерживаться дома.
Этап вхождения в группу начинается тогда, когда ребенок остается в группе один без мамы и от него продолжают требовать следованию правил. Несомненно, что нежелание подчиняться является в большой степени «социальным приобретением». Дети быстро привыкают, что от них мало чего требуют, и что достаточно поднять крик и закатить истерику, чтобы от тебя все отстали.
В зависимости от темперамента и привычек ребенка в ход идут различные формы протеста: при активном протесте ребенок постоянно убегает из группы, ложится на пол, закатывает истерику, бьется руками, ногами, головой и кричит. В случаях пассивного протеста, ребенок повисает на руках, в данном случае, моих, отворачивается, стремиться спрятаться, сопротивляясь любой попытке вовлечь его в общую деятельность. Так как мы имеем дело с органическим поражением мозга, т.е. процессы в головном мозге отличаются ригидностью и застойностью очагов возбуждения, то это сопротивление длится на протяжении всего дня и, как правило, на протяжении первых недель. Это самый тяжелый этап, и от его исхода зависит весь последующий успех. Поэтому, не взирая на все протестные реакции, порой молча, чаще все же объясняя, несмотря на то, что ребенок еще не понимает обращенной к нему речи, важно продолжать втягивать ребенка в общий процесс. Да, иногда можно дать ребенку небольшое послабление и отпустить его на некоторое время из команды, когда ты видишь, что ребенок не справляется с нагрузкой физиологически, но здесь важно гарантировать, что ребенок находится в безопасности и, когда он успокоится, его можно вернуть в группу. Этот вопрос решается индивидуально, и такой вариант предполагает относительно нетяжелое состояние ребенка, тогда как большинство детей с тяжелыми формами аутизма ни при каких обстоятельствах спокойно не вернутся обратно к детям. В последних случаях приходится терпеть до конца и, фактически, насильно удерживать ребенка в группе.
Внешне это выглядит приблизительно следующим образом. Например, мы планируем день, сидя в кружке. Новый ребенок либо убегает, тогда идешь за ним, возвращаешь и усаживаешь на место, причем столько раз, сколько он убегает; либо ложится, тогда его поднимаешь, сажаешь и удерживаешь в положении сидя. При этом стараешься не отвлекаться от основного вида деятельности и принимать в нем участие, чтобы удерживать интерес и внимание остальных детей. Благо последние несколько лет старшие дети ведут практически все виды деятельности самостоятельно. В начале процесса включения ребенка в группу очень важно, чтобы остальные дети строго соблюдали дисциплину и не отвлекались от текущего вида деятельности. Это предполагает наличие известной осознанности и владения своим поведением другими детьми, поэтому нового ребенка брать в группу чаще, чем раз в год – полтора года не следует.
Итак, ты упорно заставляешь ребенка следовать своим инструкциям и повторять чисто внешне то, что делают остальные дети. Он до последнего старается взять тебя измором, благо, что опыт в этом у него, как правило, есть. Он ждет, когда же от него все отстанут, стараясь потихоньку ускользнуть в другую комнату или забиться в уголок и заняться своей любимой стереотипной игрой. И только тогда, когда он убеждается, что выбора нет, он подчиняется. Обычно это происходит внезапно. Вдруг ты с внутренним удивлением обнаруживаешь, что ребенок сам сидит или стоит и никуда не убегает, с твоей помощью начинает повторять за детьми отдельные упражнения и действия. На этом ад прекращается. Конечно, не надо думать, что ребенок стал паинькой и начал во всем следовать группе. Пройдет еще много времени, прежде чем он более или менее будет соблюдать правила. В целом, любой ребенок будет проверять вас, как я это называю, «на вшивость» практически постоянно. Т.е. он и в последующем уже достаточно осознанно будет специально нарушать правила и отслеживать последствия, поэтому расслабляться не приходится.
В среднем у большинства детей такой активный этап борьбы при включении в группу длится около месяца – у кого-то дольше, у кого-то меньше. Бывает, что полное встраивание в группу занимает год и более. Конечно, с течением времени, обычно через месяц, в любом случае, становится легче, но, тем не менее, приходится продолжать постоянно удерживать ребенка в рамках и, соответственно, уделять ему очень много внимания.
Что важно помнить во время первого этапа.
Во-первых, понятно, что этот этап требует максимальной мобилизации всех эмоциональных и физический сил специалиста. Что бы не происходило, важно стараться сохранять спокойствие. Бывает, что дети в знак протеста могут описаться и даже накакать в штаны. Необходимо все это предвидеть и иметь сменное белье. Они могут что-то сломать, поцарапать и укусить вас. Все это надо переносить с максимальным спокойствием и выдержкой. Обычно я говорю: «Ну что же ты? Разве это хорошо? Смотри, все ребята занимаются, играют, а нам надо идти стирать…» или еще что-то в этом роде, в зависимости от ситуации, т.е. этот этап требует трезвой оценки специалистом своих сил, должна быть уверенность, что ты справишься, и терпеть до конца, если «встал на тропу войны». Нельзя допустить того, чтобы ребенок почувствовал себя победителем. Если нет уверенности, что в том или ином случае сможешь настоять на своем, то лучше не начинать, а спустить ситуацию на тормозах.
Второе, как я уже упоминала, важно, чтобы остальные дети соблюдали дисциплину и не отвлекались на процесс вхождения в группу новым ребенком. Обычно они относятся к нему с пониманием, так как сам прошли через это и на их глазах этот процесс проходил неоднократно. Если в группе уже есть дети с устойчивым состоянием, то иногда можно попросить кого-то помочь в чем-то, но в самом начале процесса лучше все делать самому, а остальным детям просто дать команду соблюдать дисциплину и следовать тем видам деятельности, которые у нас идут по плану.
Третье, важно помнить, что ты подчиняешь ребенка не себе, а правилам, о которых я коротко упоминала выше. Если вы, возможно, неосознанно, попытаетесь подчинить ребенка себе, то боюсь, что вы потерпите фиаско, и никогда не добьетесь нужного вам результата. Чтобы этого не произошло, необходимо помнить, что вы являетесь гарантом правил, следуете им не на словах, а на деле, и только это даст вам возможность встроить ребенка в группу и добиться дисциплины.
Конечно, в этом этапе есть определенный момент, уходящий корнями в биологическую природу человека, образно говоря, когда в стае определяется вожак. Это еще обусловлено тем, что ребенок не понимает обращенной речи или понимает очень ограничено, на рефлекторном уровне и больше ориентируется на эмоциональное состояние окружающих. Необходимо показать ребенку, что ты сильнее, ты – главный, но еще раз подчеркну, именно, как гарант правил, поэтому, если подразумевается, что у нас ведут себя спокойно, то и самому необходимо показывать выдержку при любых обстоятельствах. Это очень тяжело, честно говоря, у меня случались срывы. В этих случаях либо выполняешь условленные санкции, либо извиняешься. Другой сложный аспект состоит в том, что доказывать свою главенствующую позицию на начальных этапах приходится чисто физически. Обычно я применяю технику терапии удерживания, о чем речь пойдет ниже, когда мы будем рассматривать работу на конкретных примерах детей. Надо помнить, что ты должен доказывать, что ты сильнее всегда, фактически, правило номер один – взрослые главные.
Когда ребенок уже, в целом, принял установленный порядок, становится несколько легче. На этом этапе я также внимательно наблюдаю за реакциями ребенка на других детей. Известно, что первое время ребенок всех сторонится, избегает прикосновений, взглядов и прочее. С самых первых дней я, невзирая на борьбу и протест, стараюсь как можно чаще инициировать телесный контакт ребенка с другими детьми. У меня есть «телесные» дети, которые любят обниматься, ластиться, и чаще я на первых этапах задействую их. В целом, в течение дня я стараюсь, чтобы дети чаще брались за руки, сидели достаточно плотно в кружке и пр., поэтому я ставлю нового ребенка в пару с таким «телесным» ребенком и прошу держать его за руку новичка во время разминки или перерыва. Естественно, новый ребенок сначала вырывает руку, прячет её. Обычно я удерживаю своей рукой его руку в руке партнера и постепенно начинаю ослаблять хватку по мере того, как ребенок прекращает сопротивление. Через какое-то время ребенок вовсе перестает вырываться. Сначала он «терпит», что его держат, а через какое-то время наступает момент, который я особенно жду. Бывает, что в процессе деятельности или игры ребенок теряет руку партнера, и тогда он, не поворачивая головы, не глядя, начинает искать руку ребенка, чтобы опять взяться за неё! Для меня это знак: есть контакт! Это означает, что ребенок не просто привык к тому, что его держат за руку, а сам уже чувствует потребность в таком телесном контакте. Он уже начинает ощущать единение с другими детьми, он уже начинает становиться частью группы!
Этот сигнал для меня означает, что процесс пошел, и, как это не парадоксально звучит, что к ребенку можно применять уже более жесткие санкции при встраивании его в группу. В начальный период ты больше терпишь, ты не можешь относиться к ребенку чрезмерно жестко и требовательно, чтобы у него не развился страх и непринятие тебя и группы. Но уже в начальный период можно начинать работу над уменьшением/ликвидацией патологических форм поведения.
Дело в том, что даже если ребенок более или менее принял правила, начал в какой-то степени подчиняться им, он все равно достаточно долго продолжает сохранять стереотипные патологические формы поведения, при этом проверяя границы того, что можно делать, а что нельзя. Поэтому параллельно, как можно раньше, ребенку необходимо определять границы дозволенного, формируя сначала понятия да/нет, можно/нельзя, а в последующем – хорошо/плохо. Например, ребенок привык грызть карандаши и фломастеры или кусать мелки. Если в начальном периоде я просто убираю и говорю: «Нельзя!», то уже на следующем этапе, я после двух-трех «нельзя» предупреждаю, что ему придется приседать, чтобы запомнить, что этого делать нельзя. Конечно, чтобы добиться того, чтобы ребенок начал приседать, надо сильно попотеть, но именно такие штрафные санкции помогают ребенку усвоить понятия можно/нельзя. Здесь, конечно, очень важна последовательность, и если ты начал запрещать ребенку что-то делать и применил штраф (метод отрицательного подкрепления), то это должно повторяться неукоснительно, как, впрочем, и в воспитании любого ребенка.
Здесь же можно отметить другой важный момент, касающийся развития сознания. Л.С. Выготский приводит в своих работах закон осознания Э. Клапереда, который гласит: «…что затруднения и нарушения в автоматически текущей деятельности приводят к осознанию этой деятельности, затем положение о том, что появление речи всегда свидетельствует об этом процессе осознания» (Л.С. Выготский. Мышление и речь. – М.: Смысл, Эксмо, 2006. – С. 706.) Думается, что этот закон приложим и к более ранним безречевым этапам развития ребенка, так как вся его стереотипная деятельность носит автоматический, неосознанный характер, и вмешательство в эту деятельность ведет к моментам включения ребенка в ситуацию, к осознанию.
Работа со стереотипиями ребенка вообще очень сложна. Стереотипные игры и действия ребенка являются в какой-то степени замещением обычной деятельности, характерной для обычного ребенка. Постепенно надо вытеснять их осмысленными и адекватными действиями, уходить от них. Для этого требуется определенное время и последовательность, приходится активно препятствовать ребенку в совершении его стереотипной деятельности, но так как в процессе ты не просто подавляешь эти действия, а замещаешь их взаимодействием с другими детьми, то постепенно удается избавиться от подавляющего количества стереотипий. Хотя стереотипии, особенно двигательные, очень трудно поддаются коррекции и могут сохраняться как привычки уже после формирования у ребенка сознания, пассивное ожидание со стороны специалиста, когда они пройдут сами или изменятся, что тоже бывает в процессе развития ребенка, все же нежелательно, так как это негативно влияет на других детей и на атмосферу в целом. Ниже мы остановимся на этом вопросе более подробно.
Следующий этап – этап пассивного контакта с детьми. Он характеризуется тем, что ребенок начинает разрешать другим детям обнимать себя, позволяет гладить по голове, делать массаж и пр. Он пока пассивен, но он не просто разрешает, а становится заметно, что ему такой более тесный контакт начинает приносить удовольствие. На этом этапе ребенок, как правило, уже достаточно прочно встраивается в режим и распорядок дня, преодолевает свои пищевые проблемы, у него налаживается сон. Вслед за этим начинают приходить в норму физиологические проблемы. У ребенка начинают блестеть глазки, улучшается состояние кожи и зубов, волос, нормализуются физиологические отправления. Появляются отдельные «проблески» в поведении, когда он начинает осознанно выделять кого-то из близких, совершать осознанные поступки и действия, но, в целом, состояние остается очень нестабильным. Этот этап длиться по-разному, 4 – 6 месяцев, и затем постепенно переходит в следующий этап.
Третий этап – этап активного контакта с детьми, когда ребенок уже выступает инициатором взаимодействовия с другими детьми: обниматься, бороться, толкаться с ними. Уже видно, что это все доставляет ему удовольствие, становится потребностью. Ребенок начинает явно скучать по другим детям. Он радуется, когда кто-то возвращается в группу после болезни, или, когда все встречаются после праздников или каникул. У ребенка начинают отмечаться более продолжительные и частые эпизоды, когда он начинает вести себя адекватно, выполнять речевые инструкции, иногда он сам во время общения начинает вставлять какие-то адекватные слова или короткие фразы. Но это чаще происходит ближе к концу года с начала посещения группы. Также на этом этапе ребенок может проявлять предпочтения в отношении взаимодействия с кем-то из детей, появляются признаки привязанности. В целом, происходит переориентация ребенка с повышенной фиксации и интереса от неодушевленных объектов, к людям.
Завершающий этап является особым. Я его назвала этапом перестройки деятельности коры головного мозга. Он не связан с какими-либо заметными изменениями в отношениях между детьми, а носит достаточно специфический характер. Где-то к окончанию 12-ти месяцев с начала посещения группы наступают характерные состояния, «зависания». Они могут возникать и раньше, но именно в этот период они носят регулярный и продолжительный характер. Обычно это происходит во время спокойных видов деятельности. Впервые я отметила такое состояние у Еркена, о котором речь пойдет ниже, с подробным описанием процесса. Сейчас же можно отметить, что обычно это выглядит следующим образом: ребенок, часто сидя лицом к окну (теперь я стараюсь специально так усаживать ребенка), вдруг становится как бы полностью отрешенным, и начинает смотреть на дерево или небо за окном. При этом лицо у него не пустое, а сосредоточенное, взгляд выведен вовне, ребенок словно находится в состоянии глубокого размышления и погружения в то, что он видит. Такие состояния зависания начинают отмечаться все чаще. Вначале я не знала, что мне делать: прерывать ли их и заставлять ребенка заниматься тем, что мы делаем в данный момент или оставлять в таком состоянии? Опять-таки, чисто интуитивно, я предпочла не тревожить ребенка. В последующем я наблюдала такие состояния у всех детей. Часто у меня по коже начинали бежать мурашки, потому что в эти моменты ты видишь и чувствуешь, как у ребенка внутри происходит что-то важное, глобальное. Он начинает, словно, пробуждаться. И, в итоге, происходит то, ради чего ты работаешь этот год: поведение ребенка упорядочивается, речь становится адекватной, он начинает осмысленно реагировать на происходящее. Да, могут еще сохраняться и отдельные стереотипии, и кратковременные истерики, и какие-то трудности в поведении, но, в отличие от предшествующих состояний, они становятся психологически понятными, можно сказать что ребенок «очеловечивается». Главное, что ребенок начинает понимать обращенную речь, у него начинает появляться речь (к сожалению, не всегда нормированная, что зависит, прежде всего, от возраста и тяжести состояния ребенка), он начинает, именно, общаться с вами, постепенно задавать вопросы, интересоваться окружающим миром. Интересно, что я тоже ощущаю это изменение на физическом уровне: возникает чувство, будто у тебя гора свалилась с плеч, появляется ощущение легкости, свободы. Ребенок обычно почти полностью переключается на взаимодействие с другими детьми. Правда, у отдельных детей, о которых речь пойдет ниже, этот процесс не столь рельефно выражен, но и в последних случаях взаимодействие с ним выходит на качественно иной уровень.
Часто перед началом таких регулярных зависаний и на протяжении этого этапа наблюдается еще такой интересный феномен, который я называю реструктуризацией памяти. Ребенок вдруг вспоминает какие-то события из своей жизни и как бы проживает вновь. Например, один ребенок начинал вспоминать, как раньше ходил в детский сад, и ребята там его обижали. Другой ребенок вспоминал поездки с мамой в парк, описывал, что они там видели, что делали. Эти воспоминания носят эмоционально значимый для ребенка характер. Видимо, до этого момента они просто не осмысливались ребенком, хотя и оставались у него в виде аффективного переживания, носили фрагментарный характер, а с началом выстраивания целостной картины мира начали включаться в формирующуюся структуру.
Ещё в этот период дети становятся очень милыми и забавными, примерно так, как это происходит с обычными детьми в период первых двух лет, в период открытия для себя мира, когда они забавляют и радуют непосредственными реакциями в ответ на какие-то события, вставляют неожиданные замечания, занимаются словотворчеством.
Пожалуй, в этой части следует обратить внимание на следующий аспект. Как отмечалось выше, развитие ребенка не является линейным процессом, а проходит скачкообразно. Фактически, у всех детей перед очередным этапом перехода на новую стадию развития, включая первый год, поведение ухудшается. Ребенок становится упрямым, капризным, негативистичным. Я думаю, что это объясняется положением Л.С. Выготского о процессе развития, которое проходит через стадии: рост – кризис – созревание. Понимание этого, помогает сохранять спокойствие и выдержку и продолжать работу.
В целом весь период созревания третичных зон и, таким образом развития сознания у ребенка занимает год с момента самостоятельного посещения группы. Мне было интересно, можно ли сократить это время. Я даже немного экспериментировала: на определенном этапе взяла в группу достаточно легкого ребенка (о нем речь пойдет ниже), чтобы попробовать отследить это. Но оказалось, что в любых случаях и более легких, и более сложных, созревание и активизация третичных структур занимает год.
Сейчас всё вышеизложенное, постараюсь проиллюстрировать на примере работы нашей группы. В целом, как уже отмечалось, я в основном постаралась сохранить хронологический порядок в описании нашей работы, так как это отражает эволюцию моих взглядов на проблему аутизма. Фактически, почти каждый новый ребенок, пришедший в группу, ставил передо мной те или иные проблемы, решение которых расширяло и углубляло мои взгляды на проблему аутизма.
НАЧАЛО РАБОТЫ ГРУППЫ
Как уже упоминалось, работа в моей группе началась с тремя детьми. Ниже приведу анамнез и исходное состояние этих детей.
АСЛАН
Первым ребенком, с которого началась работа нашей группы, был Аслан. Собственно, до этого он находился в зоне моей ответственности, когда я работала в упоминаемом выше частном центре. Это во многом облегчило мне работу на начальном этапе, так как он уже находился в режиме и дисциплине, адекватно реагировал на речевые инструкции, и у него начинали появляться в речи отдельные слова. Другими словами, он прошел этап формирования целостного восприятия картины мира, хотя на тот момент я и не догадывалась об этом.
Впервые мама обратилась ко мне за помощью в ноябре 2007, когда ребенку уже было практически шесть лет (он родился в декабре) Жалобы при обращении на выраженное отставание в речевом и общем развитии, двигательную расторможенность, трудности в контакте.
В анамнезе: наследственность со слов матери отягощена – дядя отца мальчика как будто бы страдал ДЦП, но дополнительно ему ставили диагноз то ли эпилепсия, то ли шизофрения, однако, точных данных не было. Аслан появился от незапланированной беременности, и хотя отношения родителей официально были оформлены позже, мама сразу же решила рожать. Беременность протекала на фоне угрозы выкидыша в первую половину, анемии; роды несколько позже срока, затяжные, с выдавливанием плода, закричал после отсасывания слизи и похлопывания, вес при рождении 2,950. Кормить принесли сразу, грудь взял, сосал активно, кормить приходилось каждые 15 минут, так как был очень беспокойным, почти непрерывно плакал. Оставался таким в поведении до 1,5 лет. Отмечалась задержка в раннем развитии: держит голову с 7 месяцев, сел в 8 месяцев, пошел в 1 год 8 месяцев. До 1,5 лет только плакал, гуления и других ранних речевых проявлений мама не отмечала. Слоги появились к 2 годам, затем начал произносить отдельные слова, типа «мама», «папа», но далее без видимых причин они пропали. Наблюдался и получал медикаментозное лечение у невропатолога, проходил курсы массажа. Постоянно находился с матерью, был привязан к ней, но, в принципе, мог оставаться с другими близкими. С раннего возраста проявлял повышенное внимание к предметам с кнопками и клавишами, игрушками манипулировал, раскладывая их в определенном порядке, любил перебирать диски и кассеты, мог достаточно долго копаться в песке, но в основном был очень неусидчивым, расторможенным, не мог сколько-нибудь долго удерживать внимание на отдельных предметах и видах деятельности. Отмечался бег из конца в конец комнаты, потряхивал при этом кистями рук, при возбуждении начинал прыгать и издавать горловые звуки. Плохо спал, ел избирательно. В возрасте 1 года 2 мес. после прививки отмечался судорожный приступ с потерей сознания. Было назначено лечение фенобарбиталом. После этого стал спокойнее, лучше спал. Приступы с потерей сознания сохранялись. Начал получать лечение финлипсином, на фоне которого приступы прекратились. С трех лет приступов не отмечается, противосудорожное лечение отменили.
Когда мальчику было 3 года, мать вышла на работу. Очень болезненно переносил разлуку. К чужим людям всегда относился равнодушно, игнорировал их присутствие. В 2,5 года обратились в коррекционный центр с жалобами на задержку в развитии и трудности в поведении. Там поставили диагноз: ранний детский аутизм и порекомендовали занятия с психологом. По истечении срока занятий, мама осталась не удовлетворенной результатами, и мальчик был переведен в другой частный коррекционный центр. Посещал это учреждение в течение 1,5 лет, но затем мама переоформила его в коррекционный детский сад для детей с отставанием в развитии. Речь у ребенка так и не появилась, понимание речи тоже было ограничено простыми бытовыми инструкциями.
Наблюдался у участкового психиатра, с пяти лет получал сонапакс 50 мг в сутки. Со слов мамы на фоне лечения стал менее беспокойным. По рекомендации психиатра в октябре 2007 был госпитализирован в детское отделение психиатрической больницы для решения вопроса инвалидности. Первое время тяжело переносил госпитализацию, затем привык. Был поставлен диагноз аутизм с глубоким отставанием в развитии и оформлено пособие инвалида детства.
В семье всегда сохранялись напряженные, конфликтные отношения между родителями. Когда мальчику было три года, отец во время конфликта, схватил ребенка и бросился с ним в кусты, где они вместе упали. С этого момента очень долго отмечался страх кустов. Тогда же рефлекторно схватился рукой за землю, после чего ребенок постоянно стал держать указательный палец левой руки в согнутом положении. После аналогичного эпизода на берегу водоема, стал панически бояться воды, из-за чего его в последующем стало трудно купать. Когда мальчику исполнилось четыре года, родители окончательно разошлись и отношений больше не поддерживали. Отец все же интересовался ребенком, мог взять на какое-то время его к себе, но материальной поддержки никогда не оказывал. Помогала его мать, бабушка Аслана по отцу, с которой продолжали жить ребенок с мамой, так как у неё не было своей квартиры.



