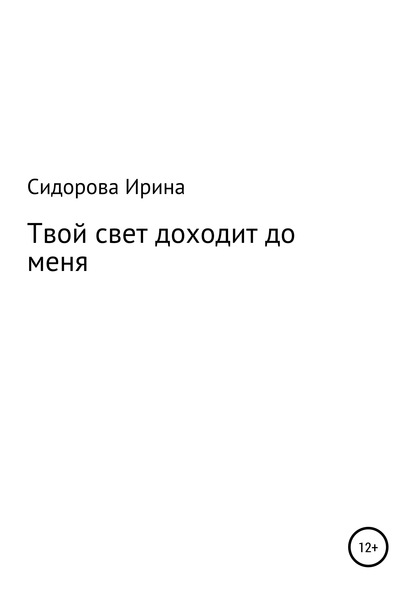
Полная версия:
Твой свет доходит до меня
Не меньше запомнилось и другое. Уже шла вторая половина августа, и на фоне темных звездных вечеров наши пионерские костры были исполнены какой-то особой романтики. Каждый вечер мы наблюдали роскошное зрелище. Оно сопровождалось ароматом и потрескиванием хвои, фонтаном искр, напоминающих фейерверк. «Не за огонь люблю костер – за тесный круг друзей». А круг друзей, пионервожатых и воспитателей подобрался на редкость замечательный. Мне посчастливилось работать с детьми рука об руку с Екатериной Вальковой, Натальей Горловой, Ольгой Никулинской, они впоследствии стали заслуженными учителями. Воспитателем старшего отряда мальчиков работала заслуженный учитель и мудрый наставник молодежи Майя Анатольевна Носова.
Я невольно сравнивала пионерлагерь моего детства «Юность», что под Анапой. Мы все дни проводили у моря, купались, загорали. Пионервожатые пересчитывали нас перед и после купания в море. А вечером были танцы и кино под открытом небом. Море, солнце, южная природа очень облегчали работу вожатых и воспитателей южных лагерей. А у нас, на севере, как заладят дожди… А ребят-то надо каждый день занимать, чтоб не скучали, дурака не валяли. Наши пионервожатые и воспитатели были мастерами на всякие выдумки. Что только ни изобретали с детьми: КВНы, викторины, игры в казаки-разбойники, карнавалы, конкурсы, концерты. И все с изюминкой, нестандартно. Что и говорить, на севере в пионерлагерях работать сложней и хлопотней. Каждый вечер после отбоя собирались и всем педколлективом до поздней ночи ломали голову, что на завтра придумать, чтобы детей удивить и порадовать?! И вдруг где-то за неделю до конца смены приходит мне письмо из дому. Родители сообщают, что мне надо завтра же выезжать из Холмогорского района. Нам с моей давней подругой детства ее родители достали путевки на турбазу под Анапой. Зная, что в этом году на Севере лето скверное, они решили: пусть девочки погреются на солнышке, в море покупаются. Мне очень хотелось встречи с давней подругой детства, да и родители за нас все уже решили. Девчонки мои как узнали, что я завтра их покидаю – все в слезы! И я загрустила. Никогда еще от чужих детей не видела столько тепла душевного. И нежность сродни жалости, охватила меня… Они всем отрядом пошли меня провожать до автобусной остановки. И запели нашу любимую: «Вальс в ритме дождя». Поют, а слезинки по щекам так и катятся. Тут я подумала: не беглянка ли я?! Может, надо было отказаться от путевки? Но все поздно. Вот и автобус мой подошел…
То лето было по всей России, и даже на югах, дождливое. Когда приезжаешь на море, покупаться и позагорать, а там «словно из мелких, мелких сит третью неделю моросит», это уже не в какие ворота не лезет! И все звучат в моем мозгу голоса девчонок «Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя»!
Но самая большая неприятность подстерегала нас впереди. В один день, будь он неладным, приезжает к нам из Краснодара некая дама, от матери моей подруги. И заявляет с порога: «Я приехала вас отсюда увезти!» Зачем? Почему??? До конца путевки еще далеко. Тогда дама объясняет, что по России идет холера. Вот уже несколько городов, в том числе Одесса, – на карантине. А если холера доберется до Анапы? В лучшем случае мы засядем на карантине, пропустим месяц учебы в своих институтах. Она как врач, расписала нам все ужасы особо опасной инфекции. И после ее «страшилок» нам уже было все равно…, и мы поехали с ней.
В Краснодаре меня охватила такая тоска по Архангельску и чувство вины перед моими девчонками из отряда, что я взяла билет на ближайший самолет и уехала домой. Кстати, самое удивительное, что ни в Анапе, ни в Краснодаре в то лето холеры не было. Зато в Архангельске, когда я ехала с аэропорта на автобусе, бросился в глаза дом на углу Гагарина и Ломоносова, оцепленный военными с винтовками на перевес. Таких домов, закрытых на карантин, было несколько.
В первый день нового учебного года в институте наша врач с медсестрой раздавали всем наборы антибиотиков на пять дней как профилактику от особо опасной инфекции. И предупредили, что, если обнаружится хоть один случай заболевания, учебный корпус оцепляют на карантин. Ночевать будем в институте, на спортивных матах, все вместе. Эта новость почему-то у нас вызвала веселое оживление. Но, слава Богу «нас минула чаша сия». Никто не заболел.
Из того далекого лета я извлекла ценный урок. Ничего хорошего не выходит, когда ради приятного и легкого времяпровождения, ты покидаешь тех, кто в тебе так нуждается! Ведь «мы в ответе за тех, кого приручили».
И легла мне на душу песня
На днях зашла меня навестить подруга. За чашкой чая стали мы вспоминать студенческие годы, наших преподавателей, однокурсников. И конечно же песни, с которыми росли, дружили и любили. Ведь наша молодость выпала на 70-е, романтичные, песенные годы. У кого-то они остались в памяти, главными образом, пустыми полками в магазинах. А нам самые счастливые годы молодости запали в душу не содержимым холодильника, а роскошью человеческого общения, звоном гитар во дворах и теми дивными мелодиями, что звучали с больших черных пластинок на наших проигрывателях. В 1976 году стала музыкальной сенсацией всей нашей огромной страны, вышедшая в свет пластинка Давида Тухманова «По волне моей памяти». Мне прислал её из Вильнюса мой литовский друг, преподаватель музыки. Кстати, в той же посылке, вместе с пластинками сонат Чурлёниса и песен Давида Тухманова лежал душистый кусочек туалетного мыла. В те годы туалетное мыло у нас тоже было дефицитом. С грустной улыбкой вспоминаю сейчас «литовский подарок», это соединение, преходящего и главного, вечного…
Но вернёмся в тот недавний вечер, когда «две женщины сидели у окна» и вспоминали любимые песни молодости. Так вот, нам обеим сразу на ум пришла мелодия популярной в 70-е песни «Портрет работы Пабло Пикассо».
Впервые мы услышали её не в родном Архангельске, а в Пятигорске. Потому, что в то лето мы, студентки пединститута, всем курсом поехали поработать на каникулах в совхоз «Бештау» Ставропольского Края. Северный Кавказ с его щедрым солнцем и роскошной природой, очаровал на, северянок, впервые приехавших на юг. Пять дней в неделе мы работали в садах, собирали яблоки, вишни и сливы. А в выходной отправлялись в путешествия по городам Кавказских Минеральных вод. Особенно нас притягивал Пятигорск, Лермонтовские места: Эолова Арфа, Грот княгини Веры, любимой женщины Печёрина. Провал. Ресторация. Место дуэли. Домик Лермонтова и мемориальный музей – всё это до сих пор стоит перед глазами.
Однажды, напитав душу гармонией, мы гуляли по Пятигорску. А откуда-то быть может, из открытых окон кафе, лилась над улицей дивная мелодия, и приятный мужской голос пел:
Мне снится этот сон,
Один и тот же сон.
Он вертится в моём сознании
Словно колесо.
Ты в платьице стоишь,
Зажав в руке цветок.
Спадают волосы с плечей,
Как золотистый шёлк…
Не знаю, чем пленила нас эта незатейливая песенка. Может быть, пульсирующим ритмом мелодии. Словно билось сердце влюбленного молодого человека. Состояние такое близкое и понятное… Ведь в двадцать лет все мы были в кого-то влюблены. В песне звенела печаль разлуки и несбывшаяся мечта о счастье…
Мне снятся вишни губ
И стебли белых рук.
Прошло всё, прошло,
Остался только этот сон…
Остался у меня
На память от тебя
Портрет твой
Портрет работы Пабло Пикассо…
К сожалению, песню эту всё реже и реже доводилось услышать по радио или с экрана телевизора. А потом она исчезла совсем. У меня с тех лет сохранилась пластинка, – призналась подруга,– только я отвезла её на дачу. И вот мы едем на дачу. Включаем старенький проигрыватель «Юность». Крутится чёрный диск. И с каждым, знакомым до боли сердечной, звуком, всё ближе и ближе наша далёкая юность.
– Песня как волшебный ключик в мир прожитых лет, с их чувствами, событиями, встречами. Мы поворачиваем этот ключ, и в миг переносимся через годы и расстояния.
Работа в редакции «Правды Севера» давала мне счастливую возможность ездить в командировки по всей нашей огромной области, встречаться с удивительными людьми– самородками. Много было таких встреч за годы работы в газете. Сейчас в памяти всплывает самое – самое… Город Каргополь, заснеженный, вьюжный. Закованная в лёд Онега. Убелённые инеем купола церквей. Столбики дыма над крышами домов… И как подарок судьбы – встреча с Марией Хволынской, женщиной-легендой, собравшей и знающей на память почти все две с половиной тысячи частушек. Дочь священника, она учила детей грамоте в сельских школах. С котомкой за плечами, в которой умещалось всё её добро, она странствовала от села к селу. Потому, что как только становилось известным, что учительница эта – попова дочка и сама глубоко верующий человек, её лишали права учить детей в школе. И она снова искала место, где её никто не знает.
На склоне лет Мария Хволынская поселилась в Каргополе. Вырастила возле дома своего сад из 33 яблонь. От этого сада осталась одна единственная яблонька, что стоит напротив калитки её дома.
Я приехала к Марии Васильевне в морозном декабре. Меня встретила меленькая, хрупкая женщина, словно ожившая из сказки Крошечка-Хаврошечка. И была искренне рада нежданной гостье. Одетая в огромные серые валенки и теплый платок, повязанный концами за спину, она поразила меня голубым сиянием не по годам живых и ясных глаз. В них то и дело вспыхивала лукавая улыбка. Неожиданно она забралась на низенькую табуретку и запела:
Много горюшка у девушки
А виду не кажу
Отвернуся да утруся
Вновь веселая хожу.
…На прощанье Мария Хволынская перекрестила меня и сказала, значительно: «Знаешь, какой самый большой грех? – Жизнь не любить».
…Опять и опять возвращалась я в город Каргополь, благодатное место, щедрое на одаренных людей. Писала в газету зарисовки и очерки о каргопольских мастерицах, ткачихах и кружевницах, о замечательных сельских учителях. Но до сих пор самым ярким воспоминанием живёт в душе встреча с Марией Хволынской.
Где-то в 80-е годы по радио стала звучать песня «Каргополочка» (музыка В. Борисова на стихи Д. Сухарева) Она как-то сразу легла мне на душу:
«Город Каргополь, да город не велик,
Но забыть его мне сердце не велит.
Он хотя и мал слегка,
Но Онега велика
…
Так и вижу: на Онеге белый лед
Так и слышу: каргополочка поёт.
Всё реже удаётся мне где-то услышать эту песню. Но теперь она звучит в моей душе. И оживают каргопольские впечатления. И маленькая хрупка женщина в скромненьком сером платочке делится со мной сокровищами своей большой прекрасной души.
Радио – любовь моя
На полотне воспоминаний видится мне такая картина. Мы, девчонки-первокурсницы, только что поступившие на истфил АГПИ, приехали в колхоз, на картошку. В деревне, куда нас поселили на время сельхоз работ, осенью 1968 года ещё не было проведено электричество. И о том, что на дворе вторая половина XX века, напоминал только радиоприемник, который не выключался весь день.
Уставшие после работы, непривычной для городских девушек, мы сидели на лавке в деревенской избе. Отдыхали. А по радио передают балет Чайковского «Лебединое озеро». Звучит увертюра, тема лебедя. Музыка завораживает нас, приводит в состояние трепетного ожидания чего-то неведомого… И вдруг в этот момент – стук в дверь. Что за гости запоздалые в столь поздний час? Это, наверное, ко мне, говорит хозяйка и спешит в сени. Мы сидим на своей лавке. Слышим мужские голоса. В избу входят двое. Это наши ребята с истфила. Пришли из соседней деревни, где по домам разместили парней. Их появление для нас было неожиданностью. Надо же идти в такую даль, да ещё к незнакомым девчонкам в кромешной тьме, в которую осенними вечерами погружалась деревня и дорога через лес. А мы, наивные, даже чаю не решились им предложить. Боялись хозяйки, а она молчала, как в рот воды набрала. Наверное, ждала, что парнишки наши сами что-то принесут… Но никому в такой ненастный вечер выходить из дому больше не хотелось. Мы так и остались сидеть за пустым столом. А музыка Чайковского всё звучит и звучит, наполняя пространство избы, освещенное керосиновой лампой, какой-то колдовской энергетикой. Внезапное волнение и чувственная дрожь передаются друг другу… Наверное, если бы в тот вечер по радио не прозвучало «Лебединое озеро» Чайковского, встреча с однокашниками в глухой северной деревеньке не произвела бы на нас такое сильное впечатление. Как молоды мы были в ту далёкую осень! У кого-то после этой встречи завязался студенческий роман, а у кого-то зародилась взаимная душевная симпатия на всю жизнь. И уже потом, спустя годы, на встречах выпускников истфила, в наших воспоминаниях студенческой жизни, неизменно яркой вспышкой высвечивался этот эпизод: деревенская изба в полумраке керосиновой лампы, а по радио звучит музыка из «Лебединого озера»…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

