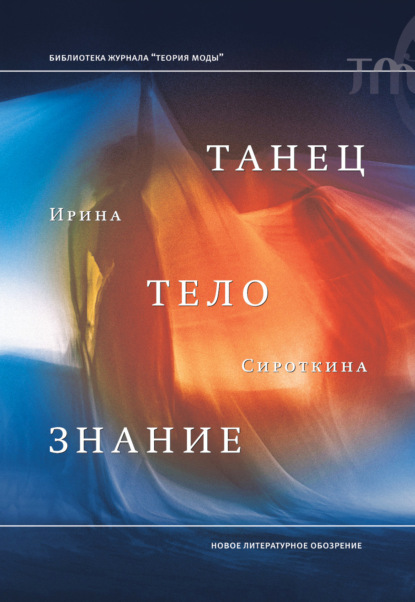
Полная версия:
Танец, тело, знание
Как прародительница Ева до грехопадения, Годива невинна, ибо облачена в божественную благодать – «одежды славы». В книге «Леди Годива: будущее наготы» (Lady Godiva: The Future of Nakedness, 1928) писатель Джон Лэнгдон-Дэвис сатирически описывал морализм, лицемерие, корысть и, прежде всего, страх, которые привели к странному парадоксу: «естественная» нагота сделалась «неестественным и порочным состоянием человеческого тела», почти преступлением (Barcan 2004: 52). Как и многие его современники, Лэнгдон-Дэвис считал наготу истинным проявлением человечности.
«Нагое» и «голое»
Автор книги «Нагота в искусстве» (The Nude: A Study in Ideal Form, 1956, русский перевод: Кларк 2004) Кеннет Кларк противопоставляет «голизну» (nakedness), тело без одежды, «сырой» исходный материал для художника, – «наготе» (nudity), которая возникает как результат художественной работы с этим материалом. Нагота, таким образом, не предмет искусства, а его форма. Его коллега Джон Бергер считает голизну «отправной точкой», а наготу – «способом видения» (Barcan 2004: 33). Голизна несовершенна и индивидуальна; нагота идеальна и универсальна. Голизна – это природа; нагота, или обнаженность, – культура. Творчество художника лишает голую модель индивидуальных черт, возводит ее в идеал. Нагота покрывает голизну эстетизирующим лоском; она – вид одежды. Похоже, что это различение искусствоведы унаследовали у богословов, когда те противопоставили «райские одежды» наготы, «костюм Адама и Евы» – постыдной голизне прародителей после грехопадения.
Одежды славы и костюм светаХотя в раю у прародителей не было одежд, вряд ли они чувствовали себя голыми. Автор одного из немногих богословских трудов об одежде Эрик Петерсон считает, что нагота появляется только после грехопадения:
До греха можно говорить об отсутствии одежды [Unbekleidetheit], но это еще не нагота [Nacktheit]… До грехопадения человек представал перед Богом так, что его тело, даже без какой-либо одежды, не было «нагим». Это «ненагое» состояние человеческого тела даже при очевидном отсутствии одежды объясняется тем, что сверхъестественная благодать облекала человека, как одежда. Человек не просто был окружен лучами божественной славы: он был одет в славу Господа («Theologie des Kleides», цит. по: Агамбен 2014).
Вкусив плод познания добра и зла, Адам и Ева утратили «одежды славы» – свою нераздельность с Творцом. Библия говорит, что у них «открылись глаза» на их собственную наготу, которую они затем прикрыли фиговым листком. Другой стороной грехопадения стала открывшаяся им же возможность познания. Играя с греческим словом a-letheia – «несокрытость», «нелатентность», – философ Джорджо Агамбен называет это «открытием истины»: «То, что человек больше не облачен в одеяние благодати, приводит его не к мраку плоти и греха, а к свету познаваемости» (Там же). Агамбен мог бы процитировать при этом слова из Литургии апостола Иакова: «И, открыв тайные покровы знамений, одевающих священнодействие сие, ясно покажи нам, и ума нашего очи неотъемлемы Твоего света исполни…»[4]
До грехопадения человек жил в праздности и изобилии; ему не нужны были знания, наука и техника. Открыв глаза, он начал воспринимать собственное благополучие и блаженство как состояние слабости, atechnia, то есть отсутствия знания. В результате ему пришлось трудиться, учиться, добывать практические и теоретические знания. Если бы человек остался в раю, то одежда была бы дана ему не природой (как у животных) и не техникой, а божественной благодатью, которая снизошла на него в ответ на любовь к Богу. Принудив человека оставить благословенное райское созерцание, грех устремляет его к тщетным поискам техник и наук, отвлекающим от созерцания Бога. Здесь, комментирует Агамбен, нагота отсылает не к телесности, а к утраченному созерцанию – знанию чистой познаваемости Бога – и к его замене на мирские навыки и представления.
Итак, до грехопадения Адам и Ева невинны: в этом состоянии еще нет ни эротического желания, ни понятия нагого или голого – можно говорить только об «отсутствии одежды». Потеряв этот дар, прародители начинают стыдиться половых органов и прикрывают фиговым листом свое «несовершенство». Но фиговый лист и другие одежды невинность не возвращают – они лишь разжигают утомительное желание, порождают соблазн, ведут к греху. Напротив, первоначальное неразличение одетости и наготы добродетельно, невинно.
О добродетельности наготы свидетельствовали апологеты новой культуры тела (нем. Körperkultur), особенно популярной в Германии (Toepfer 1998). Они ратовали за освобождение от громоздкой конвенциональной одежды, включая корсеты у женщин и тесные пиджаки, жесткие воротнички, шейные булавки у мужчин. Ярким выражением «реформы жизни» служили натуризм – жизнь в гармонии с природой – и нудизм. Нудизм долгое время считался оскорблением общественной нравственности и преследовался законом. Тем не менее движение нудистов росло. В 1913 году в Германии движение за реформу жизни насчитывало около сотни обществ с 160 000 участниками. Недолгое время спустя, в годы Веймарской республики, число обществ выросло до ста тысяч, а любителей купания нагишом стало два миллиона человек[5]. Отстаивая свое право ходить голыми, нудисты ссылались на Адама и Еву, на обнаженные тела античных героев и фигуру здорового «дикаря». Сторонники реформы жизни апеллировали к природе – ведь никто не рожден одетым – и к библейской истине: нагим человек пришел в этот мир и нагим уйдет из него[6]. Намеренно или неосознанно, нудисты проводили параллель с древней теологической концепцией, согласно которой нагота воспринималась как одеяние благодати. Нудизм как новый идеал жизни общества в гармонии с человеческой природой противопоставил похабной голизне порнографии и проституции иную, чистую наготу, называя ее «одеждами света», или Lichtkleid (Агамбен 2014).
Голизна открыта взгляду; наготу защищает флер невинности, подобный лучу света, который падал на героиню Мережковского Арсиною: «она стояла чистая, облеченная светом, как самою целомудренною из одежд»[7]. Выше мы упоминали, что натуристы и нудисты считали себя «одетыми светом», купающимися в лучах солнца, как в божественной благодати. И в театре свет выступал эквивалентом одежд благодати. Луч света, как и луч софита на сцене или в музейном зале, имеет способность превращать «голое» в «нагое», материю – в дух.
Айседора Дункан как-то заметила, что танцовщики перерождают тело человека в лучистый флюид, подчиняя его власти душевных переживаний: «Эти художники танца признают, что в самом деле силой духа тело трансформируется в лучистый флюид, оно становится призрачным и легким, как бы под Х-лучами» (Дункан 1922: 2, цит. по: Мислер 2013). Возможно, Дункан имела в виду Лои Фуллер, в компании которой начала танцевать. Американка Фуллер (1862–1928), сделавшая карьеру в Париже, усовершенствовала один из номеров водевиля, известный как skirt dance («танец с юбкой») (ил. 5). Облаченное в метры парашютного шелка, освещенное цветными софитами, ее кружившееся тело появлялось и исчезало. «Тело зачаровывало тем, что его было не найти», говорил один из очевидцев (Сюке 2016: 351). А по словам Стефана Малларме, в «этих едва уловимых растрепанных видениях» Лои Фуллер служила своего рода экраном, на который зрители могли проецировать собственные фантазийные образы: «волчок, эллипс, цветок, необыкновенная чаша, бабочка, огромная птица» (Там же: 352).
В Европе пользовались популярностью спиритические сеансы, и их участники вполне могли представить танцовщицу в облаках шелка чьим-то духом, явившимся по вызову. Сама танцовщица интересовалась не только и не столько спиритизмом, сколько психофизиологией восприятия и достижениями современной ей техники. В частности, Фуллер придумывала конструкции освещения и декораций и даже составляла рецепты стекла для фильтров нужного ей цвета. Искусствовед Николетта Мислер указывает, что в перформансах Фуллер происходила «редукция тела»: внимание зрителя было сосредоточено на движении ткани, и присутствие тела сводилось на нет. В 1937 году в постановке «Сезон в аду» Рембо в театре «Искусство и действие» художница, русская эмигрантка в Париже Мария Васильева (1884–1957), «предстала на сцене, при ярком свете, дерзко обнажив тело во всей его физической наготе» (Мислер 2013). Свой акт она назвала «Костюм света».
Нагота на сцене«Слово „голая“ отдает запахом банного веника; слово „нагая“ – жертвенным фимиамом, – писал в 1911 году театральный режиссер Николай Евреинов. – О нагой женщине я могу вести беседу со своей матерью, сестрой, дочерью, не оскорбляя вовсе их чувства целомудрия; о голой женщине мне пристойней говорить, закрывши от них двери. Оголенность имеет отношение к сексуальной проблеме; обнаженность – к проблеме эстетической» (Нагота на сцене 1911: 107). Полемически заостренный сборник Евреинова «Нагота на сцене» открыл дискуссию о наготе как сценическом костюме. Одни заявляли, что обнажение – это искусство, а вот скрывать тело, напротив, вульгарно; такую позицию занял в том числе художник и культурист Иван Мясоедов. В трехстраничном «Манифесте о красоте» он утверждал, что выше и краше нагого тела ничего быть не может (Там же: 126–128). Мясоедов инициировал представление «Мифов на сцене» и сам позировал фотографам в стиле античного бога или героя, не имея на себе ничего кроме сандалий и шлема или виноградной кисти в руке (Bowlt 2004).
В книгу вошли реплики разных авторов, переводы с французского, оригинальные статьи соотечественников, а также манифест Айседоры Дункан «Танец будущего» (в сборнике озаглавленный «Телесная нагота в учении Айседоры Дункан»). Ссылаясь на природные «танцы дикарей», Античность и Уолта Уитмена, воспевавшего «свободный и живой экстаз наготы в природе», Дункан утверждала: настоящий танец – это танец нагого человека. Наготу же Айседора, по традиции, приравнивала не только к красоте, но и к истине – как известно, тоже голой… Или все-таки – нагой?
Различие между наготой и голизной взывало к теоретическому объяснению. Разница заключалась не только в ауре сакрального или эстетического, которой обладала нагота, но и в том, кто именно оголялся. Если даже Айседора для разной публики выглядела то нагой, то голой, что же говорить о ее подражательницах, ее несовершенных копиях? Константин Станиславский по-отечески предупреждал актрис, жаждавших повторить успех знаменитой босоножки: «Надо быть Айседорой Дункан, чтобы иметь право полуголой выходить на сцену и чтобы это никого не шокировало» (Коонен 2003: 82). Негативную реакцию у публики вызвали «вечера красоты», которые устраивала немка Ольга Десмонд (настоящее имя – Ольга Селлин, 1890–1964) (ил. 6). На этих вечерах она постепенно сбрасывала одежды, чтобы в конце концов остаться в одном узорчатом пояске (Вечера красоты, б. г.: 9). Выступления танцовщицы в Петербурге были запрещены полицией. «Всякая нагая женщина вместе с тем и голая, но отнюдь не всегда и не всякая голая женщина одновременно нагая», – отзывался о ней скептически Евреинов (Нагота на сцене 1911: 107).
Причина, по которой танцовщица казалась не нагой, а оскорбительно голой, заключалась в том, что она двигалась, но не так хорошо, как Дункан. Если бы Десмонд ограничилась принятием живописных поз, то могла бы сойти за античную статую, и тогда ее защищали бы «одежды наготы». Наготу как эстетический феномен создать проще, если уподобить актрису или натурщицу какому-то известному изображению. Джорджо Агамбен называет это «идеализированной – формульной – наготой», когда поза, узнаваемая по классическому искусству, служит своеобразной «одеждой» для обнаженного персонажа. И напротив, тело без одежды в обыденной, нетеатральной позе будет восприниматься голым (Агамбен 2014). Это признавал даже французский суд. Авторы вошедшей в сборник Евреинова статьи «Нагота в театре» (Le nu au théâtre) Витковский и Насс описывали случай, когда парижскому театру «Фоли-Бержер» был предъявлен судебный иск об оскорблении нравов. Поводом к нему стала постановка, в которой три артистки явились на сцене «вполне нагими». Но поскольку они при этом «сохраняли полную неподвижность», то «производили иллюзию художественных групп», живописных или скульптурных. Кроме того, по проницательному замечанию комиссара полиции, актрисы «были обриты под мышками и в нижней части туловища», что увеличивало их сходство со статуями (Нагота на сцене 1911: 67). Убежденный этими доводами, суд театр оправдал, зафиксировав тем самым, что граница между «нагим» и «голым» проходит по линии неподвижности и отсутствия волос на теле.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В книге использованы следующие статьи автора: Нагота как сценический костюм // Теория моды: одежда, тело, культура. 2012. № 24. С. 101–118; Исчезновение тела в перформансах рубежа веков // Теория моды: одежда, тело, культура. 2012. № 47. С. 199–217; История одного разоблачения: ориентальные костюмы Льва Бакста и эпистемология наготы // Теория моды: одежда, тело, культура. 2022. № 66. С. 9–19; «Складки материи и сгибы в душе»: драпировка в одежде, психиатрии и философии // Теория моды: одежда, тело, культура. 2024. № 71. С. 11–27; Одежда как правда и как новая мифология: костюмированные перформансы перестройки // Теория моды: одежда, тело, культура. 2017. № 42. С. 229–248; Пуанты: техника, желание, власть // Теория моды: одежда, тело, культура. 2016. № 40; Техники тела и городская повседневность. Доклад на конференции в Музее Москвы, 2020 г.; Тело снова в моде: корпореальность в эпоху пандемии // «Новая норма»: гардеробные и телесные практики в эпоху пандемии / Ред. – сост. Людмила Алябьева. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 17–185; Сетело: телесность в интернете и в доцифровую эпоху // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019. № 52. С. 121–139; Против эпистемологических иерархий: ценность телесного знания // Education & Pedagogy Journal. 2021. № 1. С. 5–20.
2
Исключение представляет Афродита, но и ее нагота однажды шокировала жителей острова Кос, отвергнувших полностью нагое изображение богини (Виппер 1972: 252). Пракситель изваял ее слегка наклонившейся вперед, рукой прикрывающей детородное место. Скульптура положила начало особому типу статуи – Venus pudica, «Афродита Стыдливая», или «Целомудренная».
3
Ту же мораль Карл Маркс и Фридрих Энгельс проповедовали читателям «Коммунистического манифеста», отмечая, что капитализм «срывает покровы» и обнажает истинные отношения власти: «Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. <…> Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно сентиментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям» (Маркс, Энгельс 1955: 17).
4
Литургия относится к одним из первых молитвословий, составленных для проведения богослужений в христианских церквях. Ее автором считается Иаков Праведный, в I веке н. э. – патриарх Иерусалима, по преданию – сводный брат Иисуса Христа (Ловягин 1874).
5
По материалам выставки Unter Nackten («Среди голых») в Ганновере, июль – сентябрь 2024 года; см.: Brosowsky 2024.
6
«Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь» (Иов. 1: 21; Синодальный перевод Библии РПЦ МП, редакция 2000 года).
7
Роман Д. Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник», цит. по: Нагота 1911: 108.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



