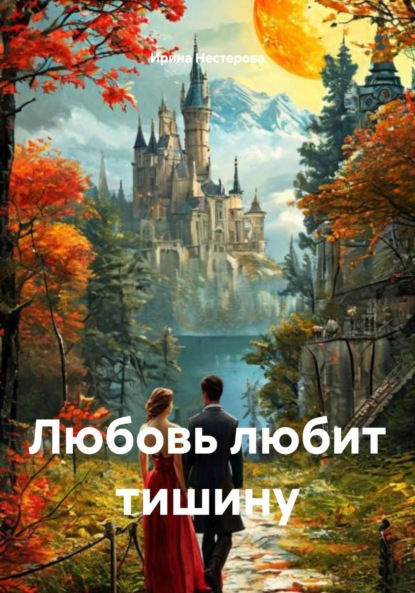
Полная версия:
Любовь любит тишину

Ирина Нестерова
Любовь любит тишину
Когда электричка, словно уставшая птица, выплюнула Миру на маленьком перроне, воздух встряхнулся от запаха влажных берёз и речной прохлады. Был конец августа, тот короткий промежуток, где лето уже не в силах жечь, но ещё помнит, как умеет пахнуть полевыми травами. Мире было двадцать шесть, и она возвращалась в город своего детства впервые за последние десять лет – для того, чтобы закрыть старую дверь, которую никто не использовал.Дом бабушки стоял на окраине, на тихой улице, где клены сплетались ветвями поверх забора, словно ласково прикрывая от мира всё, что происходило под ними. Бабушки не стало полгода назад, и Мирина мать, со своей немецкой рациональностью и нежеланием заходить в прошлое, перевела квартиру на имя дочери и предложила продать. Мира упрямо отказалась, хотя не знала, зачем.Вечером, разбирая посылки и древних лоскутных кукол, она откопала деревянные настольные часы. Их корпус был гладко натёрт до янтарного блеска, стрелки остановились на том же мгновении, в котором они когда-то жили – на половине шестого. На циферблате кто-то тонко процарапал: «Слушай». Вероятно, дед, музыкант, который когда-то учил Миру слышать сквозь шум магазина и автобуса целую симфонию мальчишеского смеха и собачьей лая. Она взяла часы в руки и в первый раз за день позволила себе заплакать.
Ночью ей снилось, что дом – это не место, а музыкальный такт, в который можно возвращаться, когда в городе срываются счёты. И часто в этих снах она слышала голос, в котором было что-то знакомое и чужое одновременно. Голос говорил: «Слушай», и за этим словом плыли ласточки и корабли.Утром Мира пошла в городскую библиотеку, где хотела найти старые фотографии, вырезки из газет, предметы, которые могли бы объяснить бабушкин смех и тоску, как будто она всю жизнь чего-то ждала. За столом каталогов сидела девушка с живыми глазами и веснушками, она подняла взгляд и улыбнулась:
– Вам помочь?
– Я ищу фотографии старой музыкальной школы, – ответила Мира. – И, возможно, статьи о фестивалях двадцать лет назад.
– О, у нас тут клад, – девушка кивнула. – Я Соня. Пойдёмте, я вам покажу.
Они прошли мимо ржавых батарей и деревянных полок, к шкафу, где хранились архитектурные планы и большие альбомы. Соня ловко вытаскивала папки, расстилала их на столе, и город прошлого выныривал из жёлтой бумаги: женщины в платьях из ситца, мальчишки с гармонью, сцена под навесом, над которой висела вывеска: «Дом культуры – музыкальная гостиная».
– У вас в глазах – этот берег, – сказала вдруг Соня. – Вы отсюда?
– Я – внучка Елизаветы Андреевны. Она жила на улице Кленовой.
– Я её помню! Она приходила к нам с пирогами-пирожками на День библиотекаря… Простите. – Соня улыбнулась. – Очень тёплый человек.
Мира кивнула и опустила глаза, чтобы не расплакаться прямо в эту светлую, ржавую библиотеку.Среди фотографий она наткнулась на знакомую линию плеч – тонкую, аккуратную, как у птицы. Это была она, маленькая Мира, стоящая на сцене с ксилофоном. Рядом, чуть наклонившись, – мужчина с густыми темными бровями, он держал в руках дирижёрскую палочку. Под фото было написано: «Учитель Антон Руссо и ученики музыкального кружка».
– Антон Руссо… – тихо сказала Соня. – Он же потом уехал в Петербург, стал композитором. Вы его помните?
– Я помню звук его голоса и его руки: их движение, – сказала Мира, сама удивляясь своей памяти. – Он всегда говорил: «Слушай – это важнее, чем играть».
Соня принесла папку со статьями. В одной из них было интервью Руссо, с фотографией, где он уже взрослый, известный, в чёрном свитере, и сквозь его взгляд пробивалась всё та же тёплая ясность. Он говорил о музыкальном фестивале в их городке, о том, как провозил неразрешённые инструменты, о том, что истинная музыка живёт в простоте. Там же было написано, что он собирается приехать в город к юбилею школы в конце недели, и что в Дом культуры привезут его новое сочинение – «Письмо для одной комнаты».
Мира почувствовала, как у неё холодеют ладони. Комната… Письмо… Слишком много совпадений. Она поблагодарила Соню, оставила телефон, и пустила под ноги город.Днём она завела часы. Сначала туго, как будто кто-то в них жил и сопротивлялся. Она толкнула маятник, тот лениво пошатнулся, словно неподкупная птица на ветке. Тиканье разрезало комнату, словно впервые разделив её на «до» и «после». В этом тиканье не было спешки. Оно не требовало ничего, кроме того, чтобы быть рядом и слушать.
Под вечер пришла Соня, принесла пирожки – «по традиции», сказала она – и приглашение на закрытую репетицию в Дом культуры. Она с заговорщицким видом наклонилась к Мире:
– Вообще туда пускают только исполнителей и организаторов, но я договорилась. Думаю, вам важно быть там.
Они пошли под луной, которая выглядывала из-за тополей, словно любопытный ребёнок. Дом культуры теперь был меньше, чем в детстве, но он дышал всё тем же запахом лака, пыли и надежды на чудо. В маленьком зале сидели музыканты, на сцене стояла виолончель, и рядом с ней – он. Глаза – смуглые, брюнетные, как полночь. Голос – тихий, мягкий, от которого у тебя начинают дрожать кисти, как от первого морского ветра в мае.
– Мы начнём, – сказал он. – Послушайте, пожалуйста. Это – письмо.
Музыка была похожа на шёпот. Она начиналась из ниоткуда, как капля, падающая в колодец, и расходилась кругами. В этих кругах Мира слышала собственные шаги по коридору детства, бабушкино «суп готов», дождь, и то, как часы в соседней комнате в полшестого роняли на массивный ковёр маленький звук, напоминавший улыбку.Антон поднял глаза, и на секунду что-то осветило его лицо – взгляд, как если бы он узнавал. Пальцы виолончелистки шли мягко и точно, как золотые рыбки, пробегающие по воде. Когда музыка закончилась, Мира не знала, как встать. Она была ближе к чему-то, чем за последние десять лет.
Соня сжала ей локоть:
– Пойдёте поздороваться?
– Он меня не вспомнит.
– А вы попробуйте.
Антон разговаривал с организаторами, смеялся. Смех был таким же: как тонкая река, бегущая по камням. Мира подошла и почувствовала, что знает, где у него на щеке белёсый шрам – он появился, когда он катался на велосипеде без рук и упал. Она знала это не потому, что помнила, а потому, что музыка сказала ей.
– Антон, – произнесла она. Сухо, потому что слезы укатились обратно по горлу.
Он повернулся и по-настоящему удивился:
– Мирка?
Его ладонь легла на её плечо так, будто всё это время не было ни Петербурга, ни фестивалей, ни тихих зим, где они были чужими людям, а родными – лишь снегу. Потом он стал серьёзным, как мальчик, который понимает правило игры впервые.
– Ты… – Он замолчал. – Я сейчас скажу что-то глупое. Ты поменялась и не поменялась. Можно – я буду смотреть, чтобы понять?
Они ушли в пустой коридор, где лампы жужжали не хуже вызванного мотыльком лёгкого сумасшествия. Антон облокотился о стену и, как раньше, когда он придумывал с детьми мелодии из трёх нот, потер виски.
– Сколько лет прошло? – спросил он.
– Десять. Нет, больше. Двенадцать.
– Ты исчезла.
– Я уехала. Сначала в университет, потом – работа. Я думала, что надо много успеть. Много доказать.
– Кому?
– Тому, кто в зеркале всё время сомневается. И – тебе, наверное. Я всегда чуть боялась твоего света. Он был слишком честным. – Она улыбнулась горько. – Ты смотришь на человека так, что нечем прикрыться.
Антон опустил глаза. Его голос стал ещё тише.
– Я уезжал, потому что мне казалось: если я останусь, я не стану тем, кем должен стать. Но уезжая, я потерял… – Он искал слово. – Место.
– Дом.
– Да. Дом. Я теперь понимаю: дом – это не стены, это ритм. – Он улыбнулся глазами, узнал её часы. – У нас дома в классе были часы на половину шестого. Помнишь?
– Они у меня. – Мира улыбнулась уже по-настоящему. – Вчера завела.
– А я написал «Письмо». Письмо – для комнаты, где остановились часы. Я ездил по городам, сидел в номерах, считал выступления, а возвращался всегда туда – где тиканье говорит: «Не торопись». Это письмо – тебе. – Он удивился собственным словам и не стал отступать. – И бабушке твоей. И тем детям, которые, может, уже выросли, но ещё не забыли, как звучит снег, когда ты будешь его слушать, а не просто идти.Мира ещё не вставила свои слова в эту музыку. Она вдыхала и выдыхала, пока двери не распахнулись, и в их коридор хлынули голоса, хлопки, кофе из буфета, короткие новости жизни. Антон близко наклонился к ней и сказал:
– Завтра в четыре перед концертом я там, у реки. Хочешь – приходи. Просто посидим и послушаем.
Она кивнула.
Дома она снова завела часы и выпила чай из бабушкиной чашки с побитым краем. В окно смотрела луна, та самая – чья игра давно уже не удивляет, а успокаивает. Мира думала о том, что за это время она научилась всем глаголам деловитости: справиться, успеть, закрыть, отчитать. Но она забыла главный – быть. Она вдруг очень сильно захотела быть – рядом с ним, рядом с собой, рядом со всем, что было, есть и будет. И в этой простоте ей перестало быть страшно.Река была зелёной, вязкой, как если бы лето, уходя, оставляло себе право ещё чуть-чуть задержаться. Антон пришёл с палочкой, которую нашёл на тропинке. Он постучал ей по перилам, опять тихо засмеялся:
– У дерева тоже есть ритм. Слышишь?
– Слышу, – сказала Мира, и её ответ был правдой. Они стояли, как мальчик и девочка, как мужчина и женщина, как два человека, у которых у обоих есть прошлое. Это не мешало, а помогало: они были, как две страницы одной книги – с разными словами, но с одним смыслом.
– Скажи, – спросил он спустя время, – тебе хорошо там, где ты живёшь?
– Стало слишком тихо от чужих голосов. – Она задумалась. – И слишком громко от моего.
– Хочешь уехать?
– Не знаю. Я думала – да. Но теперь… – она посмотрела на воду. – Теперь кажется, что главное – не уехать. Главное – приехать окончательно туда, где я буду слушать. Внутри.
– Это не зависит от города, – сказал он. – Это зависит от тех, с кем ты дышишь.
Они выпили кофе из термоса Сони. Соня появилась неожиданно, как обычно, с своими веснушкам и справедливостью библиотекаря, считающего, что мир должен быть немного более повязан на чудо, чем он есть.
– Я только на секунду! – сказала она. – В четыре пятнадцать репетиция. Тут – печенье. И – не забывайте: сладкое усиляет доброту. Наукой доказано моей внутренней лабораторией.
– Спасибо, – сказала Мира.
– Спасибо, – сказал Антон. – Кстати, Соня, мы решаем серьёзные вопросы.
Соня сделала важное лицо, подняла ноги на носки и шепнула, как актриса:
– Тогда я уйду и дам вам пространство для ваших серьёзных вопросов. Но помните: в четыре пятнадцать.
Когда она ушла, они с Антоном снова замолчали. И оказалось, что молчание – это не пустота, а разговор двумя сердцами, которые на секунду делают одинаковый вдох.
– Ты останешься на концерт? – спросил он.
– Да.
– Я буду играть так, как будто ты сидишь в той комнате, где стоят часы, – сказал он. – И как будто всё, что мы не сказали, и не надо говорить – потому что ты услышишь.
Она кивнула, и всё было уже решено.
В зале было полно людей. Кто-то пришёл от тоски, кто-то – из привычки, кто-то – от любви к музыке, кто-то – за новым фото в ленту. Антон вошёл на сцену просто. Он не был похож на гения. Он был похож на человека, который научился слушать тишину между звуками. Когда началось «Письмо», у Мира дрожали руки. В тех звуках было всё: маленький страх перед тем, что ты окажешься недостаточным, бабушкина ладонь, убаюкивающая этот страх, смешной дождь, ленивое утро, и вдруг – щёлчок дверной щеколды, словно кто-то вошёл, и ты понял: тот, кого ты ждал, – ты сам.В конце концерта люди встали и аплодировали. Антон опустил палочку, поклонялся, улыбался. Мира не хлопала. Она сидела и плакала – тихо и свободно, как летом плачут реки. Соня села рядом, обняла её одной рукой, как умеют обнимать люди, знающие цену библиотечным тишинам и чужим слезам. Так можно – быть вместе, никого не спрашивая, чья это музыка.
После концерта они вышли на улицу. У Дома культуры пахло фундуком и дымом от костра в соседнем дворе. Воздух был густой, как мед, и лёгкий, как та мысль, к которой ты долго шёл.
– Поехали ко мне?
– спросил Антон. – На пять минут. Я расскажу тебе… впрочем, не расскажу. Покажу.
Он жил в гостевом доме у реки. Комната была пустая, почти монашеская: кровать, стол, зелёное стекло бутылки с веткой полыни и ноты. На стене висела карта города, нарисованная им самим – с изломанными линиями троп, которые помнят только дети и музыканты.
– Вот, – сказал он и достал откуда-то маленькую коробку. В ней лежала старая кассета. – У меня остался магнитофон. Хочешь – послушаем?
Звук был шероховатый, как шерсть старой кошки. На плёнке была записана детская репетиция, и где-то в середине – голос девочки, чистый, как утренний лёд. Это была она. И рядом – его голос: «Ещё раз. Слушай. Ты можешь сыграть это… но сначала послушай».
Мира улыбнулась через слёзы и выключила магнитофон.
– Ты сохранил это?
– Я не знаю, как вещи находят меня. Но они находят – и остаются.
– Тогда… – сказала Мира, в воздухе зазвенел невидимый колокольчик, – скажи мне, зачем мы старались быть кем-то другим? Для чего мы уходили от себя кругами?
Антон посмотрел на неё долго.
– Чтобы вернуться и признать: мы – это то, что остаётся, когда все роли сняты. И чтобы, когда вернёшься, было кому сказать «спасибо». Потому что без этого пути я бы не услышал тебя.
Они стояли в этой комнате, где стены были молчаливыми свидетелями. И вдруг он протянул руку. Это было не движение «возьми» и не «подойди». Это было «я здесь», без условий. Она вложила свою ладонь, и ничего не стряслось. И случилось всё.Никто не приходит в нашу жизнь полностью готовым выдержать нас, думала Мира, глядя на его лицо. Мы не бесшовны. Мы учимся сшивать нежно. Сначала грубо, узелком – через пальцы, через чужой шрам. Потом – мягче, ровнее. Так сорочка начинает пахнуть домом.
Они не говорили много. Слова были бы лишними. За окном клацнул трамвай, в комнате пахло пылью ноты, а на полке тихо опустился на бок карандаш – и это было событием. Мы часто бежим, чтобы избежать встречи с собою. Но иногда надо просто прийти в комнату, завести часы и послушать.Она осталась. Не в этот вечер и не в эту ночь – жизнь редко делает резкие повороты без перестраховки. Но спустя неделю она позвонила начальнице и сказала: «Я возьму отпуск. Нет, я возьму время». Она перестала ездить в центр каждый день, начала помогать в библиотеке – на полставки, чтобы разбирать архив и выслушивать стариковские истории, из которых ткутся города. Антон репетировал вечером, утром они вместе пили кофе, а днём в комнате, где часы тикали и не спешили, Мира училась снова слышать. Иногда они спорили – о соль мажоре и о здравом смысле, о том, почему Соломея из булочной не перестаёт улыбаться, и о том, как правильно варить джем из ананаса, если у тебя нет ананасов. Но всё это были разговоры, за которыми слышалась одна и та же тишина – не пустота, а полнота.
– Я боюсь, – сказала она как-то вечером, когда луна бровью чертила на шторе бледную линию. – Что если это – ненадолго? Что если ты уедешь и снова забудешь мой голос.
Антон сел рядом и покачал головой.
– Хотеть навсегда – одна из наших детских иллюзий, – сказал он. – Хотеть быть – вот что важно. Я уеду, возможно. Я буду приезжать. Я буду писать. Может, ты решишь, что тебе нужны границы и другое небо. Но, Мир, если мы научимся слушать скоро и честно, мы перестанем терять друг друга даже в разлуке.
– Я хочу научиться, – сказала она. – Я хочу слышать тебя, когда ты далеко. И себя, когда ты рядом. И мир, когда я в тишине.
– Тогда – давай заведём часы и обнимем это мгновение. Оно – единственное.
Они завели часы. Маятник качнулся – левее, правее, мягко. И в этом движении, простом и неумолимом, было всё, что отзывалось в них, как тёплый звук в деревянной чаше.Осень пришла внезапно. Листья вспыхивали, как письма, написанные на бумаге с секретом. Люди собирали урожай и строили планы, кто-то женился, кто-то уходил. В один из таких дней Антон сказал, что ему нужно на месяц в Петербург: премьера «Письма» в Большом зале. Мира кивнула. Она внутренне готовила себя к его поездке, как человек заранее гладит пальцами карту, по которой будет идти.
– Возвращайся, – сказала она без пафоса.
– Я вернусь, – ответил он, и в его голосе не было обещаний больше, чем он мог сдержать. Было – присутствие.
Они стояли на перроне, где когда-то электричка выплюнула Миру в этот город, и теперь – она привечала того, кто стал его голосом. Поезд подошёл, люди аккуратно спотыкались о свои сумки и мечты. Антон обнял её. Не долго. Но достаточно, чтобы всё стало на свои места. Потом он ушёл в вагон, и Мира осталась в этом последнем такте, где сердце бьётся чуть быстрее, чем уместно.
Она вернулась домой, завела часы. Села за стол и открыла тетрадь. Написала: «Письмо для одной комнаты»; ниже – «Ответ». И стала писать, не останавливаясь. Она описывала свою жизнь так, как если бы переписывала музыку, чтобы не потерять ни одной темы. Она писала: «Сегодня я услышала, как ползёт солнце по стене». И: «Сегодня я снова научилась улыбаться без причины». И: «Соня принесла яблоки, и мы решали судьбу брошенной собаки. Судьба – счастливый двор и ребёнок по имени Миша».Вечером она отнесла письмо на почту. Смешно, но ей хотелось именно так: не по почте электронной, а чтобы бумага пахла её пальцами. Она отправила его в Петербург, на имя концертного зала – «для Антона Руссо, чьё письмо я услышала», и на обратном адресе написала просто: «Комната, где остановились часы».
В ответ пришла открытка – через восемь дней, как старое чудо. На открытке было нарисовано море. «Я играл и думал о твоём дыхании, – писал Антон. – Мне показалось, что я слышу, как маятник качается – и это удержало меня от лишнего звука. Спасибо, что слушаешь. Я скоро вернусь»Он вернулся. И снова уехал. Так и началась их жизнь: с поездов и возвращений, с телефонных ночей, где вместо слов они иногда слушали тишину, потому что знали – это ближе, чем любое «как дела». Иногда было трудно. Иногда – смешно. Иногда – недосказанность и уязвимость. Но всё это уже было их музыкой, их письмом для комнаты, где остановились – не стрелки, нет, – а бег.Однажды, зимой, когда город замело так, что казалось, он превратился в сахарную скульптуру, и у каждого дома выросли крошечные антарктиды, Антон вернулся и привёз небольшой чёрный футляр.
– Открой, – сказал он.
Внутри была маленькая подставка для часов, вырезанная из вишни. На ней было выжжено слово: «Слушай». Она была похожа на ту странную надпись на старом циферблате – только теперь она звучала как приглашение, а не как указ.
Мира поставила часы на подставку. Они смотрелись так, будто нашли предназначенное место.
– Знаешь, – сказала она, – я всегда думала, что любовь – это о большой судьбе, о потрясениях и конце света. А оказалось – о малых вещах, которые повторяются и делают нас настоящими. Про то, как ты возвращаешься домой и снимаешь ботинки, и ты – дома. Про то, как мы завариваем чай и молчим. Про то, как ты уходишь и возвращаешься. И я – остаюсь, и встречаю. И всё это – то, что умеют делать часы: повторяются. Но именно в этом повторе – глубина.
Антон обнял её, прислонился лицом к её волосам, и Мире показалось, что у каждого волоска есть собственная нота, и если сложить их все, получится музыка, которую нельзя записать на бумаге.
На стене тени играли в шахматы, луна засматривалась в стекло. Часы тикали. Любовь была не бурей и не штилем – она была морем. И если слушать её, можно было увидеть, как любое «навсегда» растворяется в «сейчас», и как «сейчас» делает «навсегда» возможным.Так они и жили: в комнате, где остановились часы, но не остановилось время. Они научились слышать свой мир – тихий, тёплый, иногда с перебоями и ложными нотами, но без фальши. И – если прислушаться – можно было уловить самый важный ритм на свете: два сердца, которые настраиваются друг на друга. И, настраиваясь, остаются собой.
Ночная электричка
Ночная электричка в сторону залива уходила из города на удивление тихо, будто боялась нарушить хрупкое равновесие между ушедшим днём и ещё не начавшейся ночью. Эмма сидела у окна и смотрела, как скользят огни платформ, как в стекле отражаются редкие лица. Она ехала в посёлок, где ей предстояло провести неделю – помогать старенькой библиотеке с каталогом. Непривычная работа для журналистки, но денег сейчас было мало, и она решила, что смена обстановки не помешает.В темноте поездных звуков и запаха металла и пыли ей вспоминался последний разговор с Кириллом, бросивший тонкую тень на всё, что она делала в последние два месяца. Слова, которыми они ранили друг друга, всё ещё ощущались в горле, как горячий кусок угля: едва вдохнёшь – и больно. Она ловила себя на том, что вспоминала его пальцы, как они держали чашку, глаза, которые смеялись, когда он рассказывал мелочи, его осторожные прикосновения. И сразу же поднималась волна злости: он забыл её так быстро. Или ей казалось? Она заставила себя отвернуться от стекла и достала из сумки тетрадь – ту самую, где на полях всегда жили какие-то незаконченные строки.
– Нельзя же так, – сказала сама себе, и голос, тонкий, усталый, потерялся в шорохе колёс.
Поезд остановился почти беззвучно. За дверью был тёмный перрон, пахнувший сыростью и травой. Посёлок встречал Эмму прохладой и шевелящимся в тьме сосновым воздухом. Она ловко подхватила чемодан и направилась к низкому дому рядом со станцией: там в этот час ночевала дежурная по станции, тётя Рая, которой библиотекарша, эта легендарная Нина Ивановна, заранее позвонила.
Тётя Рая оказалась маленькой, светловолосой женщиной с чёткими, как у птицы, движениями. Она поставила перед Эммой чашку чая, улыбнулась и спросила:
– Писать приехала?
– Каталог составлять, – ответила Эмма. – Для библиотеки.
– Ну да, ну да, – кивнула тётя Рая. – Тут всё про написание думают. Писателей у нас больше, чем рыбаков, если с учётом тех, кто хотел. Тебя по утрам в библиотеку провожу. Не заблудишься, конечно, но я провожу.
– Спасибо.
Ночью Эмма долго не могла уснуть. Деревянный дом скрипел, как корабль, и ей казалось, будто всё вокруг – вода. Эмма положила ладонь на своё сердце – оно стучало быстро, но ровно. Она думала о том, какие новые имена встретит в каталоге. Иногда книги – как люди, внезапно оказываются родными; иногда – уходят, едва успев коснуться. Она повторила это мысленно, как заклинание, и незаметно провалилась в сон.Утро было прозрачным. Воздух пах хвоей и солью, и свет лежал на дорожках тонкими полосами. Библиотека оказалась маленьким, светлым домом с белыми наличниками. У входа – деревянная лавочка, на которой сидела и читала рыжую книжку сама Нина Ивановна – высокая, худощавая, с очень прямой спиной. Она подняла на Эмму ясные, немолодые глаза и улыбнулась так, как улыбаются людям, которых давно ждали.
– Вот ты и пришла, – сказала она. – Проходи, у нас какао.
Внутри пахло пылью, кактусами на подоконнике и лимоном. Книги стояли аккуратно, но карточек было мало. Нина Ивановна показала на стол у окна, заваленный бумажными стопками.
– Это тебе, – произнесла она. – Десять ящиков в подвале. Но не пугайся. Там больше альбомов. Ах да! И не бойся старика с чердака.
– С кого?
– С чердака. У нас тут художник живёт, приглядывает за крышей. Имя у него тяжёлое, Виктор что-то там. Я забываю. Он по утрам приносит нам яблоки.
Эмма улыбнулась. В голове мелькнула сцена: художник, обитающий на чердаке библиотеки, в белой рубашке, со следами краски на пальцах, торжественный, как образ в старом фильме. Она отмахнулась от этого смешного образа.
Работа пошла легко. Через час на столе уже выстроились аккуратные карточки: шрифт у Эммы был очень ровный. Она слушала, как за стеной кто-то переставляет стулья, как поскрипывает лестница на чердак. Вскоре послышались шаги и тихое «простите», и в комнату вошёл мужчина, нёс корзину с зелёно-румыми яблоками.Он был совсем не таким, как представился Эмме. Никакой белой рубашки. Серый свитер, в котором было тепло, чуть растрёпанные тёмные волосы, сухие сильные руки. Он поставил корзину на стол, посмотрел на Эмму с осторожным интересом и кивнул.

