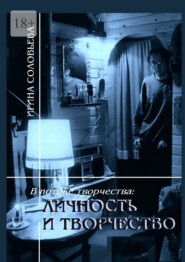
Полная версия:
В потоке творчества: личность и творчество. Книга шестая
В начале 70-х, когда старую Москву начали сносить, а её обитателей вывозить в новые районы, то в посёлке Бирюлёво, как и по всей окраине города стали расти так называемые спальные районы. В первое время количество действительно коренных москвичей, переехавших сюда из центра, было критически мало в сравнении с теми, кто осел здесь по временной прописке. Досуг народа был до невозможного примитивен, и если взрослые сперва пили и только потом выясняли отношения кулаками, пытаясь разобраться кто и откуда приехал, то подростки делали это сразу, а выпивали опосля. Весь район был поделён на так называемые кварталы, а по-простому зоны, имевшие свои же местные названия типа «Китайской стены», «Муравейника», «Ромашки», «Снежинки», «Пьяного дома», «Гадюшника» или кратко «Общаги около стекляшки». В каждой зоне имелись свои собственные авторитеты, как правило ребята не старше 16 лет, выросшие из шпаны до хулиганья, и имена которых, если не хочешь, чтобы тебе наваляли, желательно было знать.
В подростковую историю того периода навсегда вошли погоняла Седой, Ерик, Серый, Евмен, Мирон, Коба, Шеф, Гога, Жилин, Геша Борзый, Гопак, Кадык, Харя, Антена, Лёха-сука и другие. Судьба многих из них продолжилась в подростковой колонии, а в лихие 90-е большинство подранков подалось в банды рэкетиров и вымогателей, «крышуя» местные кооперативы, рынки и бензоколонки, и в результате закончив свой путь, на так называемой аллее братков на Хованском кладбище.
Конечно же школа в районе новостроек не шла ни в какое сравнение с той, где Игорь учился до 6-го класса, причём не только своими учениками, но и учителями, большинство из которых достаточно слабо разбирались в собственном предмете, и почти всё внимание уделяли порядку в классе, боясь, что не дай бог, произойдёт нечто такое, за что учителя привлекут к ответственности и не только административной. А на выдумки шпана была горазда и помимо выцарапывания на партах и стенах матерных слов, засовывания спичек в замок от кабинета и подкладывания под задницу тихонь, а то и учительницы кнопок; шпана ещё мастерила брызгалки, начинённые солевыми растворами, от попадания которого в глаза, те начинали болеть и слезиться; делала из заколок для волос рогатки, а то и что посерьёзней – «духовушки» и самострелы, и даже конденсаторы, добываемые из ламп дневного света: вариант современных электрошокеров.
Но главным аргументом хулиганья были, конечно же, кулаки, ноги, ну и кастеты, а позже, когда страна погрязла в моде на восточные единоборства – нунчаки. Основным делом авторитетного, простите, недоумка – было сперва запугать, а потом и унизить того, кто не мог, а чаще не хотел давать сдачи, видимо потому, что после этого недоумок зверел и приводил с собой шалман таких же, как и он, а те уже расправлялись с дерзнувшим перечить не на шутку.
Помимо прочего шпана держала под контролем сугубо свою часть района, защищая его от посягательств «чужаков», а заодно и обирая своих, так что блатному пацанью было не до учёбы: дел, как говориться, хватало. Приблатнённые юнцы, не вписанные в шайку, работали по мелкому: отнимали медяки у всех, кто их имел, снимали ремни, шнурки, пуговицы, в общем всё, что блестело. Зарвавшаяся мелкотня, прикрываемая собратьями, а то и братьями из ПТУ и техникумов, подобно воронью, забирала себе всё, что можно было отнять. Непонятно, правда, зачем, но факт есть факт.
Иногда у местной гопоты случались приступы добра, и тогда они одаривали только что ими же ограбленного, но проявившего, по их мнению, стойкость, чем-то вроде жвачки, естественно немногим ранее стыренной у такого же чувака. Разобраться во всём этом было невозможно, а потому оставалось рассчитывать только на везение. Даже кулаки не помогали: один раз отобьёшься, а потом тебя просто забьют в подъезде всем скопом.
Шутки шутками, а выживать надо, и Игорь этому учился каждый день. Здесь так: либо драться до победного, как поступал в их школе некий Дьяконов, в результате забитый Ериком и Евменом до полусмерти, либо брать верх интеллектом, пользуясь тем, что большинство хулиганья было тотально неграмотным, порой, не умея даже нормально сосчитать в уме простейшие примеры. Игорь таким и помогал: давал списывать и решал за них контрольные и вскоре попал под защиту местной гопоты. Что поделать, но жить, вернее, выживать, хоть как-то, но всё-таки надо…
Но перелистнём эту страницу и узнаем о другой школьной жизни, всё-таки СССР – страна развитого социализма, которая старательно стремилась улучшить жизнь своего народа. И, несмотря на тоску и нищету московских окраин, люди жили и свято верили в добро. И дети тоже верили в лучшее и старались жить и учиться, «как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия», а как известно из лозунгов того времени «народ и партия – едины». А теперь возьму другую ноту в своём повествовании об отроческих годах Игоря Алексеева и расскажу о том, как жили простые советские люди и их семьи на примере жизнеописания моего героя. И всё это было, и всё это правда! Прилетели ангелы и разогнали тучи!
Большое увлечение филателией
Началось оно с того, что 4 ноября 1972 года восьмилетнему Игорю отец подарил альбом с марками. Воистину, этот подарок оказался тем самым волшебным ключиком в мир знаний, который найти совсем не просто, а этот появился в руках Игоря совершенно неожиданно и в нужный час. Даря альбом, Аркадий Павлович и не представлял, что через пять лет сын станет настоящим коллекционером, будет разбираться во многих тонкостях полиграфии и печати, связанных с филателией, а ведь так оно и случилось. К 14 годам Игорь действительно прекрасно разбирался в филателии, владел терминологией, а в пятнадцать являлся членом ВОФ (Всесоюзного общества филателистов).
К концу 1976 года, увлечение коллекцио-нированием марок довольно быстро отошло от обычного собирательства и обрело для него особую серьёзность. Теперь в его альбомах появилась своя логика, эстетика подачи материала и систематизация. Большое влияние на него оказал Иван Ламочкин, его ровесник, с которым они случайно познакомились в начале этого года прямо во дворе, который, как оказалось, жил в том же доме, что и Игорь. Ваня тоже переехал на новую квартиру и тоже этим летом, а до этого жил на улице Веснина (сегодня это Денежный переулок) в районе Арбата, которая находилась недалеко от Смоленской площади, а там и до Плющихи рукой подать. Ребята на редкость быстро подружились и все дни напролёт проводили вместе. И только школьное время, ну и ночное их разлучали. Ваня учился в школе №925, где был французский язык, потому что до этого он ходил на занятия во французскую спецшколу.
Несмотря на стеснительность, Игорь всегда был общительным ребёнком, но то как стремительно развивались его отношения с Иваном, не вписывается ни в одни привычные рамки мальчишеской дружбы. Рассказывая об этом, прежде всего, следует отметить, что это была не просто дружба, а изумительная пора для обоих, время достойное писательских страниц в лучших романах отечественной и зарубежной классики для детей и подростков.
«Мальчики на редкость были верны друг другу и в слове, и в деле, – вспоминает мама Игоря, – им никогда не было скучно вдвоём, и они постоянно что-то мастерили и придумывали, начиная от собственных настольных игр, заканчивая конструкциями, основанными на знаниях в области науки. Проделывали опыты по механике и гидравлике, а помогали им в этом журналы «Юный техник», «Моделист-конструктор», «Техника молодёжи», «Наука и жизнь», которые выписывали не только мы, но и семья Ламочкиных. Конечно же я многого не знаю, но то, что проходило на моих глазах, вызывает не только удивление, но и подлинное уважение. Помимо прочего, ребята довольно прилично освоили фотографию и кино, увлеклись рисованием и лепкой, домашним театром с написанием сценариев, изготовлением кукол и постановкой спектаклей, увлекались кулинарией, занимались посильным спортом, музыкой – играли дуэтом на гитарах. Какое-то время Игорь учил французский, потому как каталог марок9 был на французском языке. А ещё, под руководством Ваниной мамы Татьяны Ивановны, – увлеклись наукой – ставили физические и химические опыты дома, а под контролем Аркадия Павловича изобретали авторские ребусы, шарады, головоломки и составляли кроссворды для газет. Ну и конечно же, оба они были заядлыми коллекционерами, причём это касалось всего, что только можно придумать и попадало им под руку, начиная от монет10, значков и камней, заканчивая открытками, конвертами, машинками, моделями для детской железной дороги, карманными календариками, фантиками, ну и почтовыми марками. Оба были книгочеями, составляли домашнюю библиотеку: и у нас, и у Ламочкиных она, по тем временам, была очень большая. Ребята сделали опись и полный каталог всех книг. Замечу, что всё это происходило помимо учёбы в школе. И это-то в тринадцать-четырнадцать лет! Помимо прочего мальчишки регулярно посещали театры и музеи. И всё же, это были абсолютно домашние дети, настоящие домоседы и на улицу выходили с неохотой и только по необходимости. В основном сидели дома и всё время что-то мастерили в комнате Игоря или у Вани, который жил ниже нас – на 4-м этаже, в кв. 27.
Помню у нас с отцом даже сложилась шуточная поговорка, характеризующая их обоих: «С Ваней на диване», – говорили мы, когда хотели как-то подтрунить над ними, подчёркивая их времяпрепровождение. Несмотря на домоседство, ребята вдвоём записались в секцию большого тенниса в Лужниках, участвовали в турнирах и даже имели разряд. А ещё они приобрели абонемент на лекции по истории и математике от общества «Знание», проводившиеся в те годы в старом здании МГУ на Моховой, и вдвоём почти три месяца их посещали, а мы по очереди их встречали, так как ездить было далеко, а возвращаться приходилось поздно вечером.
Зимой друзья по абонементу посещали бассейн «Москва», учились плаванию, правда мало результативно, потому что больше плескались и ныряли безо всякого руководства. Ещё под инструктажем моего мужа занимались лыжным спортом, а по воскресеньям устраивали с ним шахматные турниры.
Это была одна из редких, можно сказать феноменальных подростковых дружб, которая по неведомым никому причинам за короткие сроки настолько развила каждого, что остаётся только удивляться, как это вообще могло случиться. Во многом именно благодаря увлечению филателией, сын прекрасно знал историю и неплохо разбирался в изобразительном искусстве, ботанике и биологии, довольно легко ориентировался в событиях отечественной науки и знал географию, причём настолько хорошо, что учительница была уверена, что его родители, как минимум преподаватели, а то и учёные, чья деятельность связана с путешествиями —
геологи, зоологи или археологи. Думаю, что марки сделали своё решающее дело в образовании моего ребёнка, и несмотря на низкий уровень школьных учителей в новом районе, они позволили Игорю достигнуть должного уровня образованности, хорошо учиться в средней школе и остаться примерным учеником вплоть до поступления в институт, когда уже другие и встречи, и связи продолжили его образование, но теперь уже с иными, более современными, методами и подходами».
Безусловно, что марки занимали особое, можно сказать, исключительное место в отрочестве Игоря, поэтому остановлюсь на этом подробнее. Поскольку Игорь был членом ВОФ, то его собрание представляло интерес, и о нём иногда выходили статеечки и заметки в журналах сообщества. Сама же коллекция была не только собранием зарубежных марок, но по большей части, отечественных, составляющих почти две трети от общего числа в коллекции, а это порядка нескольких тысяч. Всего было 12 альбомов-кляссеров, причём самого большого размера, который можно было приобрести в то время и то, являясь членом ВОФ. Среди марок, безусловно, были настоящие раритеты, стоящие немалых денег, попавшие в руки Игоря случайно, буквально отпаренные с конвертов, найденных им на помойках тогда ещё старой Москвы. Имелись спецгашения, картмаксимумы, старинные почтовые артефакты и достаточно большой обменный фонд. Естественно на собирание ушли годы, да и немалые средства семьи, а участвовали все её члены от отца и мамы до дедушки. Коллекция была закрыта с распадом СССР, и сегодня представляет из себя весьма серьёзное собрание филателистического наследия семидесятилетней советской эпохи. Позже она полностью была передана Игорем в дар своему школьному другу Валерию Киселевскому.
Исследуя отрочество моего героя, отмечу, что в этот период будущий писатель и поэт Терентий Травник начинает анализировать прочитанное и формировать своё мнение в небольших заметках. Он уже умеет оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи, в нём развиваются такие навыки, как классификация, аналогия, обобщение и другие. С интеллектуальным развитием тесно связано начинающееся в этот период становление основ его мировоззрения, приобретается достаточно взрослая логика мышления, происходит дальнейшая интеллектуализация подросткового восприятия и памяти.
С общим интеллектуальным развитием в период отрочества связано и развитие воображения. Известно, что именно сближение воображения с теоретическим мышлением, даёт импульс к творчеству: Игорь начинает писать стихи, серьёзно занимается разными видами конструирования, макетирования и тому подобное. Потребности и чувства, переполняющие его, выплёскиваются в воображаемые ситуации. В свой мир фантазий он никого не допускает, но может рассказать о них только самому близкому другу – Ване. Игра воображения не только доставляет обоим удовольствие, но и приносит успокоение юному Алексееву. В своих фантазиях он начинает лучше осознавать собственные влечения и эмоции, именно в период отрочества он впервые начинает представлять свой будущий жизненный путь, где его смутные побуждения предстают теперь в яркой образной форме.
Психология отрочества
Опираясь на психологические исследования о человеке в отроческий (подростковый) период, психологи отмечают, что именно в этот короткий промежуток времени между детством и юностью, формируются многие особенности личности, сильно влияющие на его дальнейшую жизнь. Отрочество в жизни каждого человека – это период, когда подросток начинает ценить свои отношения со сверстниками. Общение с теми, кто обладает таким же, как у него, жизненным опытом, даёт возможность подростку оценивать себя по-новому.
В возрасте, примерно 11—12 лет у Игоря. возникает интерес к своему внутреннему миру, а затем происходит постепенное усложнение и углубление самопознания. Сложные переживания, связанные с новыми отношениями, свои личностные черты, поступки анализируются им пристрастно. Мальчик старается понять, какой он есть на самом деле, и представляет себе, каким он хотел бы быть. Познать себя ему помогают друзья, а также близкие и взрослые, и даже… хулиганы, в которых он смотрится, как в зеркало, в поисках сходства. Личностная рефлексия, потребность разобраться в себе самом порождают и исповедальность в общении с ровесником, и дневники, которые начинают вести именно в этот период, стихи и фантазии. С развитием самоанализа и самосознания связаны и возникающие в подростковом возрасте склонность к уединению, чувство одиночества, непонятости и тоски. Эти новые состояния, не свойственные детям младших возрастов, проявляются в аффективных вспышках и появляющейся вдруг необъяснимой замкнутости. В это же время в характер отрока Игоря закладываются и лидерские черты.
Терентий абсолютно уверен, что становление характера начинается с самого детства, аргументируя свои слова тем, что и дурное, и хорошее в зависимости от силы потрясения и переживания, биохимическими методами фиксируется в каждом, и остаётся с нами на всю жизнь. Любая шутка взрослого, оплошность, злость, воспринятая ребёнком чересчур эмоционально, разовьёт в нем то, от чего он будет страдать всю оставшуюся жизнь. Он будет бояться, грубить, завидовать, ревновать, врать, лениться, хитрить – лишь только потому, что это подобная отметина есть в нём с самого детства, как следствие воздействия из ряда вон выходящих ситуаций, пережитых им с максимальной душевно-болевой чувствительностью.
Но думаю, что не всё так однозначно, если принять во внимание не только причинно-следственные связи семейных и детско-родительских отношений, но и ко всему ещё и родовые корни конкретного человека. Но это отдельная тема: мы же вернёмся к нашему герою, к первым невинным влюблённостям маленького Игоряши, которые во многом являлись опосредованными проявлениями сублимированной творческой энергии будущего художника, музыканта и поэта.
Мальчишка и девчонки: завершение
Летом 1976 года Алексеевы переехали в новую квартиру, в московский район Бирюлёво Западное, находящийся настолько далеко, что единственным способом добраться до Центра11 оставалась только электричка. Автобус до станции м. Варшавская стал ходить позже, когда была построена эстакада через Курскую ж/д. Несмотря на то, что общее время маршрута составляло около 45 минут, жители восприняли эту новацию с большим энтузиазмом. Народ оживился и кое-кто стал даже поговаривать о скором строительстве метро. Стоит отметить, что изначально район заселялся обычными рабочими завода ЗИЛ и других предприятий. Помимо этого, он был частично заселён так называемой «лимитой» – людьми из провинциальных городов, в советские времена привлечённых в Москву в качестве рабочей силы на крупные промышленные предприятия. С тех пор прошло около полувека, район разросся, обзавёлся неплохой инфраструктурой, население выросло с 40 тысяч до почти 90, но метро так и не построили12.
В сентябре Игорь пришёл продолжать учёбу в лучшую бирюлёвскую школу тех лет, №928, правда, записали его в 6 «Д» класс. Для ученика, до этого знавшего только два класса «А» и «Б», где «Б» считался более слабым, попасть в класс «Д» означало очутиться в классе для самых отстающих, кстати «Дэшников» и дразнили в школе – дураками. Причина, как оказалось, была совсем в другом: школ в районе новостроек катастрофически не хватало, а детей в районе было излишне много, поэтому и появлялись классы «А, Б, В, Г, Д и даже Е», причём в каждом училось не менее тридцати, а то и сорока ребят, так что делайте выводы правильно13. Проучившись пару лет, он перешёл в совсем новую школу №933, где было четыре восьмых класса, а после выпускных экзаменов, остался лишь один 9 «А». Две трети ребят ушли учиться в ПТУ, такова была успеваемость в спальных районах города. Класс, в котором оказался Игорь, попав в школу 933, впрочем, как и вся школа был буквально нашпигован хулиганьём и шпаной всех мастей. Алексеев старался общаться только с теми, кто переехал из центра. Стоит отметить, что девчонки в классе были преимущественно из семейных общежитий, а потому и смелыми и даже дерзкими. Их обхаживали ребята постарше и тоже шпанистые, так что моему герою оставалось только мечтать о чистой и светлой, исключительно платонической любви.
В мечтах прошли первые два года бирюлёвской жизни, а в 1979 году в класс пришла новенькая огненно-рыжая Лена Зилинская и Игорь вновь влюбился, причём, как то обычно бывало – окончательно и бесповоротно, да ещё и так, что резко стал падать в успеваемости. Как говорится – не до учёбы, когда вся голова забита грёзами о возможном свидании. Напомню, что Игорь всегда был хорошим учеником, а потому очень скоро в классе зашептались, что Алексеев «втюрился», поэтому и стал «ловить двойки». Увы, но Лена была влюблена в другого —высокого и длинноволосого Диму Воронова, чем-то похожего на Михаила Боярского в роли Д'Артаньяна, так что сами понимаете, Алексееву, сыгравшему в школьном театре Портоса до Димы было, как планеру кружка «Умелые руки» до сверхзвукового «Ту-144». Тем не менее чувства не утихали, и несмотря на то, что за ним активно ухаживали две одноклассницы из культурных семей – Света Рурукина и Катя Замосковная. Игорь по-прежнему надеялся на взаимность со стороны Плесени, как её «ласково» называли подруги, видимо по аналогии с её фамилией Зилинская, почти сразу переделанной ими в Зелень. К 10-му классу восторжествовал здравый прагматизм, ребята серьёзно задумались о поступлении в вуз и страсти поутихли. Поступив в институт, мой герой надолго потерял связь со школой, а Лена почти сразу вышла замуж, но не за одноклассника.
Первый курс института Игорь отучился почти стоически, а на втором не выдержал и увлёкся блондинкой Леной Филяковой, с которой иногда прогуливал лекции и болтался по кинотеатрам.
Покинув институт, он поступил в полиграфическое училище, где параллельно учёбе весь год ухаживал за Наташей Евдокимовой. Пара смотрелась изумительно и была настолько интеллигентной, что никто не сомневался, что эти двое непременно поженятся. Предположения человеческие не сбылись, ибо Бог расположил так, что в сентябре 1985 года, лёжа в 67 ГКБ, Игорь знакомится с Оксаной Серебряковой, поступившей в отделение эндокринологии по скорой, которая спустя пару лет станет его первой и единственной официальной супругой. 11 апреля 1987 года молодые распишутся, и Игорь переедет жить к Оксане в Ясенево на Тарусскую улицу. Семья просуществовала три года и была предметом всеобщей зависти, настолько интересно и творчески активно они жили. И всё бы ничего, но в 1990 году Оксана встретила другого – пианиста Олега Горбунова (Шрамма) —полюбила и уехала с ним жить в США, а Игорь остался в России вместе с её сыном Геной.
В 1993 году он знакомится с Анной Ш., прихожанкой храма Свт. Ап. Петра и Павла в Ясенево и вновь влюбляется. В какой-то степени чувства к Ане излечили надломленность в его душе после расставания с Оксаной, но союз был недолгим, Аня настаивала на браке, что он не спешил осуществлять, и вскоре они разошлись. Почти сразу Аня вышла замуж за дальнего родственника священника Алексия (Сысоева).
По наблюдению многих, наиболее яркими и глубокими были его отношения с логопедом Наташей Г., с которой он познакомился осенью 2000-го года и если бы не тяжёлая авария, при которой Игоря сбила машина, и он оказался обездвиженным и с множественными переломами, а потому вернулся домой лечиться, не желая обременять семью Натальи, то возможно, что всё бы у них сложилось, и скорей всего, навсегда. Увы, но восстановление было непростым и закончилось их отдалением. Через пару лет Наташа вышла замуж, родила двух детей, на этом всё и успокоилось. Сегодня дружеское общение их, хоть изредка, но продолжается. Они смогли сохранить и уважение, и личное тепло друг к другу.
В этом же году Терентий напишет стихотворение и поместит его на первую страницу своего нового дневника. В начале им будет написано «о той и для той, которая воплотится». Ценители и исследователи его творчества до сих пор спорят о том, кому оно могло предназначаться:
Милая, если б ты знала о том,Как мне всегда тебя не хватает,Всё убираю я с глаз – на потом!Сердце не помнит – оно вспоминает.Даже когда мы идём и поём,Мне всё равно тебя не хватает,Время стекает с водой в чернозём,Как с решета, посекундно стекает.Вечный песок тонкой струйкой в часах,Как волосочек, почти незаметный,Перетянул вены в наших руках,Там, где пульсировал ангел с ответом.2003Юность: время экспериментов
С 14 до 27 – это период возрастания
собственной значимости и время экспериментов
(1978—1991) – 14 лет
Для Терентия пора юности начинается с 1978 года. Этот период обозначен им, как время экспериментов и возрастания собственной значимости, который именно у него каким-то непостижимым образом закрывает свои границы в 1991 году. Удивительно, но юность Терентия совпала, не только с рассветом, но и закатом «брежневской эпохи», а затем и сменой одного за другим руководителей страны, как по команде перейдя во все «прелести» последовавших за этим реформ.
Исторически, именно с 1978 года начался период разрастания кризиса социализма и иных негативных явлений, продолжавшийся вплоть до 1986 года – времени начала перестройки, возникшей на тотальном дефиците необходимых товаров, нехваткой продовольствия, что также ускорило процессы реорганизации на всех государственных уровнях.
Ну, как здесь без бунтарства неформальной части молодёжи, в которой с середины 80-х примкнул и наш герой.
А теперь подробнее, и начнём мы с рассмотрения так называемого временного среза конца правления Брежнева вплоть до завершения президентства Горбачёва.
В СССР за короткий срок с 1982 по 1990 гг. сменяются несколько руководителей: после смерти Л. И. Брежнева, последовавшей 10 ноября 1982 года, с 12 ноября 1982 года его, на посту Генерального секретаря ЦК КПСС, сменил Юрий Владимирович Андропов, став официальным лидером Советского Союза. Далее – Константин Устинович Черненко после смерти Андропова руководил страной с 13 февраля 1984 по 10 марта 1985 года. Михаил Горбачёв после смерти Черненко стал последним Генеральным секретарём ЦК КПСС (1985—1991) и последним Председателем Прези-диума Верховного Совета СССР (1988—1989), завершив постом первого Председателя Верховного Совета СССР (1989—1990). А на III съезде народных депутатов СССР в марте 1990 года Горбачёва избирают Президентом СССР. В июне этого же года Поместный собор Русской православной церкви избирает Патриархом Московским и всея Руси Алексия II.



