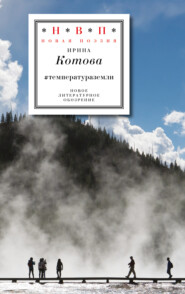
Полная версия:
#температураземли

Ирина Котова
#температураземли

По ту сторону пацифизма
У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу.
М. А. Булгаков, «Записки юного врача» 1Это предисловие написано в декабре 2020‐го и начале января 2021 года – в те дни, недели, месяцы, когда люди уже привычно говорят друг другу: «когда все это кончится, мы…» Все это – то есть пандемия КОВИД-19. И еще: когда кончится взаимная нетерпимость политических противников в США и в других странах. Или репрессии против гражданского общества в Беларуси. Или то, что происходит в России. Нетерпимость, насилие, унижение – как темные острова в океане болезни, разлитом вокруг.
Когда все это кончится, говорит неубеждаемая надежда, можно будет свободно ездить из одной страны в другую. Обниматься с друзьями и встречаться с кем хочешь. Покупать на кассе в супермаркете шоколадку, просто так, и тут же ее съедать.
Стоики говорят: не надейтесь. В ближайшее время не кончится. Вообще так, как было прежде, до 2020 года, уже не будет.
Может быть, и не будет. Но все же стоицизм сегодня – не самая трудная и не самая таинственная позиция: исторический опыт последних нескольких поколений подсказывает, что человек, готовый преодолеть обстоятельства, может сконцентрировать волю и перенести очень многое. Гораздо сложнее понять, как можно полноценно жить здесь и сейчас и не ожесточиться, а сохранить способность откликаться на события и эмпатически отвечать другим людям.
Новая книга поэта и врача Ирины Котовой состоит из стихотворений, написанных в 2017–2020 годах; до этого у нее вышло еще три сборника. Но именно в 2020 году, кажется, реальность «догнала» поэтику Котовой, словно бы проявила ее стихи, как проявитель – фотобумагу. Довольно жутко это говорить, но «Температура земли» – максимально актуальная книга, и не только – и даже не столько – потому, что в ней есть стихотворения о том, как врачи борются с пандемией, но в целом благодаря тому поэтическому мировоззрению, которое в ней высказано. Новые стихотворения Котовой помогают понять – отчасти позитивно, отчасти «от противного» – как сегодня можно жить не в режиме ожидания, не воспринимая нынешнее существование как черновое и пробное, а реализуя свою способность к действию, или, как говорят социологи, агентность.
2При сплошном чтении стихотворений Котовой впечатляет количество образов, связанных с насилием и унижением другого человека; и то, и другое Котова изображает как кошмар, неотменимо присутствующий в человеческой жизни. Некоторые шокирующие сцены Котова описывает с позиции непосредственного свидетеля (особенно сильное впечатление производит заключительная поэма о семейном насилии), некоторые – как медийные образы, возникающие на экране телевизора или в соцсетях, но самое страшное и впечатляющее в этой книге – визионерские строфы, в которых возникает своего рода галлюцинаторная мистика агрессии:
броня родины не тянется как колготки въедается в кожуповсюду – противотанковые сооружения связанных рукгенетический код сопротивления стирается ластиком темной географии языкарепетициями парадов побед страны скользят по горбушке хлеба в водуспасательные круги расходятся во мненииот безысходности войны синица орет в пасмурном небе благовещенья («тело войны»)Такой постоянный и последовательный протест против самой идеи войны может быть назван пацифистским, но позиция Котовой существенно радикальнее привычных форм пацифизма. Впрочем, в России это умонастроение ассоциируется, кажется, в наибольшей степени с миролюбивыми хиппи, и требуется дополнительное усилие для того, чтобы вспомнить, что в Германии 1920‐х – начала 30‐х годов под тем же именем действовало отчаянно рискованное общественное движение, выступавшее против совершенно конкретного милитаристского истеблишмента и требовавшее не допустить повторения вполне памятных всем ужасов прошедшей войны – а не вести дело к мести странам-соседям за былое поражение. Один из лидеров немецких пацифистов Карл фон Осецкий при нацистах находился в заключении и умер в 1938 году в тюремной больнице от туберкулеза. Вот с тем пацифизмом, может быть, у настроения стихов Котовой есть общая черта – та самая конкретность целей и эмоций. Но все-таки миросозерцание, возникающее в ее стихах – новое, не имеющее прецедентов в прошлом.
Одна из главных идей поэзии Котовой – это денормализация любого насилия и унижения. Отказ считать их нравственно допустимыми, однако, не компенсируется выдвижением какой бы то ни было социальной утопии. Противовесом насилия и увечий, переживаемых прежде всего телесно, в стихах Котовой становится способность человека – в единстве его/ее тела и души – к наслаждению и сообщничеству с другими людьми, – совместному чувствованию, совместному переживанию.
Утверждения типа «жизнь есть боль» чреваты восприятием взаимного мучительства как неизбежной нормы. Отказ Котовой от такого восприятия напоминает о герое рассказа Владимира Набокова «Василий Шишков» (1938) – остро чувствующем молодом поэте, который жаловался коллеге, от лица которого и написано это произведение: «…с некоторых пор мне прямо до взрыва хочется что-то сделать, – мучительное чувство, – ведь вы сами видите, – может, с другого бока, но все-таки должны видеть, – сколько всюду страдания, кретинизма, мерзости, – а люди моего поколения ничего не замечают, ничего не делают, а ведь это просто необходимо, как вот дышать или есть. И поймите меня, я говорю не о больших, броских вещах, которые всем намозолили душу, а о миллионах мелочей, которых люди не видят, хотя они-то и суть зародыши самых явных чудовищ». Герои Котовой как раз и видят, а сама Котова – показывает.
Шишков собирался издавать журнал «Обзор страданий и пошлости», который должен был «выходить ежемесячно, состоя преимущественно из собранных за месяц газетных мелочей соответствующего рода»; разумеется, у него ничего не вышло, но важно, что представление о жизни как о совокупности оскорбительных для человека «страданий и пошлости» Шишков черпал из печатной прессы. В более поздние десятилетия источниками такого рода образов стало телевидение и фоторепортажи. О воздействии визуальных образов насилия, распространенных в современных медиа, Сьюзен Зонтаг написала очень важное эссе «Смотрим на чужие страдания» (2003). В дальнейшем при обсуждении стихов Котовой я буду цитировать это эссе по русскому изданию в переводе Виктора Голышева1.
Согласно Зонтаг, современный человек постоянно существует среди образов насилия, он притерпелся к ним и одновременно не может привыкнуть до конца.
…Сражения и побоища, снятые в реальном времени, стали привычной составляющей бесконечного потока домашних телеразвлечений. Нынешний зритель имеет возможность наблюдать за драмой в любой точке земного шара, и, чтобы выгородить место в его сознании для одного определенного конфликта, надо ежедневно, раз за разом прокручивать обрывки хроники этого конфликта.
Зонтаг упоминает об особом режиме восприятия, напоминающем восприятие газет Василием Шишковым – и, подобно рассказчику Набокова, явно сочувствует тем, кто переживает действительность подобным образом. Однако Зонтаг не хочет и отождествляться с ними:
Кто вечно удивляется человеческой испорченности, кто продолжает испытывать разочарование (и даже не хочет верить своим глазам), столкнувшись с примерами того, какие отвратительные жестокости способны творить люди над другими людьми, – тот в моральном и психологическом отношении еще не стал взрослым.
Котова, напротив, настаивает, что способность удивляться в таких ситуациях и есть признак зрелости, – иначе говоря, нравственной адекватности. Из ее стихотворений следует, что этически необходимое состояние человека – это повышенная чувствительность к чужой боли и унижению, отказ признавать их допустимыми.
Пожалуй, один из ближайших предшественников Котовой в этом отказе – поздний Лев Толстой. Недаром эта книга заканчивается аллюзией именно на позднее его произведение. Финальные ее строки —
утром женщина ушла из больницы в полицию – забрала заявление обратноснег продолжал колотить колотушкой в окна на градуснике под мышкой было 38,5 кстатипотомкак говорил классик —весна все-таки наступила(«насилие и восьмое марта»)– отсылают к первому абзацу романа «Воскресение»:
Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, – весна была весною даже и в городе.
Однако Толстой на основе своей (как сказали бы сегодня) нулевой толерантности к насилию и унижению выстроил новую идеологию, основанную на поклонении «простым людям» и «простой жизни», на том, что любую культурную сложность и «сделанность», не-природность, следует подозревать в нравственной сомнительности и нечистоплотности. Ирина Котова, как и некоторые другие современные авторы, делает следующий шаг и отказывается строить какую бы то ни было идеологическую утопию. Вместо этого она строит утопию антропологическую, которая позволяет совместить нулевую толерантность к насилию и острую чувствительность к телесности с воодушевленным принятием сложности культуры. Для объяснения этой антропологической утопии потребуется еще одна литературная параллель – потому что творчество Котовой, как уже, вероятно, стало ясным из предшествующего объяснения, одновременно ново и отвечает на вопросы, уже давно поставленные в литературе.
В 1915 году Александр Грин (автор, которого кажется странным упоминать через запятую с Толстым и Набоковым – но в этом случае уместно) написал рассказ «Возвращенный ад» – то есть «Потерянный рай» наизнанку. Его герой, журналист Галиен Марк (опять медиа!), испытывает постоянную боль и тревогу от ощущения запутанности и фантастической связности современного мира. На дуэли он случайно убивает своего обидчика – и от ужаса и отчаяния теряет способность принимать эту запутанность близко к сердцу. После этого он начинает писать очень простые и беззаботные тексты для газет и становится невозмутимым, всегда довольным жизнью человеком. Но его оставляет его возлюбленная, объясняя, что с таким Галиеном она сосуществовать не может – и тут он внезапно «просыпается», а женщина поддерживает его в этом мучительном пробуждении. «Последние тени сна оставили мозг, и я вернулся к старому аду – до конца дней».
Этот «ад» чувствительности Грин de facto провозглашает этически необходимым для современного человека. Котова – тоже. В ее книге героиня периодически начинает бунтовать и казниться – просто потому, что больше нет сил. Такие срывы являются, по-видимому, неотъемлемой частью существования в описываемых Котовой условиях – когда никакая идеология больше не срабатывает как анестезия.
3Позиция, выраженная в стихах Котовой, основана прежде всего на женском, медицинском и советском опыте. Все эти три сферы опыта являются основаниями для денормализации насилия и для восприятия повседневности как «возвращенного ада», в котором только и возможны подлинная привязанность и ответственное социальное действие.
Протест против насилия у Котовой последовательно понимается как деконструкция нормативной маскулинности. Ее героиня (или героини?) совершенно не ненавидит мужчин – но не соглашается с нормами, как говорят исследователи, гетеронормативного порядка, то есть такого устройства общества, при котором для разных гендеров полагаются разные моральные нормы – в частности, в таком порядке мужское доминирование до недавнего времени включало в себя подразумеваемое право на насилие для «правильной» организации окружающей действительности. Этого права больше существовать не должно – во всяком случае, как подразумеваемого. Котова в своих стихотворениях помнит, что человек вообще, вне зависимости от гендера, склонен к насилию и уязвим, поэтому ни у кого не может быть больше права на насилие, чем у других.
Котова, как и многие современные поэтессы, опровергает стереотипное представление о женской поэзии как о сосредоточенной преимущественно на эмоциях. Субъект ее стихотворений – несомненно, женщина, но ее главные интересы – социальные и политически-философские, в частности – изобретение новых путей воображения, новой метафорики, позволяющей показать «возвращенный ад» как постоянно новую и необычную реальность. В современной литературе к мироотношению Котовой наиболее близки два автора – или, как еще теперь говорят, авторки: это живущая в Украине Ия Кива, пишущая по-украински и по-русски, и Гала Пушкаренко – женский гетероним2 московского поэта Олега Шатыбелко.
В русской литературе, как известно, было немало врачей. Медицинский опыт для них, однако, имел большей частью значение или специально-профессиональное – то есть помогал изобразить персонажей-врачей (как это было у Чехова – в диапазоне от рассказа «Хирургия» до пьесы «Чайка»), или социально-аналитическое – то есть позиция врача понималась как возможность изучить состояние общества и осмыслить этику отношений врача и пациента как частный случай биологической власти (в терминологии Мишеля Фуко) – и власти вообще. Так было у Викентия Вересаева. Котовой – или, точнее, ее героине или героиням – позиция врача позволяет пережить чужую боль и чужую смерть, не отводя глаза и анализируя. Дает интеллектуальные и социальные ресурсы выдержать в невыносимой ситуации и показать человеческое тело как смертное, хрупкое и требующее защиты.
если патологоанатом задаёт вопрос —поворачиваю голову в сторону трупа молодой женщины вчера она обещаладать номер телефона своего парикмахера(«операционный журнал»)Сьюзен Зонтаг пишет:
…при виде реального ужаса, снятого вблизи, испытываешь потрясение и стыд. Может быть, смотреть на изображения таких предельных мук имеют право только те, кто способен их как-то облегчить, – к примеру, хирурги госпиталя, где был сделан этот снимок, – или те, кто извлечет из этого урок. Мы же, остальные – вуайёры, хотим мы это признать или нет. Всякий раз ужасное ставит нас перед выбором: быть либо зрителями, либо трусами, отводящими взгляд.
Котова со своим женским и врачебным опытом помогает выбрать из этих двух вариантов – третий: научиться жить, помня о боли и этически соотносясь с ней.
Зонтаг пишет прежде всего об образах войн и коллективно совершенных преступлений – таких, как суд Линча. Для Котовой важны более повседневные образы болезней, в том числе ковида; семейного и вообще регулярного унижения; насилия, которое остаетстся незамеченным. Война для современного человека – не экзотика, но эксцесс; Котова делает следующий шаг и показывает повседневное унижение одного человека другим как спектакль власти, который в этом качестве должен быть разоблачен.
Еще один, важнейший аспект денормализации насилия – постоянная память о его укорененности в антропологических катастрофах ХХ века, в первую очередь – порожденных нацизмом, советской репрессивной политикой и колониализмом. В этой памяти о связи тоталитаризма и насилия Котова оказывается неожиданной «побочной наследницей» советских шестидесятников – только не поэтов, а скорее братьев Стругацких или кинорежиссеров – таких, как поздний Козинцев (шекспировские фильмы) и поздний Михаил Ромм («Обыкновенный фашизм») – и американских поэтов-битников.
ты застала голод? – спрашивает в украинском автобусе одна девочка у другой будто она моя бабушкабудто у меня сонная болезнь мухи цеце(«десять не египетских казней»)я говорю лоле про фильм «голод»про североирландских политзаключённых про пытки про грязь про кетоновые тела («а-нушка») 4Если говорить о поэтической стилистике и метафорике, то здесь важнейший собеседник Котовой – Андрей Сен-Сеньков, еще один доктор в современной русской поэзии3. Оба они представляют в своих стихотворениях телесную боль как составную часть и одновременно метафору глубинного сдвига в мироздании. Но делают они это совершенно по-разному. Связь телесного страдания, вообще телесного чувства со всем миром последовательно наделяется у Котовой политическим и социальным значением. Но эта политизация – следствие, а причина – в общем мировидении Котовой: мироздание в ее стихотворениях и поэмах предстает как длящийся, разворачивающийся во времени конфликт, или, точнее, сеть разнородных конфликтов. Человек всегда в них вовлечен – не столько ментально, сколько телесно – но не всегда об этом помнит. Поэзия для Котовой есть инструмент, нужный, чтобы помочь и автору, и читателю вспомнить и сделать осмысленным переживание этих конфликтов, в которых никто не может считать себя безгрешной «силой добра».
На уровне стилистики – «в плане выражения», как сказал бы Роман Якобсон – стремление заново осмыслить способность человека к привязанности и тоске по неотчужденной телесной свободе имеют у Котовой два очевидных коррелята. Первый из них можно было бы назвать адресной интертекстуальностью. В книге Котовой много стихотворений с посвящениями или с упоминаниями других авторов. Она может посвятить стихотворение уже покойному поэту – например, Алексею Парщикову – и обыграть его известные строки.
обдолбанные пионеры собирают велосипедные рулибудто как цветырвут растущие из берега руки ничего не меняется все тот же штормвсе те же деньги то же мороженое все те же спутники летят к марсу и маркс опять в моде<…>подпрыгивая на волнах надеешься – вот выбросит тебя за буйкивстретишь там главный велосипедный рульи —будет счастье но всегдавсегдаупираешься головой – в чернозём(«велосипедные рули»)Это, конечно, аллюзия на строки из поэмы Парщикова «Новогодние строчки» (1984):
А что такое море? – это свалка велосипедных рулей, а земля из-под ног укатила, море – свалка всех словарей, только твердь язык проглотила…Оптимистическая интонация Парщикова, однако, сменяется у Котовой мрачным скепсисом. Эффектная метафора из «Новогодних строчек» была потом использована в, вероятно, памятном Котовой, как и автору этих строк, политическом доносе на сообщество поэтов-новаторов (в которое входил и Парщиков), «пригретых» писателем Кириллом Ковальджи в литературной студии при журнале «Юность». Один из критиков, разгромив публикацию этих поэтов под рубрикой «Испытательный стенд» в «Юности» № 4 за 1987 год, риторически вопрошал: «нужен ли идеолог „свалке велосипедных рулей“?» – подразумевая, что Ковальджи собрал совершенно бессмысленную «группировку», но властям стоит обратить на нее внимание. Рискну предположить, что стихотворение Котовой можно читать как аллюзию одновременно на поэму Парщикова и на печатные нападки такого рода: не столько «маркс опять в моде» (мода на Маркса среди интеллектуальной молодежи уже совсем другая, чем в советские времена, и это действительно мода, а не спущенная сверху директива), сколько происходит «вечное возвращение» советского.
Для Котовой характерны два очень ярких индивидуальных речевых жеста: расчленение текста на слоги, отчего он начинает напоминать речитатив, и перечисление через слэш несовпадающих вариантов текста, словно бы существующих синхронно: «отпечатки/опечатки лиц». Слоговую «скандировку» изредка применяли поэты ХХ века – например, Марина Цветаева4 или Илья Сельвинский, – но соединение ее с идеей «перечисления через слэш» сообщает этому приему новое значение. Прежде такое разбиение на слоги подчеркивало устную и индивидуальную интонацию, в противовес письменной и общей. Котова – если еще и учитывать привычное для современной поэзии отсутствие знаков препинания – словно бы подчеркивает, что ее письмо передает внутреннюю речь, лишенную окончательности. Голос, на ходу подбирающий слова и не желающий остановиться на единственно возможном: пусть все будет сразу. Эта неокончательность и антириторичность – важное дополнение к денормализации насилия: героиня Котовой сопротивляется «возвращенному аду», но не желает быть ни его судьей, ни давать ему определенное, окончательное объяснение.
Поэзия Ирины Котовой учит жить сейчас в том мире, который возникает из пандемии, международного политического и экономического кризиса – и их предчувствуемых последствий. Это не единственно возможная поэзия для нового мира. Важнейшее открытие Котовой состоит в том, что, выбирая «возвращенный ад», ее героиня, как ни парадоксально, заново учится радоваться, а поэт дарит эту возможность и нам.
Илья Кукулин#поискиреальности
амбарная книга
1986 когда мне исполнится тридцать —лягу под танкнет смысла жить после тридцатино надо совершить подвиг —говорит двенадцатилетний рамазаня тоже так думаюно отвечаю —больше войны не будета чернобыль будет? – с надеждой спрашивает онхолод гамлетазаползает под его одеяло 1988 раскаленный утюг асфальта прожигает джинсыу меня – сидячая забастовкавнутри свербит гвоздь летучего восторга опасностипо рации вызван наряд милициина меня – наряд милицииобвинение – организация несанкционированного митингаза что нас задерживают – спрашивает мой юный мужсадись рядом – отвечаю яон продолжает стоятьна воздушном шаре 5×5 метров надписи:«вся власть советам»«долой аэс»это призывы к свержению власти —отвечает офицер милициипоследний раз спрашиваю: сотрёшь —обращается ко мне кривой ротинструктора райкома комсомолатряпка повисает в воздухекак в школьной работе над ошибкамиинструктор вначале орудует тряпкой —буквы не стираютсяпотом – делает из букв чёрные квадратычёрными рукамиоставляет отпечатки пальцев на шарепровалившиеся квадратные глазапустого воздушного шараподнимаются в небомуж бессильно падает рядомспрашивает —нас отчислят из института?малевич… за решетом решётки – вслух думаю я 1992 скользкий костный мозг чернозёмачавкает под ногами памятисегодняопять бандитские разборкииз кафе под названием рай везли весь вечер —резаных рваных битых ломанныхпод наркотой алкоголем без сознанияза окнами срочной операционной болеет небобелеет небо —значит спать не придётсяуже не придётсясвет заползает в сетчатку глаз за шиворот под кожу —как ядскребётся когтями хищника костями умершихсегодня уже не сможешь крутитьколёса велосипеда как колесницуголова – оглашённая околесицаесли прикрыть веки:кровь-мясо-жир-нитки-зубы зажимов- соль салфетоки леди макбети леди макбетпротягивает рукируки отмою позже 1993 чёрными гангренозными линиями землетрясенийпрокладываются новые границына обломках противотанковых баррикадоткрываются романтические масонские ложана улицах воронежа маршируютбойцы российского национального единства —свастики чернеютраздавленными петухами на рукавахна барельефе с профилем мандельштамабелой масляной краской – «смерть жидам»в пятигорске спецназохраняет санаторские танцплощадкив спецназе —обаятельные драчливые душевные парнипочти покойникина задних креслах автомобилейнеудобно входят в девушек-отдыхающихобнаженные зады застывают в низком стартена пороге чечнипятигорский провал жадным ртомглотает снег звёзды шёпотхлюп-хлоп-хопя еду в поезде грозный-москва —плацкарт верхняя полка у туалетачисто мужской вагонесли когда-нибудьспущусь с этой полки —выпью кофе 2000 ночная заснеженная площадьмаленького провинциального городахудожник подходит к памятнику ленинаобрызганному красной краскойна художнике нет ничегокроме пончо третьей жены-мексиканкибосые ноги проваливаются во множество колодцевпо ходу движенияхолод концентрируется в промежности и ушахсердце – колдобит недопитым алкоголемхудожник обращается к памятнику:в окно дворца дожейосуждённый бросал последний взгляд на свободу —вдыхал свежий воздухза окном по мостикуплыли зонтичные рыбы пешеходовосуждённый и пешеходы ничем не отличалисья видел этои теперь не могу здороваться как раньшену куда – куда ты указываешь своей рукой?ещё я виделкак девушка подходит к чёрному квадрату вплотнуюпотом отдаляется —пытается что-нибудь рассмотретьтак – много размне хотелось бы сделать для неё коллекцию радостину почему – почему ты не смотришь мне в глаза?никто из моих друзей в этой странене может завести собаку или кошку —они сами собаки и кошкикогда ленин становится сержантом милициипоздно надевать ботинки 2010 слишком чистое зеркало ничего не отражаетя всегда себя вижу только в грязномвместо лица в нём душный дешёвый кафель операционнойобнажающий мимикрию множеств жизней во мнеболезненная точка невозвратасобственной жизнипока шла операцияэта женщина звонила семнадцать разу неё – ракутром я видела гистологиюразмышления над скелетамичеловека и ящерицызанимают одно и то же времядля зеркала 2018/1 почти каждая женщина нашей страныособенно самка снежного человекамечтает заняться камасутрой с президентомоб этом говорят результаты выборов 2018/2 ты садишься в поездпоезд топят по-чёрномусажа влетает в легкиеони чернеют скукоживаютсясажа уже никогда не покинет ихпоезд – теплушка времён гражданской войныгражданское – всегда чёрноемахновщина размахивает ветряными мельницами у оконпоезд стучит в грудипреодоление исторической кастыпопытки создания сослагательного наклоненияпопытка прыжка над картой миранарисованной от твоих ногпотерпели крахнужно учиться жить среди тех кто любитвысоцкого сталина старообрядческую церковьодновременноночь заполняет пространство активированным углёмстирает границыстирает закопчённое бельезамороженное белье на твоей верёвочной шеебьёт в набатна платформе – человекпепел его сигареты становится твоей сединойгоголем-моголем снега 2019 всю жизнь лечила зубы —говорит маматеперь – все люди с моими пломбамилежат в землесмотрит на рукикрасный квадрат целуетчёрный квадрат


