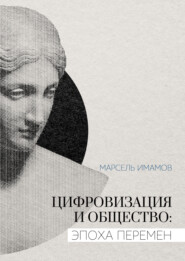
Полная версия:
Цифровизация и общество: эпоха перемен

Марсель Имамов
Цифровизация и общество: эпоха перемен
Книга посвящается моим Папе и Маме, своей Семье и всем близким.
Особые слова Благодарности выражаю Профессору Марату Сафиуллину, Профессору Сергею Киселеву, Профессору Эльмире Алпатовой, к. м.н. Диляре Ахметовой, Марату Ахмеевву за постоянную поддержку и помощь в написании книги.
А так же тому кто купил данную книгу…
Предисловие
Уважаемые читатели!
Перед вами – книга «Цифровизация и общество: эпоха перемен» Марселя Имамова, человека, несомненно, разносторонних интересов и профессий. У него много регалий – он доктор экономических наук, кандидат юридических наук, доктор делового администрирования (DBA), член-корреспондент РАЕ. При этом он позиционирует себя, главным образом, как менталист-гипнолог, эксперт по перепрограммированию жизненных установок, кардинальной трансформации человека. На протяжении 10 лет практикует в области гипнотерапии, являясь членом множества профессиональных психологических сообществ (в США, Швейцарии, Великобритании и др.).
Первое, что меня поразило и вызвало мой интерес, когда я познакомилась с книгой и ее тематикой, это то, что она настолько пронзительно ложится в контекст экзистенциальных проблем, которые неизбежно станут предметом обсуждения в различных областях человеческого познания – философии, этике, эстетике, истории, экономике и др. – буквально в ближайшее время. Это не значит, конечно, что цифровая экономика как объект исследования не разрабатывалась активно в мировой и отечественной науке, не говоря уже о значительном объеме научных статей, которые появились в последние годы. Достаточно назвать монографии Г. С. Сологубовой, Э. Шмидта и Д. Коэна, немногочисленные учебные пособия и коллективные монографии. Особенностью рассматриваемой в этих трудах тематики является исследование цифровизации, главным образом, с двух позиций: с акцентом на экономико-менеджериально-маркетинговые аспекты ее развития либо с уклоном в изучение процессов цифровизации общества в социальной сфере. В смысле тематики книга М. Имамова не является чем-то уникальным, в конце концов, число тем, представляемых объективной реальностью, не бесконечно, и неудивительно, что они нередко выказывают свое сходство. Тем не менее, эта книга отличается от других научных сочинений, прежде всего, тем, что в ней мы видим попытку комплексного подхода к рассмотрению воздействия, которое цифровые технологии оказывают не только непосредственно на экономику, но и на все общество. Информационно-коммуникативная среда видоизменяется, обретая новые черты, интернет вторгается во все возможные области жизненного пространства человека. Автор последовательно отслеживает, каким образом совершался в процессе эволюции, прежде всего, западного общества переход к современному состоянию, характеризующемуся наступлением Четвертой промышленной революции и шестого технологического уклада в рамках Третьей волны (по Э. Тоффлеру), которая, в свою очередь, дала старт переходу к информационному технологическому способу производства и формированию постиндустриального общества.
М. Имамов справедливо переводит вопрос о достоинствах и недостатках цифровой эпохи в этическую плоскость, заостряющую вопрос о дихотомии традиционного общества, стремящегося к архаике и консервации привычных общественных отношений, и эпохи постмодерна, напротив, отрицающего прежние нарративы в пользу их эклектики. Не случайно Давосский проект четвертой промышленной революции обвиняют в стремлении установить новый мировой порядок, для которого характерны антирациональность и отрицание всей западной логоцентрической традиции с ее идеалами прогресса, истины, смысла, порядка, справедливого общества. Парадокс состоит в том, что швабианская концепция, заимствуя наиболее привлекательный в глазах ее адептов технологический пакет, выбрасывает за ненадобностью социально-этический пакет. Нет, разумеется, сторонники давосского «неокоммунизма» признают, что цифровизация приводит, в первую очередь, к глобальным изменениям самих людей, всего человечества и, как следствие, всего мира. Но каким изменениям? Фолловеры «великой перезагрузки» К. Шваба видят их в упрощении людей, вытеснении их рационального начала исключительно эмоциональным интуитивным восприятием (показательный пример – многочисленные ток-шоу на телевидении), которое делает их легкой добычей со стороны манипуляторов в лице СМИ, власти и, возможно, так называемого «мирового правительства» (если верить конспирологическим теориям о его существовании).
Автор в своем научном труде пишет о формировании так называемого клипового мышления, которое свойственно, в первую очередь, молодежи, поскольку она еще не имеет социального опыта и поэтому подвержена внушаемости в нужном для интересантов направлении и способна к форсированному движению по нему. Наряду с «гаджетоманией» клиповое мышление представляет собой два компонента процесса развития социума, начиная с конца 90-х гг. Становясь на хлипкие основания эзотерики, можно предположить существование некоего «метафизического зла», стремящегося к консервации архаичных общественных отношений в виде диктатур, войн, разрушительной деятельности спецслужб, коррупции, казнокрадства, фашизма, социального и военного геноцида, ксенофобии и т. п., которому противостоит разумная человеческая деятельность в границах ноосферы согласно учению В. И. Вернадского.
Использование передового технологического пакета в сочетании с сознательным отбрасыванием социально-этического пакета неизбежно приводит к возникновению и закреплению кибертирании, попытки установления которой мы можем уже сейчас наблюдать в современном мире. К примеру, Китай считает, что развитие технологий является самоцелью, а у государства есть монополия на их неограниченное использование. Евросоюз, напротив, исходит из социально-гуманитарного принципа институционализации защиты персональных данных. Это крайние подходы, однако, по моему убеждению, в современном мире существуют основания для алармистских опасений, заключающиеся в стремлении национальных правительств использовать новейшие цифровые средства для закрепления контроля над людьми и консервации архаичных ценностных ориентаций (это было продемонстрировано в период пандемии, померкшей на фоне последовавших трагических событий).
Между тем, вывод, который с непреложностью можно сделать при прочтении книги, заключается в том, что доступные технологии, в первую очередь, напрямую зависят от этики конкретного общества. Так, в России с традиционно сильными позициями государства в экономике и практически во всех сферах жизни общества уделяется самое серьезное внимание формированию электронного правительства, а также внедрению автоматизированной информационной системы «Электронный регион», т. е. российский вариант цифровой экономики направлен, в основном, на облегчение и упрощение работы государственного аппарата.
Кроме того, автор книги подчеркивает существующий в современном обществе запрос людей на осознанное и этичное совместное потребление, социальную и экологическую сознательность. Актуальным ответом на данный вызов является исследование М. Имамовым моделей совместного использования и цифровых платформ, а также серьезных изменений в потребительском поведении (в том числе связанных с пандемией). В частности, автор уточняет целевую функцию современного потребителя, которая в значительной степени состоит не только в максимизации удовлетворения от потребления экономических благ в рамках существующих бюджетных ограничений, но и в выборе того или иного товара или услуги.
Монография М. Имамова при всей ее комплексности оставляет поле для раздумий и размышлений на тему, что человечеству еще предстоит осознать масштаб технологического прогресса, который кардинально трансформирует глобальное экономическое пространство. Технологическая революция, произошедшая на излете индустриальной эпохи, привела к тому, что развитие регионов, стран, цивилизаций определяется, в первую очередь, не наличием или отсутствием природных ресурсов, не имеющимися военными вооружениями, и даже не капиталом, а технологиями. Достаточно посмотреть на Японию, которая ввозит 90–95 % необходимого минерального сырья, но является при этом третьей экономикой мира.
И, пожалуй, впервые после трех промышленных революций, происходивших в значительной степени спонтанно, неконтролируемым образом, человечество имеет возможность сознательно планировать масштабы, конфигурацию и темпы происходящих глобализационных процессов, ядром которых является технологизация. Мир снова находится в точке бифуркации, когда ключевое значение приобретают технологии, направленные не на производство и распределение товаров и услуг, а на самого человека, позволяя «заточить» его под тот товар, который компания намерена продавать на рынке, как, например, это делает корпорация Apple.
Важно помнить о том, что эти технологии, предоставляя социуму новые возможности и решения, не могут быть социально нейтральны, и последствия их использования в значительной степени зависят от использующих их акторов. Другими словами, цифровые технологии являются источником серьезных социальных рисков и могут представлять угрозу и вызов для современного общества, которое придерживается принципа приватности личности как неотъемлемого элемента свободы. Цифровые технологии при всей их прогрессивности способствуют отчуждению человека от принятия решений, подмене института знаний институтом информации, неблагоприятному изменению социальной и институциональной среды. Это не означает, что следует каким-то образом пытаться затормозить технологический прогресс, это сделать практически невозможно – современный мир находится в точке технической сингулярности. Речь идет о том, что необходимо адекватно оценивать возможные социальные и культурные последствия внедрения новых технологий и развивать социальные институты (нормы поведения, критерии оценки, нравственность), чтобы не допустить реализации угрозы их качественного изменения в направлении дегуманизации.
И еще одно обстоятельство мне хотелось бы отметить, говоря о монографии М. Имамова «Цифровизация и общество: эпоха перемен». Это, несомненно, серьезный научный труд, основательный, подкрепляемый аргументами в доказательство авторской позиции, не оставляющий сомнений в стремлении автора к научной достоверности. Автор не является бесстрастным исследователем, высказывает свою однозначную позицию по ряду принципиальных вопросов и тем самым придает аналитике эмоциональный и субъективный окрас, одновременно демонстрируя уважение к точкам зрения исследователей, внесших свой научный вклад в разработку проблематики цифровизации. Кстати говоря, уверена, что нет ничего плохого в том, что исследователь в силу своей человеческой природы может оставаться субъективным, даже заявляя о своем стремлении к достижению сияющей «объективной истины» и даже искренне прикладывая усилия к этому и, тем не менее, не достигая ее, а только приближаясь к ней. Никто не объективен, и исследователь в том числе, хотя бы в силу отбора материала для изучения и соответствующей ее интерпретации.
Упомянутое обстоятельство заключается в том, что этот научный труд о цифровизации, научных достижениях в области ее изучения и ученых, ее исследовавших, содержит элементы научно-популярного сочинения. Он написан достаточно доходчивым языком, читается легко и может представлять интерес не только для специалистов, но и для широкого круга малоподготовленных читателей, в том числе школьников и студентов.
Эльмира Сунгатовна Алпатова,
доктор экономических наук, кандидат исторических наук,
профессор кафедры экономики АНО ВО «РосНОУ» (г. Москва)
1. Понятийный аппарат цифровой экономики
1.1. Понятие и сущность цифровой экономики
На сегодняшний день при всей общеупотребимости термина «цифровая экономика» четкого и конкретизированного его определения не существует, да и, по всей видимости, не может существовать, как это и бывает по отношению практически ко всем научным дефинициям. Мы можем лишь привести самые разнообразные определения, принадлежащие разным зарубежным и отечественным ученым, а также различным институциональным структурам.
Но прежде всего хотелось бы подчеркнуть важность определения понятия «цифровая экономика» и связанных с ней понятий «цифровизация», «цифровая трансформация», поскольку в научной литературе нет-нет, да и появляются мнения о невостребованности определений, «если мы имеем дело с реальностью, а не с логическими конструкциями или математическими моделями»[1]. Разумеется, такая точка зрения имеет право на жизнь, поскольку массив научных публикаций по цифровой экономике, в том числе ее определений, практически необозрим, и, думается, нет необходимости впадать в схоластические рассуждения об отличиях одной дефиниции от другой. Но попытаться идентифицировать хотя бы подходы к определению термина «цифровая экономика», как нам представляется, все же стоит, исходя из знаменитой библейской сентенции: «Вначале было Слово…».
Начнем с того, что сам термин «цифровая экономика» (digitaleconomy) был впервые вынесен в название книги «Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевого интеллекта»[2] (1994 г.) и принадлежит канадскому ученому, независимому консультанту и исполнительному директору компании TapscottGroup Дону Тапскотту.
Тапскотт подошел к исследованию последствий цифровизации с позиций современного институционализма, а именно: теории трансакционных издержек Рональда Коуза[3], в возможности радикального снижения которых (в первую очередь, издержек поиска информации и заключения договоров) он увидел особенности происходящих перемен в бизнесе и в жизни. Называя в качестве таких перемен появление новых форм бизнеса, исключение посредников из цепочки товародвижения, всплеск «пиратства» и связанных с ним потерь инвестиций в экономике медиа, Тапскотт делает свой главный вывод о перемещении бизнеса из традиционных форм в медиа.

Дон Тапскотт
DonTapscott
Американский ученый из Массачусетского университета Николас Негропонте в 1995 г. ввел термины «цифровая экономика», «цифровизация» в широкое употребление в научном и предпринимательском сообществе[4]. В значении «цифровая экономика» часто используются понятия «сетевая экономика», «электронная экономика», «постиндустриальная экономика», «APIэкономика» и др. В Европе большее распространение получил термин «цифровая экономика», в то время как в американском бизнес-сообществе – «APIэкономика». При всей однопорядковости приведенных терминов можно говорить о некоторых различиях в их понимании. Так, прилагательное «цифровая» изначально относится к форме (формату) представления информации, не связанной с материальным носителем информации. Напротив, прилагательное «электронная» как раз относится к материальной форме воплощения сигнала, т. е. к материальному носителю информации[5]. Другими словами, используемые в качестве синонимов прилагательные «цифровая» и «электронная», строго говоря, ими не являются, хотя и используются в качестве таковых в стремлении к краткости и простоте. Такая подмена понятий в повседневной жизни вполне логична и никак не сказывается на характере принимаемых практических решений.

Николас Негропонте
Nicolas Negroponte
Следует также отметить особенности перевода термина «цифровая экономика» с английского языка на русский. Когда мы говорим digitaleconomy, то имеем в виду реальный сектор экономики, напротив, когда употребляем digitaleconomics, речь идет о научном направлении. В последнем случае подразумевается активное использование экономико-математических моделей и методов, основанных на свойствах цифрового формата представления информации (современные технологии предоставления банковских услуг, обеспечения информационной безопасности и т. д.). И хотя и в том, и в другом случае речь идет о цифровизации и фундаментальных свойствах информации и знаний в цифровом формате, смешение смыслов все же нежелательно. Разделение информации о цифровой экономике на фактические данные о самом феномене (digitaleconomy или эмпирическая информация) и научные / научно-популярные исследования (digitaleconomics) помогает нам структурировать поток материалов по этой теме. Эти два направления тесно взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга: digitaleconomy является основой для выводов в области digitaleconomics, и одновременно ее собственное развитие зависит от научных разработок.
Приведем ряд определений термина «цифровая экономика» (таблица 1).
Таблица 1
Определения понятия «цифровая экономика»
АвторОпределениеK. Kelly, 1998Совокупность коммуникаций, которые представляют собой основное центровое звено цифровых технологий, средств связи и, как следствие, самой экономики[6]Lane, 1999Конвергенция компьютерных и коммуникационных технологий в сети Интернет и возникающий поток информации и технологий, которые стимулируют развитие электронной торговли и масштабные изменения в организационной структуре[7]Brynjolfsson, Kahin, 2000Еще не завершенная трансформация всех секторов экономики благодаря цифровизации информации при помощи компьютерных технологий[8]М. Л. Калужский, 2014Специальная коммуникационная среда экономической деятельности в сети интернет или с использованием сети интернет, а также формы, методы, инструменты и результаты реализации данной деятельности[9]Организация экономического развития и сотрудничества [ОЭСР (OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment, OECD)], 2015Термин используется в отношении рынков, функционирующих на базе информационно-коммуникационных технологий, используемых для осуществления торговли информационными, цифровыми товарами или оказания услуг посредством Интернета[10].Доклад Всемирного банка, 2016Система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий[11]G20 DETF, 2016Широкий диапазон видов экономической активности, к которым относится использование оцифрованной информации и знаний в качестве ключевого фактора производства, современных информационных сетей в качестве важной области деятельности, а также эффективное использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве важного фактора экономического роста и оптимизации экономической структуры[12]Стратегия развития информационного общества Российской Федерации на 2017–2030 гг.Хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг[13]А. В. Бабкин, Д. Д. Буркальцева, Д. Г. Костень, Ю. Н. Воробьев, 20171) тип экономики, характеризующийся активным внедрением и практическим использованием цифровых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи информации во всех сферах человеческой деятельности2) система социально-экономических и организационно-технических отношений, основанных на использовании цифровых информационно-телекоммуникационных технологий3) сложная организационно-техническая система в виде совокупности различных элементов (технических, инфраструктурных, организационных, программных, нормативных, законодательных и др.) с распределенным взаимодействием и взаимным использованием экономическимиагентами для обмена знаниями в условиях перманентного развития[14]В. М. Бондаренко, 2017Путь для создания модели отношений между людьми, соответствующей технологиям четвертой промышленной революции, а именно ИКТ XXI в. и обусловливает достижение выдвинутой цели[15]В. В. Иванов, 2017Виртуальная среда, дополняющая нашу реальность[16]Разумеется, это не все определения, которые можно встретить в зарубежной и отечественной литературе, впрочем, привести все определения или хотя бы большинство из них практически невозможно, да в этом и нет особой нужды. Как это следует даже из приведенных определений, представления о цифровой экономике варьируются в самом широком диапазоне – от очень узких до чрезвычайно широких.
Цифровая экономика в узком смысле представляется как некая разновидность коммерческой деятельности по производству и продаже электронных товаров и услуг. В нее входят: 1) электронная торговля, электронный банкинг, электронные деньги; 2) сервисы по предоставлению онлайн-услуг; информационные сайты, зарабатывающие на рекламе; интернет-медиа (звукозапись, кино, пресса, издательская деятельность); создание развлекательного и делового программного обеспечения; 3) производство соответствующего оборудования и другие обеспечивающие виды деятельности[17] (см, например, определение ОЭСР).
Напротив, определение цифровой экономики, данное Всемирным банком, является слишком широким, поскольку включает в себя не только цифровизацию экономики, но и цифровую трансформацию всех общественных сфер, социума в целом.
Чтобы хоть как-то сориентироваться в этом безбрежном море различных вариантов и трактовок цифровой экономики, следует, с нашей точки зрения, придерживаться установки на разграничение адекватных времени трендов в области технологий. Так, для более ранних трактовок, начиная с Паскотта и примерно до 2000 г., характерен акцент на интернет-технологиях как мейнстриме 90-х г. г. в странах Запада. Современные подходы, напротив, в большей степени ставят во главу угла совокупность экономических и социальных видов деятельности, основанных на развитии мобильных и сенсорных сетей, облачных технологий, технологий работы с BigData и др.
В целом, в современной мировой экономической науке выделяются два подхода к содержанию понятия «цифровая экономика»: системный подход, доминирующий в европейском сообществе, и технологический, характерный для американских компаний. Симпатии автора лежат на стороне системного подхода, в соответствии с которым цифровая экономика представляет собой совокупность видов экономической деятельности, основанной на проникновении цифровых технологий во все сферы человеческой деятельности, среди которых в контексте нашего исследования нас интересуют, в первую очередь, социальная сфера и образование. Как следует из самого названия, технологический подход ставит во главу угла, прежде всего, учет инновационных цифровых технологий, которые, несомненно, являются главным фактором преобразований как внутри отдельного экономического субъекта, так и общества в целом, но все же упускают из виду глубинную цифровую трансформацию всех сфер жизнедеятельности социума.
На понимание сущности определений большое влияние оказывают также реалии переживаемого исторического периода. В первых определениях цифровой экономики заметно стремление подчеркнуть ее специфику и противопоставить концепции информационной экономики и связанного с ней более общего понятия «информационное общество». Этот термин впервые был употреблен в Японии в работе Т. Умесао и практически одновременно с ним в работе американского экономиста Ф. Махлупа в 1960-х г. г. XX в. Цифровая экономика возникала в рамках информационной экономики как ее специфическая отрасль, основанная на использовании технологических платформ в сети Интернет, мобильных или электронных устройств. При этом она способствовала генерированию новых финансовых и экономических отношений в процессе производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг на глобальных рынках[18].
Вначале для обозначения экономических отношений, связанных с использованием ИКТ, применялись термины «информационная экономика», «электронная экономика» и т. п., и только после выхода доклада Всемирного банка «Цифровые дивиденды» (Доклад о мировом развитии, 2016) понятие «цифровая экономика» получило международное признание. Следует согласиться, что этот термин, пришедший в науку из журналистики, более выигрышен и выразителен с лингвистической точки зрения, что очень важно для популяризации стоящих за ним идей. Выбор именно этого термина в значительной степени был также продиктован практическими успехами в области цифровой трансформации Великобритании, где он имел хождение с подачи правительства, начиная с 2010 г.
Наряду с информационной экономикой (информационным обществом), экономикой знаний, неоэкономикой, цифровая экономика является одной из моделей постиндустриального общества. Термин «постиндустриальное общество» использовал американский социолог Д. Белл в 1959 г. для идентификации общества, в котором доминирование вторичного сектора в экономике (производства товаров) сменилось преобладанием третичного сектора (производства услуг)[19]. В этих условиях главными драйверами общественного развития становятся информация, знания и наука. Таким образом, цифровая экономика является продуктом инновационного развития мировой экономики и одновременно парадигмой развития современного общества.



