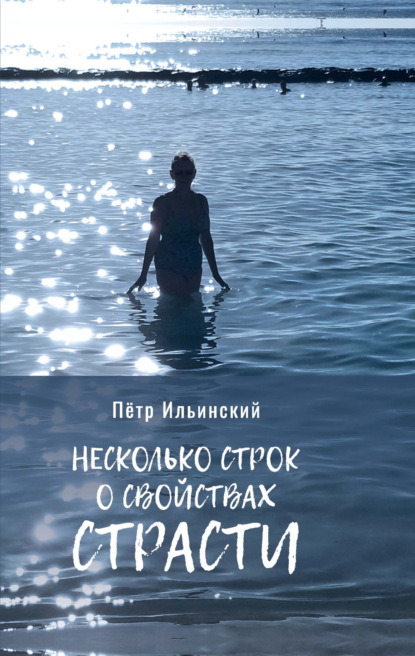
Полная версия:
Несколько строк о свойствах страсти
Удар пришелся ниже кабины, и поэтому стёкла остались целы. Вагоны артиллерийской очередью стукнулись друг о друга, кабину тряхнуло, когда она перескакивала через упрямо отступающий перед ней бугор, рельсы взвизгнули под тяжестью внезапно врезавшихся в них колёс, а пальцы до боли вцепились в ненужный тормоз. Поезд встал. Машинист повернул жёлтое лицо к напарнику: «Коля… Ты видел?.. Он сам…» «Видел», – пробормотал Коля. Он не мог признаться, что за несколько секунд до аварии почему-то отвёл глаза от путей или, если совсем честно, просто на мгновение их закрыл. От усталости, что ли?
* * *– Ну, проснись же ты, наконец. Третий раз тебе звонят, а ты всё дрыхнешь.
– А кто там?
– Кто, кто? Не знаю. Женщина.
– Женщина – это хорошо. Я люблю женщин.
– Тогда подойди.
– Я подхожу, я подхожу, я уже подошёл. Алло. Это ты? Чего? Чего?.. Да говори нормально. Как пропал? Ничего себе. Да ты не волнуйся. Куда ты звонила, в морг?! Ну, ты даёшь. Ты чувствуешь? Ну а я чувствую, что он закатился к кому-нибудь и заложил хорошенько, а теперь ему стыдно, и он, бедный, по улицам мается. Боится, значит, твоего характера ласкового. К маме ездил?.. Ну, одно другому не мешает. Можно сначала съездить к маме, а потом ещё куда-нибудь… Ты хочешь, чтобы я приехал? Это серьёзно?.. Хорошо, сейчас приеду. Часа через полтора. Такси возьму. Да. Да. Пока.
– Случилось чего-нибудь?
– Да не знаю. Ерунда какая-то. Ленка мне звонила.
– Ленка?! Да, мне тоже показалось, но я…
– Угу. У неё исчез этот… В общем, новый её…
– То есть?
– Пропал позавчера. Поехал навещать маму на дачу и не вернулся. Она сначала думала, что он опоздал на поезд, потом, что она перепутала день, а теперь получается, что уже двое суток… И вот я вдруг должен то ли её утешать, то ли искать нашего красавца-гулёну. Чушь какая-то. Прямо в панике девочка. Вот из-за меня бы она так переживать не стала. Сейчас, чую, прихожу я к ним, а он там сидит – живой и вполне ублаготворённый. Ну да ладно, я с вокзала перезвоню, может, и не придётся ехать-то… Знаешь, а я с ней не говорил уже месяца два… Или три.
Через полтора часа он звонил в дверь очень хорошо знакомой ему квартиры. Боже, сколько было связано с этим подъездом – от первых бесконечных разговоров на глазах у проходящих соседей до последних бессмысленных объяснений рядом с бесповоротно проржавевшими за несколько лет батареями. Но не вспоминай, не вспоминай, милый! Всё ушло, ничего не воротишь, ничего больше нет, ничего, ничего больше нет.
* * *– Привет. Ну как?
– Никак. Его нигде нет. Я всех обзвонила. Надо в милицию.
– Ты знаешь, в милицию – это довольно серьёзно.
– Я знаю, я всё знаю, какой же ты… Человек, ты понимаешь, человек пропал!.. – она сразу начала кричать.
– Леночка… – он оторопел, – Леночка…
– Что ты талдычишь: Леночка, Леночка, – сделай что-нибудь, сделай что-нибудь в конце концов! Вспомни, вспомни, как ты красиво про дружбу говорил… Что на тебя всегда можно положиться, позвать на помощь. Клялся даже. Так и сделай что-нибудь! Один раз в жизни!..
Ему немедля захотелось уйти, но он взял себя в руки. «Однако, – подумалось неожиданно, – за отчётное время её лёгкая нервность отнюдь не уменьшилась. Впрочем, возможно, что этому есть вполне объективные причины». Он криво улыбнулся.
– Предлагаю разделение труда: ты пьёшь валерьянку, а я звоню куда следует. Ты согласна?
– Да, – сказала она. – Я согласна.
* * *По каждому факту необычной и преждевременной смерти возбуждается уголовное дело. Его, как правило, ведет следователь, ранг которого зависит от положения покойного и обстоятельств его кончины. В данном случае налицо было довольно обычное самоубийство или не менее обычный несчастный случай. Несколько вещей всё же поначалу насторожили кое-что видевшего на своём веку, но не хватавшего звёзд капитана линейного отдела, на которого возложили предварительное дознание. Во-первых, причин для самоубийства на поверхности не было. Во-вторых, оказалось, что человек, для которого, по обстоятельствам личного свойства, уход покойного из жизни мог бы быть желательным, проводил ставшую для того последней ночь как раз неподалёку от станции, где в тот самый час и имело место означенное неприятное происшествие. А такие совпадения случаются не часто.
Однако машинисты в один голос утверждали, что никого на перроне не видели, и, более того, все гости, бывшие на даче, подтверждали алиби подозреваемого. К тому же оттуда до станции выходило минут пятнадцать ходьбы, а по снегу ещё больше. Да и незачем было покойному там останавливаться, разве что по ошибке, что в подпитии происходит тут и рядом (а содержание алкоголя в крови у него оказалось изрядное, что, в общем, делало показания машинистов достаточно достоверными). Следователь, надо отдать ему должное, даже съездил в поселок и самолично промерил расстояние от платформы до обширного, аж в четыре флигеля, двухэтажного дома. А потом зашёл в автопарк и поговорил с шофёром, который в тот вечер был за рулём последнего автобуса с двумя-тремя припозднившимися пассажирами. Когда же и это ни к чему не привело, а бессмысленная пьяная драка на соседнем перегоне закончилась настоящим убийством, то следователь немедля переключился на него, а на предыдущее дело поставил большую прямоугольную печать и отправил в архив. Тем более, что и личные обстоятельства покойного стали после небольшого расследования выглядеть не так уж радужно. Одним словом, обычная история.
* * *Сорок пять лет спустя двое старых людей, мужчина и женщина, медленно прогуливались по дорожкам больничного парка. Мужчина опирался на тросточку, но скорее форсил, нежели действительно в ней нуждался. Женщина выглядела заметно хуже, с тёмными кругами под глазами и редкими волосами, покрытыми полупрозрачной косынкой. Она осторожно ступала по гравию, как бы всё время боясь поскользнуться, и часто останавливалась. И увидев, наконец, скамейку, с облегчением на неё уселась и тяжело вздохнула.
Со стороны их разговор показался бы и обыденным, и беспредметным, ну о чём, скажите, могут говорить люди, прожившие друг с другом всю жизнь, пусть даже и готовящиеся к определённому им вечному расставанию? Солнце стояло высоко. Был май, и цветы заглушали неистребимый аромат лекарств и дезинфектантов, называемый в просторечии больничным запахом.
– А почему бы тебе не рассказать мне, что было на самом деле? – вдруг спросила она.
Мужчина вздрогнул.
– Что ты имеешь в виду? – он изо всех сил старался изобразить удивление, но получилось плохо. Его застали врасплох – или просто умирающим тяжело лгать?
– Ты прекрасно знаешь. Тогда на станции, только не говори мне, что тебя там не было. Неужели ты не можешь…
– Почему же… – мужчина думал. – Могу. Я там был. Я всё видел. Да и не только видел, – он говорил медленно, выбирая самые простые слова и делая размеренные паузы.
Она продолжала смотреть в сторону. Её лицо не выразило ничего, ни изумления, ни гнева.
– Мы договорились встретиться, наверно, я его попросил. Не помню, зачем, может, мне страшно захотелось поговорить с тобой, узнать о тебе хоть что-то, но только не видеть, ни за что не видеть, вот я и использовал его как информационный суррогат, что ли. Ну, не помню я, почему. Он не хотел сначала. Потом сказал: как раз поеду от матери, могу сойти на станции, вот и поговорим до следующего поезда. А я забыл, действительно забыл. Если бы помнил да готовился – сидеть бы мне в тюрьме или где похуже. Но тут напился с ребятами и извалялся в снегу, промок весь. Начал искать, во что переодеться, да и нашёл доху какую-то, от работяг осталась, наверно. А когда бежал через столовую полуодетый, вдруг прозвонили часы, и я – ба, мне же на станцию! В чём был выскочил на улицу, а там, как нарочно, грузовик. Ну, я махнул рукой и залез. А шоферюги тогда были – не чета нынешним, подвёз меня и слова не сказал.
Выскочил я на платформу, а он уже там. С пол-литрой, между прочим. Ты же помнишь, он не дурак был на этот счёт. И говорит мне: мол, взбрызнем за ради праздника и такой погоды. Взбрызнем, говорю. А он потом продолжает: все ж не чужие мы с тобой, как на это не посмотри. И вот тут меня внезапно взяла злость. Чёрная, жуткая. Не чужие, говорю. И хрясть ему в нос. Действительно, пьян я был, иначе никогда б… Он-то меня раза в три покрупнее был. Да. И он поднимается – так, говорит, значит, мужской разговор у нас получается. Я отскочил к перилам, жду, пока он отряхнётся, и протрезвел сразу. Тут вдруг гудок – поезд. Мы словно по команде обернулись, смотрим на этот прожектор, но я каким-то образом оказался у него за спиной. И тут в меня словно дьявол вселился, как я это сделал, не знаю, а вот оттолкнулся изо всех сил, прыгнул и пихнул его. А до края там далеко было, да только заскользил он, руками, как сейчас вижу, замахал, а на самом деле только ускорился, наверно. Нарочно так не сделаешь – прямо под колёса рухнул.
Мужчина замолчал. Потом медленно потянулся за сигаретой и долго её раскуривал.
– Как же… – женщина говорила с трудом, – как же они тебя не поймали?
– Не знаю, – мужчина выпустил дым. – Честно, не знаю. Но думаю, что повезло. Прямо-таки зверски повезло. Он ещё не долетел, а я уже мчался назад сломя голову. И сразу со станции на дачу рванул, не разбирая дороги, прямо по целине снежной. Никогда в жизни так не бегал. А назавтра опять снегопад – всё и замело. Да к тому же тот грузовик, что меня подвозил, так и не нашли. И не искали. И получилось как: я меньше чем за полчаса в пьяном виде сбегал на станцию, убил голыми руками парня, что меня бы одной левой мог… Да и… Ну так что уж теперь… Я же с Маришкой в ту ночь… И обуяло меня прямо зверство какое-то – чего я с ней только не вытворял. Она чуть с ума не сошла. И следователю сразу: мол, всю ночь с ним провела, от захода до восхода и без перерыва. Но всё равно повезло, в те времена и без вины виноватых, сама знаешь, за ушко да в тёплые края…
– Как, кстати, Маришка? – женщина по-прежнему говорила будничным, лишённым эмоций голосом.
– Нормально. Я звонил ей на той неделе. Внук у неё женится. На свадьбу звала.
– Я знала, – вдруг её голос приобрел и интонацию, и краски. – Я всегда это знала.
Мужчина молчал.
– А тебя никогда не мучила совесть? – она даже повернула к нему голову. – Может быть, ты себе задавал вопросы когда-нибудь, всё равно какие?
– Совесть? – он потушил сигарету. – Да, меня мучала совесть. Год, наверно, может, чуть больше. И я чуть было не рассказал тебе всё прямо там, в морге. Но ты потеряла сознание, а потом я оправдался – сказал себе, что никогда бы не сделал этого нарочно, а тогда, ты помнишь, было много возможностей убить человека совершенно законным способом. И, бог свидетель, я иногда хотел его уничтожить, сейчас даже как-то странно вспоминать… Да, разбередила… Но я, – мужчина тоже повысил голос, – я никогда бы специально этого не сделал. Вот тогда бы я действительно не смог жить.
– А так – смог? – она не упрекала, она просто констатировала факт.
– Так смог. Но не сразу. Не думай, он мне снился даже и не раз, ослеплённый прожектором и нелепо размахивающий руками.
– Снился? – вот теперь она была удивлена.
– Да. Но потом, когда я встречал тебя из роддома с нашим первым, что-то случилось, щёлкнуло, и я больше о нём не вспоминал. Никогда.
Подул лёгкий ветерок, и оба обернулись на окутавший их поток цветущей сирени.
– …А вопросы… – вдруг продолжил мужчина. – Мучает меня один до сих пор. И никогда уже не узнаю, кстати. Всё-таки, почему меня не заметил машинист?
– Боже мой, – женщина болезненно поморщилась. – Зачем? И главное, всё напрасно.
Мужчина сначала не понял. – Что напрасно?
– Да всё, – теперь говорила она, и тоже не торопилась – а куда? – Я тебе не рассказывала никогда, думала, зачем? Но сейчас-то… В общем, у нас тогда всё кончилось. Я не знаю, почему и отчего. Ты ведь помнишь, что я очень переживала наш с тобой разрыв, я ведь любила тебя, как-то странно, но всё-таки любила. Но страсти, страсти уже не было. А он… Он мог со мной делать что угодно, я бы за ним пошла на край света. И я его за это ненавидела. Ненавидела, потому что потеряла волю, за то, что перестала быть собой. К тому же, если помнишь, он не был великим интеллектуалом, это ты у нас гений, а он брал совсем другим. Но тогда мне как раз и надо было чего-то другого. Только прошло всего несколько месяцев, и всё в нём стало меня потихоньку раздражать: и любовь к застольям, и замашки простецкие, и друзья его, и мама домостроевская с платочками да грядочками. Так что начали мы друг друга понемногу поругивать, а он, ты знаешь, в выражениях не стеснялся – воспитание-то соответствующее. И как-то ночью до меня вдруг дошло, что ничего не изменилось, что променяла я шило на мыло, и заревела я тогда во весь голос, и завыла прямо в подушку А он не понял, что к чему, и говорит: тише там, дай поспать, мне с утра на смену Вот я ему утром и выдаю, что называется, безо всякого объявления войны: до свидания в следующей вселенной, иди, дорогой, на свою смену и не возвращайся. Он не понял сначала, а потом потемнел, хлопнул дверью и всё. Больше я его не видела.
– Поэтому он и ночевал у мамы? – спросил мужчина.
– Конечно, – ответила она. – И потому же я не начала его искать на следующее утро, а только когда она мне позвонила ещё через день, узнать, как там её непутевый, вернулся ли, наконец, в семейный очаг? И я сказала это следователю сразу, как пришла в себя. Он, кстати, очень обрадовался, видать, над ним другого добра висело достаточно. И сразу же закрыл дело. Назавтра после того как со мной поговорил. Впрочем, я часто думала о том, что ты можешь его убить, к тому же, ты прав, тогда ведь было много способов это сделать. Конечно, мне очень жаль, но я должна тебя разочаровать, если все эти годы ты представлял себя благородным дуэлянтом, завоевавшим женщину в честном бою. Из тебя получился плохой герой – и ты убил человека совершенно зря.
Мужчина встал.
– Пойдём, я тебя провожу до палаты. Уже темнеет.
Она тоже приподнялась.
– Героя, говоришь, не получилось? – сказал он не то вопросительно, не то утвердительно. – Наверно. Теперь всё это вообще выглядит нереально. Как я смог такое вытворить – это я-то, тихий и осторожный книжный червь?
– Да, – усмехнулась она. – Если бы тебе тогда кто-нибудь сказал, что всего через десяток лет ты начнёшь лихо ухлёстывать за многочисленными студентками, то ты бы тоже не поверил.
Мужчина не ответил. «Конечно, – думал он, – студентки. И, кстати сказать, аспирантки. Ты знаешь меня, ты очень неплохо знаешь меня, но я, я-то знаю тебя даже слишком, даже чересчур хорошо. Как тебе было нужно это признание – признание, что из-за тебя не просто могли убить, а действительно убили. Ты прямо засияла. Тебе лучше. Тебе легче. Неужели так проще сводить счёты с жизнью? О, мой бог, ведь из-за этой истории ты прожила совсем не так, как могла. Но что бы было? Ты бы вечно металась между нами, находя во мне одно, а в нём другое, и мы без конца лезли бы из кожи вон, чтобы угодить своей королеве. И это длилось бы годами. А так получилось по-моему: и ты, и дети, и всё остальное. Я выиграл, и поэтому теперь ты хочешь, чтобы грех тоже был моим. Пожалуйста. Мне не жалко. Пусть будет».
«Но ведь он тоже тебя прекрасно понял, он был вовсе не так глуп, просто немного груб и негибок. Не привык, понимаешь, к сложным душевным переживаниям. Я сначала даже ошалел, когда он позвонил и стал уговаривать встретиться, соглашался приехать на станцию, пускай только на десять минут. И я действительно забыл, всё – правда, и про случайную машину тоже. Выбежал на перрон, да. Увидел его, и почему-то сразу понял – ох, не к добру это. И никогда не забуду его лица, когда он сказал: «Оставайся ты. Иначе это не кончится никогда. Она не любит меня, она не любит тебя – я это могу понять. Но она ещё и любит меня, и всегда любит тебя – даже, когда меня обнимает. Так я не могу. А ты сможешь». Вдруг засвистел гудок, и он обернулся. И пока я думал, пока пытался протрезветь, а я действительно был пьян, поезд почти поравнялся с нами, и он крикнул мне: «Обещай, что ты о ней позаботишься!» – «Да», – сказал я, а что я ещё мог сказать? – «Обещай, что с ней ничего не случится!» – крикнул он снова, и я опять сказал: «Да», – и вот тут он оттолкнулся и прыгнул».
* * *– Добрый день, – он приподнял шляпу, увидев приближающегося к ним доктора. – Как наши дела?
– Прекрасно, – бодро улыбнулся тот. – Вы не могли бы потом ко мне зайти?
– Да, конечно, – легко согласился мужчина. Врач скрылся за поворотом коридора. Мужчина внимательно за ним следил.
– Ну и как же ты прожила со мной все эти годы? – вдруг повернулся он к своей спутнице. – Всё время, как ты говоришь, зная обо всём? Или чувствуя?
Она подняла голову. – Я полюбила тебя, – сказала она. – Опять. Но по-другому. Во многом из-за детей. У тебя получились замечательные дети.
– Да, – сказал он. – Да. Неплохие. Я даже ими доволен.
– Вот видишь, – согласилась она. – А потом, как ты знаешь, мы жили не в самую лёгкую из эпох. И с годами я обнаружила, что ты вёл себя до удивления прилично и никого не предал. Нигде и ни в чём. Я понимала, что ты таким образом замаливаешь свой грех, но ведь какая разница? И тебя так любили все окружающие, может, я от них в конце концов и заразилась.
– Ну, неважно, – они уже стояли у стеклянной двери палаты. – Я постараюсь зайти на неделе.
– Хорошо, – она устало улыбнулась. – До свидания.
– До свидания, – и он сначала двинулся к выходу, а потом спохватился и застучал тростью в направлении кабинета заведующего отделением. «Ничего не пожалею, – вспомнились ему собственные слова. Делайте, что угодно, доктор, всё, на что только способна современная медицина», – и вежливо кивающий врач, слишком часто, к сожалению, слышащий подобные речи.
«Господи, – вдруг подумалось ему, – знала бы она! Знала бы она. Я же не люблю её уже столько лет, я бы мог с ней ещё когда развестись одной левой, и жить много легче и лучше, а уж точно свободней, без этих дурацких условностей, и дети бы вовсе не возражали, даже теперь или тем более теперь… И всё потому, что тогда, на перроне, добровольно уходивший в небытие человек попросил меня дать единственную в моей жизни клятву. Боже мой, он так хотел, чтобы она была счастлива! Или боялся, что когда-нибудь просто убьет её? Но по большому счёту, – он постучал в дверь кабинета, – по большому счёту, я не жалею о том, что я ему всё это пообещал. И никогда не жалел – ни секунды».
* * *Иногда Костя глядел на старую фотографию деда и бабки, их многочисленных братьев и сестёр и ещё вполне крепких, сидевших в центре хозяев дома: главу клана в строгой паре и его супругу в сером закрытом платье и с какой-то диадемой в волосах – своих собственных, так сказать, праотца и праматерь. Фотография была чёрнобелая, но очень чёткая и ясная. Выглядели предки на ней неприлично молодо, как-то даже по-детски. Большинства запечатлённых на снимке людей уже не было в живых, поэтому Костя вглядывался в их лица с особенным тщанием. Но ничего необычного разглядеть не смог. «А интересно, – подумалось ему один раз, – какая у них была жизнь? И показались бы им мои проблемы заслуживающими внимания? И были ли у них такие проблемы?»
* * *На этом заканчивается первая стопка текстов или рассказ о первом приближении к любви.
1983, 1991, 1994–1998
Интермедия
А любовь – что любовь? – вдруг подумалось на одном из тихих перекрёстков города, всё равно какого. Это странное слово, которого нет. Игра мыслей и неуловимое прошедшее. Навсегда, безвозвратно. Что-то несбыточное, не-настающее. Ничто? Нет, никогда, нет, ни за что. Есть, было, может быть, будет. Она здесь, рядом – на лестничной клетке, в соседнем подъезде, за углом, в парке, над рекой, в другом городе, который с грустной старческой улыбкой смотрит на тебя, как смотрят сотни других, наоборот, юных, под стать тебе и столь же рьяно хватающих пальцами воздух. И… и?
И она взмывает над землёй, взлетает выше каминных труб, антенн и телевизионных башен, но вдруг пикирует и оказывается совсем рядом, на уровне второго этажа, напротив лепных карнизов, балконных решёток и цветных окон раскрашенной истории, только нет, пальцы не задевают её, сколько ни прыгай, мимо, мимо летит она, парит, планирует вместе со взмывшими памятниками разным, но одинаково свободным людям, и внезапно исчезают пальцы и цепи. Всё отброшено, всё ничто перед любовью, и продолжается полёт, безостановочный, ибо наши реки не могут закрутить воздух в каменный штопор смерча или стеклянную спираль застывшей росы, реки остаются на земле, хоть я и видел, кажется, наяву позеленевшие от беспрерывной жизни шпили, стройные и стойкие, небодержащие, над рекою. Или морем. И над рекой или морем или рекой и морем снова начинается ветер.
Гаснет небо, и тише становится город, всё равно какой. Город ждёт. Город притаился. Город помнит. А ветер себя лишь слышит. Он обижен на запахи кофе, на тепло очага. На аромат чая, который вы завариваете и тем более пьёте. Ничего не знает ветер, злой или добрый, не предчувствует. Только клокочет и стонет, не понимая сам почему. Но наша жизнь не встречается с ветром. Мы поднимаем воротник, пересекаем площадь с потухшим фонтаном и оглядываемся. Нас ждёт вечерний вокзал, выход и вход. Нас ждёт путешествие. Поезда, ничего вы не смыслите в жизни!
Вы вошли, читатель? Вы уже на платформе?
Ах, что же я! Чай-то как раз заварился, и такой душистый… Не успеваем… Термос, ни в коем случае не забудьте термос, ведь нас так долго не будет дома!
1981, 1996
Стопка вторая: Пространственные координаты
Встреча
On a dark desert highway…[1]
На юге всегда темнеет рано, не только в зимние месяцы. Но какая разница! Не свет греет людей, а тепло. А осветить пространство можно тугими лучами фонарей, лампочками, приверченными к отражателям, или слегка гудящими от напряжения прожекторами, и они будут тем экономичней и выгодней, чем меньше съедают энергии, чем направленней, матовей и холоднее их тусклая яркость.
Магазинчик стоял метрах в трёхстах от автострады, напротив бензозаправки, в маленьком неогороженном асфальтовом тупичке. За стенкой помещался салон видеопроката, и жители соседних закоулков часто останавливались на этой площадке по дороге с работы, чтобы не тратить лишнего времени. Покупали нехитрую еду и брали фильмы – разные, но чаще новые, ещё недавно мелькавшие на разворотах газет. Поэтому особенно людно было в четверг и пятницу, да и в субботу тоже. Остальные дни торговля шла ни шатко ни валко, но разорением не пахло: всё-таки при подведении баланса стеклянный придорожный параллелепипед оказывался достаточно выгодным.
Хотя трудно сказать, где в этих краях были доходные или убыточные места: город рос как-то странно, пробираясь втянув живот между невысокими холмами и привольно расползаясь в распластанных долинах. То здесь, то там вдруг вырастали блестевшие глянцевым покрытием плоские двухэтажные здания новых компаний или жилых комплексов, снабжённых непременными едко-голубыми бассейнами, а бывало, спустя несколько лет исчезали за проволочными изгородями и, скрытые от чужого глаза, тускнели, покрывались пятнами и сливались с суетливо бурлящей тропической порослью. Оттого менялось направление и переплетение людских потоков, струившихся утром на работу, а вечером домой, оттого торговые успехи и неудачи нельзя было предвидеть даже приблизительно.
Но всё это мало заботило продавца-мексиканца – не увольняют, и ладно. Работал он почти каждый день, выручку сдавал исправно, а перед уходом, ближе к полуночи, протирал широкой шваброй проходы между стойками с товаром. Погода чаще всего стояла сухая, спрятанный за холмами океан лишь изредка насылал дожди в притаившуюся неподалёку пустыню, поэтому грязи было немного. Зарплату мексиканцу давали наличными, но налоги он честно платил, следуя совету, полученному ещё дома до отчаянного броска через северную границу. Тогда кто-то объяснил ему, а он поверил и с той поры не проверял, что за десять лет уплаты налогов полагается самая настоящая пенсия, но что получить её можно будет, только когда тебе стукнет шестьдесят два. Таким образом, до выработки пенсии оставалось целых шесть лет (точнее, шесть лет и полтора месяца), а до шестидесяти двух – ещё больше, но Пабло не унывал. Семьи у него пока не было, поэтому лишние расходы ему не грозили, наркотиками он не баловался, разве что выкуривал на какой-нибудь вечеринке наполненную сладкой травой пахитоску-другую, а церковь посещал не менее трёх раз в год – на Пасху, Рождество и Успение Богородицы.
Церковь немного походила на магазин, тоже большая и плоская, с высоким, вздёрнутым в небо крестом. Её окружала обширная автомобильная площадка, по праздникам до отказа забитая длинными потрёпанными машинами, которые на стартовых скоростях испускали весёлые хлопья сизо-серого дыма. Колоколов, в отличие от собора в родном городке мексиканца, у местной церкви не было, а вместо органа священник часто включал магнитофонную запись. Но Пабло такие мелочи не волновали, и он исправно опускал мелочь в чашку для пожертвований. Особенно усердно молился Деве Марии, грустно склонявшей набок покрашенную деревянную голову, а потом выстаивал длинную очередь на исповедь у маленького зарешеченного окошечка. Впрочем, каяться ему было, по сути, не в чем, и он иногда даже пытался выдумать какой-нибудь небольшой грех, чтобы, как он думал, доставить священнику удовольствие.

