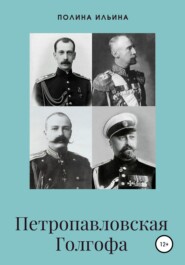 Полная версия
Полная версияПетропавловская Голгофа
Дмитрий Константинович развивал навыки верховой езды не только у племянников, он создал в своем полку спортивное общество, в котором офицеры и нижние чины могли улучшать свои кавалерийские навыки и физическую подготовку, а дважды в год участвовать в состязаниях, бить рекорды и брать самые трудные препятствия скоро вошло в моду, ведь одержать победу за свой полк считалось огромной честью.
С 1897 года Дмитрий Константинович занимал должность главного управляющего государственным коннозаводством. Лошади необходимы были везде – в армии в качестве транспорта, в крестьянских хозяйствах, – а великий князь понимал это как никто другой: он возглавлял более 30 различных обществ по всей стране, связанных с лошадьми, будь то их разведение, селекция или конный спорт. Великий князь и сам имел два конных завода. В родной Стрельне на берегу залива он разводил легких рабочих лошадок, выведенных от финской породы, а в 1888 приобрел под Полтавой землю и основал Дубровский конный завод, ставший знаменитым – он славился орловскими рысаками. Именно благодаря Дмитрию Константиновичу в конце XIX века эта порода была спасена от полного уничтожения, когда все коннозаводчики повально увлеклись скрещиванием ее с американскими породами лошадей.
Рысаки великого князя участвовали в конских выставках и состязаниях, часто получая первые призы, знаменитый жеребец Хваленый столько раз побеждал на бегах, что когда его выводили, на него надевали целую цепь из медалей. В 1916 году Дмитрий Константинович внес в государственный банк 132 золотые медали и 33 золотых жетона – это был его вклад в защиту Родины. Сам он уже не мог служить в действующей армии – подвело сильно ослабевшее зрение, к этому времени он уже отказался от всех государственных должностей, занимаясь только своим заводом как частное лицо. Роковой 1917 год великий князь встретил в своем имении в Крыму. Тяжелым ударом для него стало отречение императора, он мог бы покинуть страну или, оставшись в Крыму, позже уехать с остальной родней, но ответственность перед людьми и перед своим делом заставила его вернуться в Петроград. Дмитрий Константинович писал Керенскому, умоляя временное правительство принять безвозмездно его конный завод и Стрельненское имение, чтобы оградить национальное достояние от разгрома, но обращение осталось без ответа. Увы, предчувствие не обманули великого князя: в годы революционного безумия Дубровский конный завод был варварски разграблен, а породистых рекордсменов использовали отряды Махно и Петлюры, да и не только им нужны были хорошие лошади. В охваченном революционной смутой Петрограде Дмитрий Константинович сумел приобрести дом на Песочной набережной, он взял на себя попечение о сестре Ольге Константиновне, бывшей королеве греческой, которая после убийства ее мужа вернулась в Россию, и о племяннице Татьяне, оставшейся вдовой с двумя малолетними детьми. Для поддержания этого малого круга ближних в скромный особняк были доставлены корова и доярка. В эти дни почти ослепший великий князь часто посещал Иоанновский монастырь на Карповке, чтобы помолиться у гробницы святого Иоанна Кронштадтского, которого он близко знал и почитал еще при жизни. В марте 1918 года Дмитрий Константинович был выслан в Вологду вместе с другими великими князьями – Георгием и Николаем Михайловичами. Татьяна Константиновна с детьми последовала за любимым дяденькой, не желая оставить его в столь трудный час. Им предлагали план побега, но они отказались, так как это усугубило бы положение других Романовых.
Однако предчувствуя беду, Дмитрий Константинович вскоре потребовал немедленного отъезда Татьяны с детьми за границу, поручив всю заботу о ней своему Управляющему делами – полковнику А. В. Короченцову.
Вскоре ссыльные были арестованы и заключены в тюрьму. В конце лета 1918 года большевики вернули пленников в Петроград на Шпалерную в дом предварительного заключения, здесь к ним присоединились арестованные в Петрограде великий князь Павел Александрович и один из племянников Дмитрия Константиновича – Гавриил. Последнего великий князь ободрял в заточении. Дяденька написал и передал ему в камеру 90-й Псалом, который князь Гавриил выучил наизусть и повторял в молитве. В конце 1918 года, когда вся Россия уже была залита кровью, великих князей перевели в Трубецкой бастион в Петропавловской крепости. Об их освобождении ходатайствовал Максим Горький, которому было обещано большое вознаграждение за его хлопоты. Существует легенда, что Горький специально ездил в Москву к Ленину и получил согласие на помилование великих князей, однако телеграмма из Кремля с приказом о расстреле опередила поезд, на котором Горький возвращался. Когда он вернулся в Петроград и выходил из поезда, мальчишки газетчики уже выкрикивали новость о расстреле великих князей в ответ на убийство вождей великих коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
По словам тюремных сторожей, великий князь Дмитрий Константинович шел из камеры на расстрел с молитвой, повторяя слова Христа: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят».
Из воспоминаний Гавриила Константиновича, единственного из великих князей, которому удалось вырваться из большевистских лап:
«В тюрьме дяденька меня утешал: “Не будь на то Господня воля, – говорил он, цитируя «Бородино», – не отдали б Москвы, а что наша жизнь в сравнении с Россией – нашей Родиной?”»
Великий князь Георгий Михайлович
В 2019 году в Санкт-Петербурге на монетном дворе была отчеканена интересная медаль. Изображены на ней два Георгия: на реверсе – Георгий Победоносец, убивающий змея, на аверсе – великий князь Георгий Михайлович. Сначала можно подумать, что медаль эта должна напомнить о какой-нибудь героической победе или военном подвиге под августейшим командованием. Но великий князь Георгий Михайлович не сражался на фронте, не вел в бой армии, не был он ни политиком, ни реформатором и тем не менее именно этот великий князь получил от потомков памятник отчеканенной медали и, возможно, другого он бы и не хотел.
Назвав своего сына Георгием великий князь Михаил Николаевич, очевидно, хотел видеть его исключительно храбрым полководцем, ведущим в бой гвардейские полки. Но маленький Гиго, как называли его в семье, с самого детства не оправдывал чаяния отца. Третий сын в многодетной семье кавказского наместника, внук Николая I и племянник Александра II Георгий никак не желал подчиняться общим для всех Романовых династическим правилам.
Брат Георгия, великий князь Александр Михайлович, рассказывал в своих мемуарах, как однажды за обедом некая дама спросила маленьких князей, кем бы они хотели стать, когда вырастут. Вопрос был с подвохом, ибо гостья прекрасно знала, что великие князья не могут быть никем иным, кроме как военными. Все братья выбрали себе кто кавалерию, кто флот и только Георгий робко сказал: «Я хотел бы стать художником-портретистом». Не прошло и получаса как юному мечтателю весьма доходчиво показали всю преступность его желаний – всем детям подали малиновое мороженое, а Георгию нет.
Однако дело всей своей жизни великий князь нашел не в мастерской художника, а на базаре. В одно прекрасное утро Георгий прогуливался по армянским торговым рядам и забрел в закуток, где торговали старинными монетами. Он купил одну, через несколько дней другую, потом третью… Вот так в 1877 году четырнадцатилетний великий князь Георгий Михайлович положил начало своей коллекции русских монет и медалей – той самой коллекции, которая подарит ему особое место в истории отечественной нумизматики. Но счастья, увы, не принесет. На новое увлечение сына родители смотрели куда снисходительнее, чем на прочие его хобби. Старшие братья часто одалживали Георгию деньги на покупку редких монет, а отец даже подарил ему свою личную фамильную реликвию – семейный рубль. Серебряная монета в достоинство 1,5 рубля, отчеканенная 1835–1836 годах по заказу императора Николая I к десятилетнему юбилею его правления, предназначалась в подарок членам семьи государя и его приближенных. На аверсе был изображен профиль Николая I, на реверсе – его супруги и детей. Всего отчеканено было около 200 экземпляров семейного рубля. Более Романовы подобных монет не заказывали.
Однако по-настоящему судьбоносным для юного нумизмата событием стал переезд его семьи из Тифлиса в Петербург. Весной 1881 года император Александр II освобождает великого князя Михаила Николаевича от должности кавказского наместника и ставит во главе государственного совета. С этого дня Георгий и его братья зиму проводят в Новомихайловском дворце в Петербурге, лето – на даче под Петергофом.
Суету большого города юный великий князь не любит, балы и театры навевают на него скуку… И лишь одна страсть никогда не приедается Георгию Михайловичу – нумизматика. Близко подружившись с большим специалистом по монетам Христианом Гилем, великий князь отныне старается его брать с собой во все заграничные путешествия. Гиль готов целыми днями пропадать на блошиных рынках в поисках редких монет для своего патрона. К 1887 году коллекция русских монет великого князя одна из самых богатых в России. Не желая попусту чахнуть над златом, двадцатичетырехлетний нумизмат сначала открывает на своей половине Новомихайловского дворца домашний музей для избранной публики, а затем задумывает куда более масштабное предприятие. В 1888 году под своей редакцией, на свои личные деньги великий князь начинает публикацию многотомного издания под названием «Корпус русских монет» – это самое полное собрание по нумизматике эпохи Романовых из когда-либо изданных в Российской империи.
Однако вне нумизматики Георгий Михайлович удивительно невезуч, кажется, будто все его удачи обратились в золото и серебро, а для личного счастья ничего не осталось. С юных лет великий князь служит в Уланском Его Величества полку, но по служебной лестнице продвигается со скрипом, к двадцати пяти годам он штабс-ротмистр, а затем пять лет без повышения. «Даже офицер, который был у меня камер-пажом обошел меня в чине», – жалуется Георгий Михайлович в письмах брату Сандро. При том что службу свою великий князь несет исправно, в полку его любят и начальство его хвалит. Более того, Георгий с детства дружен с детьми Императора Александра III и летом его частенько приглашают обедать в кругу царской семьи. От Михайловки до Александрии, где живет Государь, рукой подать. Но дружба дружбой, а царь твердо убежден: великие князья не должны иметь никаких поблажек в получении чинов. Его собственный сын – наследник – так на всю жизнь и останется полковником, а Георгий следующий чин получит только пережив две личные трагедии.
Летом 1891 года Георгий отправляется в Кобург погостить у своей двоюродной сестры Марии Александровны, герцогини Эдинбургской, а уже несколько недель спустя великий князь пишет брату: «Мне очень грустно уезжать из Ковбурга, успел влюбиться и довольно сильно, но не знаю, приведет ли это к чему-нибудь или нет». Сердце молодого принца покорила юная дочь хозяйки дома Мария, по-семейному – Мисси. Кокетливая и озорная красавица, она казалась Георгию идеальной спутницей жизни, но их чувства разбились о религиозные противоречия. Воспитанная в англиканской вере, Мария отказалась принимать православие, а император Александр III категорически запретил великим князьям жениться на иноверках. Георгий в отчаянье, он умоляет императора сделать для него исключение, говорит, в очереди к трону я даже не в первой двадцатке, а значит, мой брак никак не может поколебать монархические устои. Но все напрасно и вчерашний жених пишет братьям: «Мне досадно думать, что государь лишил меня невесты. Всегда мечтал жениться, но имеющий земную власть надо мной разорил мне гнездо, которое я думал себе свить. Бог ему судья».
Год спустя великий князь, находясь на полевых учениях под Петергофом, не удержался в седле, слетел с лошади и сильно ударился бедром. Первоначально травму посчитали пустяковой, однако нога болела все сильнее и сильнее, уже скоро князь совсем не смог ходить, потом сидеть. Император велел срочно отправить несчастного за границу, но время было упущено. К 30 годам великий князь Георгий Михайлович превратился в хромоногого полуинвалида. Служить дальше в кавалерии он не мог, а отставка Романовым не полагалась. Тем же летом Георгий получил наконец чин ротмистра, с опозданием и не ко двору. Казалось, вся жизнь пошла под откос, но тут на помощь двоюродному дяде пришел только-только взошедший на престол молодой император Николай II.
13 апреля 1895 года Государь издал именной указ об основании в Санкт-Петербурге Русского музея императора Александра III. Для молодого Государя, очевидно, заведовать государственным музеем русского искусства может только Романов. Самые авторитетные великие князья – Владимир и Алексей – перегружены другими заботами: у одного в подчинении гвардия, у другого – флот. Георгий же совершенно свободен. Кроме того, он разбирается в живописи, дружен с людьми искусства и известен как один из лучших специалистов по отечественной нумизматике. Кандидат утвержден. С апреля 1895 великий князь – управляющий русским музеем. Для размещения коллекций министерство двора выкупает у потомков великого князя Михаила Павловича Михайловский дворец, его интерьеры нещадно ломают и перестраивают, приспосабливая некогда жилые залы под музейные нужды. Великий князь курирует всю работу: от архитектурного проекта до покупки шкафов и развески полотен. Эта деловитость высокородного шефа даже вызывает раздражение у иных художников. Они опасаются, что Русский музей – будущее, слава и гордость национально искусства – обратится в частную галерею Георгия Михайловича. К счастью, августейший заведующий слишком мягок характером, чтобы диктовать всем свою волю. А его помощник, граф Дмитрий Толстой, оказывается превосходным администратором и знатоком живописи.
И вот, утром 7 марта 1898 года самый патриотический художественный музей столицы открывает свои двери для публики. Гости заполняют залы, чтобы взглянуть на самые яркие жемчужины коллекции: «Девятый вал» Ивана Айвазовского и «Последний день Помпеи» Карла Брюлова. Драма неминуемой гибели пока еще впечатляет публику лишь на полотнах.
А тем временем в жизни Георгия Михайловича происходит своя маленькая драма. Летом 1893 в Петергофе он близко знакомится с семнадцатилетней греческой принцессой Марией, и первое впечатление самое пессимистичное.
«Характером и душой она мне нравится, – пишет Георгий брату Сандро. – Но все остальное в ней некрасиво, и кажется, как бы я ни старался влюбиться в нее, не мог бы».
Впрочем, тридцатилетний великий князь юной Марии тоже не понравился. Однако родители молодых людей считают их брак большой удачей и постепенно внушают это своим непокорным детям. В отличие от любимой, но недоступной лютеранки Мисси, Мария Греческая воспитана в православных традициях, при том в строжайших. В церкви святого Георгия на острове Корфу великий князь обвенчался с Марией, к тридцати семи годам он наконец обрел семейный очаг. Через год у супругов рождается первая дочь Нина, а еще через два – вторая дочь Ксения.
Семья, Русский музей и нумизматика – три любви великого князя Георгия Михайловича. Осенью 1909 года две из них он соединил в одно целое, подарив Русскому музею свою коллекцию монет и медалей. Единственное условие: все собрание должно быть общедоступным и неделимым, а сам Георгий продолжит пожизненно им заведовать. Знал бы великий князь, как мало лет отмерила судьба и ему, и его дару.
В июне 1914 года Георгий Михайлович провожал свою семью на отдых в Англию. Он стоял на перроне, поезд увозил его жену и маленьких дочек, великий князь махал им рукой, не подозревая, что видит своих любимых в последний раз. Уже через месяц начнется Первая мировая война, Европа заполыхает, и Мария решит переждать это страшное время в тишине Туманного Альбиона. В Россию она больше не вернется. Лишенный возможности воевать, Георгий Михайлович в тылу однако не отсиживается. Генерал-инспектор при ставке верховного главнокомандующего, он ездит по всему фронту, вручая награды героям – получить георгиевский крест из рук самого дяди Государя считается особенно почетным. Колеся между штабами, общаясь с генералами и офицерами, Георгий Михайлович ясно видит постепенное нарастание общего разочарования войной и особенно положением в тылу.
11 ноября 1916 года он пишет Николаю II письмо с предупреждением: «Милый Никки, если в течение ближайших двух недель не будет создано новое правительство, ответственное в своих действиях перед Государственной Думой, мы все погибнем…». Но император остается глух к мольбам великого князя. Четыре месяца спустя монархия в России будет свергнута, а великие князья превратятся в просто граждан Романовых.
«Не знаю, кто я теперь – экс великий князь, экс-генерал, экс директор музея, экс верный слуга моего Императора», – пишет Георгий Михайлович жене.
Всеми мыслями он со своей семьей, там где тишина, покой, где его любят. Но вместо Англии в апреле 1918 бывший великий князь отправляется в ссылку в Вологду.
«Меня сослали только за то, что я Романов. Я присягал перед крестом и Святым Евангелием и умру, верный моей присяге».
В Вологде к Георгию присоединяются его брат Николай Михайлович и кузен Дмитрий Константинович. Живут скромно, ходят друг другу в гости, радуются, если удается достать мешок картошки или муки.
Жене Георгий пишет: «Рубашки у меня все рваные, но зато все чистые и хорошо выглажены, чулки штопаные, и иногда большой палец гуляет голым, а в сером костюме на заду пришлось вставить большую заплатку, и в Вологде небось думают, что это новая мода такая». Однако вдоволь пощеголять новомодными лохмотьями Георгию Михайловичу не удалось – всех вологодских Романовых велено доставить обратно в Петербург и поместить под арест.
Насчет своего будущего бывший великий князь никаких иллюзий не питает, в своем последнем письме жене Георгий Михайлович пишет: «Я твердо решил, что если мне суждено умереть, то смерть я хочу принять, глядя ей прямо в глаза, без всякой повязки на глазах, так как я хочу видеть оружие, которое будет направлено на меня. Я уверяю тебя, что если это должно случиться и если на это есть воля Божья, то ничего в этом страшного нет».
24 января 1919 года великий князь Георгий Михайлович Романов был убит и сброшен в общую могилу подле монетного двора Петропавловской крепости Петрограда.
Летом 1917 года, опасаясь наступления немцев на Петроград, правительство решило эвакуировать коллекцию Русского музея в Москву, туда же отправили и нумизматическое собрание великого князя, в хаосе и революционной смуте оно пропало, а затем удивительным образом нашлось в Югославии и было передано семье Георгия Михайловича. В трудные годы его дочери выставили бесценную коллекцию на торги и большая ее часть попала в Смитсоновский институт в Вашингтоне. Однако отдельные монеты и по сей день появляются на аукционах, словно осколки одной рухнувшей империи и одной расстрелянной жизни.
Великий князь Николай Михайлович
«Истина заключается в том, что он родился не в той стране, где ему следовало бы родиться. Мой брат Николай обладал всеми качествами лояльнейшего президента цивилизованной республики…
Он высшей волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес,
А здесь он – офицер гусарский!»
(Из мемуаров великого князя Александра Михайловича).
4 апреля 1859 года пушечный салют в триста один выстрел сообщил жителям столицы, Царского села и окрестностей о рождении еще одного члена семьи Романовых.
У Великого князя Михаила Николаевича, брата Александра II, родился первенец, которого при крещении нарекли Николаем в честь деда – императора Николая I. Ветвь великих князей романовской крови, носившая родовое название «Михайловичей», счастливо продолжилась.
Маленький Николай был подвижным, развитым не по годам, ранимым и впечатлительным, сильно привязанным к матери, которую видел очень редко. Именно ради матери, которая грезила блестящей военной карьерой своего старшего сына, Николай Михайлович с отличием окончил военное училище.
Семья жила в Тифлисе, отец Михаил Николаевич был наместником Его Императорского Величества на Кавказе.
Михаил Николаевич с супругой детей воспитывали строго, по-спартански, без излишнего баловства. Николай Михайлович вспоминал позднее, что воспитание это «больше напоминало прохождение боевой службы на фоне прекрасной кавказской природы»: вставали рано, брали прохладную ванну, скромно завтракали и чуть ли не до самого полудня вместе с наставниками – строгими и придирчивыми – то уходили в горы в поход за новыми экземплярами для коллекций трав и насекомых, то без устали упражнялись в верховой езде, то в искусстве владения саблей.
Николай Михайлович участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 годов в чине поручика конной артиллерии. За храбрость, проявленную в боях, был награжден Орденом Святого Георгия IV степени. Позже великий князь служил в Кавалергардском полку и носил звание командира этого полка.
«По умственному развитию он был настолько выше своих товарищей-однополчан, что это лишало его всякого удовольствия от общения с ними».
(Из мемуаров великого князя Александра Михайловича).
Но военная карьера никогда не прельщала Николая Михайловича, он бредил историей и все чаще пропадал в исторических архивах Санкт-Петербурга и Парижа.
«Наша скромная задача – давать материалы, которыми будущие русские историки могут воспользоваться. Не нам также решать вопрос: возвеличивать или понизить в предлагаемом историческом исследовании образ благословенного монаха».
(Из писем великого князя Николая Михайловича).
Николай Михайлович был первым из Романовых, кто занялся профессионально научной деятельностью и в качестве ученого был знаменит не только в России, но и в Европе. Произошло это в 1903 году, после того как он вышел в отставку, отдав военной службе двадцать пять лет. Великий князь ушел в отставку добровольно, и это тоже был первый случай в семье Романовых – до этого великие князья добровольно не уходили с военной службы, только по состоянию здоровья.
Первая сфера научных интересов Николая Михайловича была связана с его детством, которое великий князь провел на Кавказе, именно тогда он стал страстным собирателем бабочек, энтомологом-любителем. У него была самая крупная коллекция в дореволюционной России чешуекрылых – это более 1 тысячи экземпляров. Эту коллекцию великий князь успел еще при жизни передать в зоологический музей, благодаря чему она и сохранилась.
Под редакцией Николая Михайловича Романова в 1891–1892 годах выходит прекрасно иллюстрированное девятитомное издание «Мемуары о чешуекрылых», уникальное и по сей день. Основываясь на этой коллекции, уже советские ученые продолжили изучение насекомых в Закавказье. Вполне заслуженно три вида бабочек сейчас носят имя великого князя.
Но главной страстью Николая Михайловича была история. Именно его труды по истории сделали его известным сначала во Франции, а потом и на родине.
Председатель русского исторического общества, председатель географического общества, почетный доктор московского университета, председатель общественной защиты и сохранения памятников искусства и старины.
Николай Михайлович охотно помогал науке и искусству, финансировал все, на его взгляд, удачное и важные проекты. В 1904 году Сергей Дягилев задумал выставку русского портрета за 200 лет его существования. Великий князь не только поддержал Дягилева в его начинании, но и уговорил Николая II взять выставку под высочайшее покровительство. Выставка открылась 6 марта 1905 года и стала грандиозным культурным событием. Все картины сфотографированы и опубликованы в пятитомном издании великого князя Николая Михайловича. Оно называлось «Русские портреты XVIII и XIX столетий». Малоизвестное и до сих пор широкой публике, но незаменимое для искусствоведа или историка издание совершенно не имеет аналогов в мировой истории искусствоведения.
Он будет искренне гордиться своим участием в этой выставке, с этого времени научная и публикаторская деятельность великого князя приобретает особый размах.
Николай Михайлович изучал русскую историю как настоящий ученый, его биография Императора Александре I считается вершиной исторического исследования на эту тему, написанная после долгих лет собирания материала и проверки дат в архивах Санкт-Петербурга и Парижа. Книга была переведена на французский язык и произвела настоящую сенсацию в среде наполеонистов, даже заставив их пересмотреть, исправить и пересоставить целый ряд исторических трактатов. Французская Академия избрала его своим членом – такой чести почти никогда не удостаивались иностранцы. Его часто приглашали читать лекции в разных французских исторических обществах.
В какой-то момент великий князь даже остается жить во Франции, ведя свою историческую деятельность. В Париже он чувствует себя как дома и ведет скромный образ жизни в старом отеле «Вандом».



