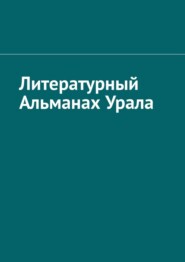
Полная версия:
Литературный Альманах Урала
– Да лет сто будет, – вздохнул тот.
– А тюрьма-крепость как? – продолжал расспрашивать настоятель. – Надобно посетить, посмотреть.
– Лучше бы Вам туда с дороги не ходить, – махнул рукой казначей.
– Чего ж не ходить?
– Да худо там… Люто и худо.
– Сколько же узников содержится в крепости?
– Пятьдесят две души грешные, – перекрестился казначей.
Помолясь да испросив помощи Божией, отправился новый настоятель осматривать свое хозяйство.
Обитель представляла собой «громадное разрушенное про- странство с оградой в 1,5 версты и 13-ю падающими башнями».
Вот и тюрьма. Старое двухэтажное и примыкающее к нему одноэтажное здание, со стен которого ободрана краска, на всех небольших окнах которого железные решетки. В одноэтажном здании двадцать пять одиночных камер. Двери камер выходят в вонючий коридор. Грязь, крики. Тюрьма…
«Господи, помилуй…»
Спасо-Евфимиева обитель знаменита не только тем, что в ней пребывают мощи преподобного Евфимия Суздальского. Она печально известна тем, что с середины XVIII века здесь находилась государственная тюрьма-крепость.
Спасская крепость, или, как называют ее официальные доку- менты Святейшего правительствующего Синода, «арестантское отделение Спасо-Евфимиева монастыря», была учреждена по указу Екатерины II в 1766 году и предназначалась для умали- шенных религиозных колодников.
Однако за время существования крепости в заточении на- ходились разные узники, а сумасшедшими они часто станови- лись только здесь, после многолетнего пребывания в мрачных казематах.
В этой тюрьме имелись в основном одиночные камеры, но были и общие – грязные, ветхие, холодные, со спертым, гни- лым воздухом. Иногда особо буйных заключенных наказывали батогами, а некоторых даже заковывали в цепи.
Несколько узников, закончивших здесь свою жизнь, были знаменитыми людьми. В XIX веке в крепости находился опаль- ный прорицатель монах Авель; здесь скончался доведенный до сумасшествия декабрист Фёдор Шаховской; здесь же содер- жались старообрядческие священнослужители: архиепископ Аркадий, епископ Алимпий, епископ Конон, епископ Геннадий и некоторые известные миряне.
Пищу заключенным давали два раза в день, на обед и ужин. Кормили впроголодь. Специальной тюремной одежды не суще- ствовало. Арестанты из лиц духовного звания носили подряс-
ники, тулупы, лица светские – кафтаны, халаты, тулупы. Белье холщовое, обувь – сапоги, валенки. Уж какими становились все эти одежонки за много лет – страшно и представить.
Узники проводили в крепости десятки лет, лишались разума, молодости, умирали от чахотки, от истощения сил, гнили от цинги.
Воинская команда монастырской тюрьмы – это рядовые инвалидных команд, т. е. солдаты нестроевой службы. В карауле числилось десять солдат и один унтер-офицер.
Архимандриту Серафиму удалось в конце своего настоя- тельства заменить караул вольнонаемной стражей из четырех человек.
Дверь одной из камер распахнули перед архимандритом Серафимом. Пахнуло спертым воздухом. В камере находился бледный человек, обросший бородой. Возраст трудно опреде- лить.
– Вставай! Новый настоятель к тебе пожаловал! Доклады- вай, кто ты! – скомандовал охранник.
– Что новый, что старый, – усмехнулся узник. – Что-то разве изменится? Ну, Василий я. Рахов.
– Давно сидишь? – спросил отец настоятель, по – хозяйски оглядывая грязную, провонявшую плесенью камеру.
Что в ней находилось? Койка без белья, войлок да табурет.
– Седьмой год.
– Православный?
– Православный. Оговорили меня. Свои же, православные, и оговорили.
– Разберемся. Узник махнул рукой:
– Да что разбираться. Прежний настоятель, Царство ему Небесное, прошение составлял. Бумаги в Синод посылал, а толку… Все вернулось назад.
– Если невиновен – составим еще бумаги.– Никто уже разбираться не будет.– Посмотрю твое дело, раб Божий Василий.Узник не пожелал подойти под благословение. А настоя- тель пошел дальше, открывая дверь за дверью, смотря в глаза каждому…
Осмотревшись, архимандрит Серафим приступил к ремонту тюремного корпуса. Начал с наведения чистоты, улучшил пита- ние узников, упорядочил посещения ими богослужений, устро- ил библиотеки, а главное, начал изучать дела заключенных и готовить их документы на пересмотр в Святейший Синод. Многие из невольников содержались в тюрьме без решения суда, а только по распоряжению Синода. Да и вина некоторых из них имела весьма сомнительные доказательства…
Усилиями настоятеля стало происходить то, во что никто не верил: начали освобождаться узники, находящиеся в тюрьме десятки лет. Документы на некоторых из них, например на крестьянина Василия Рахова, на сектанта Фёдора Ковалёва и других подавались по нескольку раз. У многих бы опустились руки, но не у архимандрита Серафима. Дело Василия Рахова вернулось с положительным решением только после третьей подачи! Василий был отпущен домой. На этот раз, под благо- словение подойдя. И поцеловав руку настоятеля. Не просто так, а от благодарного сердца.
С раскольниками и сектантами игумен Серафим беседовал лично, и не раз.
Дар убеждения у настоятеля был от Бога, потому и усилия увенчались успехом. Около двадцати сектантов были освобож- дены, из них девять вернулись в лоно Православной Церкви. Некоторые пожелали остаться в обители монахами.
Игумен Серафим сумел обратить в Православие закорене- лого сектанта-изувера Фёдора Ковалёва, который в 1897 году во время первой всеобщей переписи заживо замуровал девять человек, в том числе всю свою семью. Слёзно и искренне каялся Фёдор перед Господом.
Так последний заключенный был отпущен на волю, тюрьма закончила свое существование и была обращена в скит.
Не меньшего настоятельского труда и заботы требовала организация хозяйственной стороны жизни в обители.
На монастырском дворе запахло досками, красками. На- шлась работа и для монахов, и для пришлых рабочих. Рабочие регулярно стали получать жалованье.
– Смотри, не филонь! – предупреждал приходящих в оби- тель секретарь настоятеля иеродиакон Филарет. – Вот отец Серафим придет работу проверять – все заставит переделы- вать, если что не так!
– Неужто сам придет рамы щупать?
– Не сомневайся!
Да, сомневаться не стоило. Ни в строгости настоятеля, ни в справедливости его решений.
Пришлось заново обустроить двухэтажный братский корпус, начиная с рам, полов, дверей, балок, так как жить в нем было невозможно… пришлось громоздкие здания с четырех сторон отрыть из земли из-за того, что они веками засыпались мусо- ром и даже отдушины нижнего этажа оказались под землей.
Была построена новая ризница, новая трапезная, кухня, хлебопекарня, колодец, проложены дороги, куплено новое иму- щество для келий: стулья, столы, кровати. В облагороженную
обитель можно стало звать новых людей, и количество братии стало увеличиваться.
Новому настоятелю удалось в монастыре построить: «для слепых стариков – богадельню, для страждущих – больницу, для… детей – приют, для окрестных жителей – школу, для рабочих и скотниц – новое жилище, для странников и приез- жающих – странноприимный дом, для братии и арестантского отделения – две библиотеки, для обширного монастырского архива – новое помещение».
Труд в обители требовал от настоятеля напряжения всех его духовных и физических сил. А вот помощи ждать было неоткуда, наоборот, некоторые из «начальствующих» за ним словно наблюдали, посмеиваясь: выдержит ли этот аристократ?
Ни перед кем не мог он открыть душу.
– Как же вы справляетесь, батенька? – спрашивала одна из немногих, поддерживающих настоятеля, старица Наталия Петровна Киреевская, которая в молодые годы была духовной дочерью батюшки Серафима Саровского.
– Не знаю, – сознавался настоятель. – Одно могу сказать: свои личные финансовые возможности я исчерпал полностью.
– Просил ли у кого?
– Персонально ни у кого не просил, а прошения подавал, как положено. Долг свой исполнял, не расшаркивался ни перед кем. Но изнемог уже… изнемог в скорбях и трудах… Жизнь у меня какая-то удивительная и многострадальная… и чудес, и горей предостаточно…
– И много ли вложили в обитель?
– Не считал. Все потому, что я дворянин и в духовной ие- рархии протекции не имею.
– Жаль, что у нас и для дел духовных протекция надобна, – вздыхала старица.
Наталия Петровна была уже очень пожилой и больной. Чувствовала, что дни ее подходят к концу. Но успела написать письмо с предсмертной просьбой к архиепископу Флавиану (Городецкому), чтоб тот взял под свое покровительство архи- мандрита Серафима.
Но и это письмо владыка передал адресату не сразу… Поддерживали настоятеля его келейник иеромонах Иона,
его секретарь иеромонах Филарет и многие монахи, поверив-
шие в честность и бескорыстие отца Серафима, увидевшие воочию плоды его трудов. Потому что усилиями архимандрита Серафима обитель совершенно возродилась; он собрал около 100 тысяч на ремонт, упросил Владимира Карловича Саблера дать 6 тысяч на реставрацию тюрьмы, и Евфимиев монастырь удалось возродить.
Тюрьма, как уже было сказано, обратилась в скит, а невин- ные – выпущены на волю. «Благодарению Господу – я мне назначенное исполнил», – писал отец Серафим.
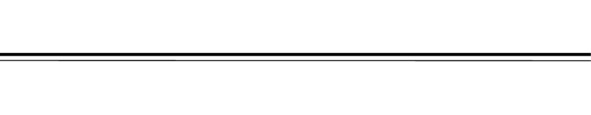
Ольга Ожгибесова (г. Тюмень)
Победитель в номинации «Документальная проза»
Родилась в г. Свердловске (Екатеринбург). Окончила философский факультет Уральского государственного университета. С 1983 по 2001 год – старший преподаватель кафедры философии Тюменской медицинской гос. академии. С 1997 – внештатный
и штатный автор областных и московских СМИ. Член Союза журналистов, член Союза писателей России, автор 13—ти книг поэзии и прозы, лауреат и дипломант ряда международных, всероссийских и региональных конкурсов, автор сценариев нескольких документальных фильмов.
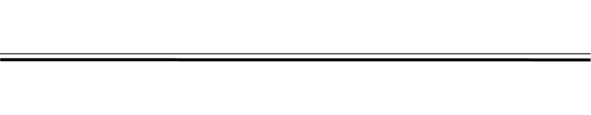
Приказано похоронить с почестями
Отрывок из повести
Герой Советского Союза Николай Кузнецов таинственно исчез на Украине весной сорок четвертого года при попытке выйти с оккупированной территории для соединения с частями Красной армии. Есть две основные версии гибели разведчика, но при более детальном исследовании обе они оказываются не состоятельными. Как погиб легендарный разведчик и погиб ли? Кого похоронили под его именем? Об этом – в повести «Приказано похоронить с почестями». Основано на реальных событиях.
Странная история, запутанная… Так думал Андрей Пацула, трясясь на заднем сидении армейского газика. Впрочем, вой- на – похлещё любого романа. Такие иногда сюжеты закручи- вала… И кто знает – может, удастся найти хоть какие-то следы пропавших разведчиков, ещё на шаг приблизиться к разгадке тайны их гибели.
Группа Васнецова с боем выходила из Львова, где на них уже вовсю шла охота. Впрочем, почему на них? Немцам было известно лишь то, что под видом капитана вермахта в городе действует советский диверсант. Но ни имени, ни точного опи- сания у гестапо не было. Единственная примета – звание. Но в городе хватало воинских частей и офицеров с капитанскими погонами. Удостоверение на имя гауптмана Гиберта вроде бы оказалось засвеченным, но кто это может знать со сто- процентной точностью? На КПП на выезде из города машину разведчиков остановили для проверки документов. Что-то не понравилось майору фельджандармерии… И Васнецов убил его. Может быть, зря? Может быть, все обошлось бы?
О событиях, происходивших во Львове и заставивших Ва- снецова покинуть город, партизанам стало известно со слов самого Васнецова, но это тоже не достоверные сведения. Это его интерпретация… Его восприятие, приправленное его чув- ствами и переживаниями, его догадками и предположениями. А ещё невероятным напряжением, в котором он жил в послед- ние дни. Всё это и заставило Васнецова нажать на курок…
– Спишь, журналист?
Негромкий окрик Крутицкого заставил Пацулу вздрогнуть и открыть глаза. Он сам не знал – спал он или бодрствовал, затуманенный мозг крутил в голове какие-то неясные картин- ки, обрывки мыслей, путаницу слов… Калейдоскоп, пёстрая мозаика… Она никак не могла сложиться в единую, целостную картину…
– Да так… Думаю.
– О чём, если не секрет?
– Сам не знаю…
Пацула поежился, запахнул поплотнеё куртку.
– Как-то всё… Не то! Не нравится мне… Эта история со Львовом… Зачем, зачем надо было отправлять туда Васнецова? Спасти от НКВД? За уши притянуто. Неделей раньше, неделей
позже… Знаете, по принципу: либо падишах умрет, либо ишак сдохнет. Так и тут: либо немцы убьют, либо свои расстреляют. Один конец. Ну, свои-то, может, ещё и пощадили бы, боевые заслуги зачли и на Колыму отправили, а с немцами – без ва- риантов.
– У него был приказ, – медленно, с расстановкой произнес Крутицкий, – уничтожать высших офицеров.
– Да бросьте вы! Такого приказа у него не было. Во Львов Волков отправил его на свой страх и риск. Подверг смертельной опасности ценного разведчика. Точнеё, потерял его. И, заметь- те, не понёс за это никакого наказания! Как так?
– Не знаю… – с трудом выдавил из себя Крутицкий. – Я тоже этого не понимаю.
– Ну, слава Богу! – усмехнулся Пацула. – А я-то думал, что один такой… непонятливый.
В Куровичах их, разумеётся, никто не ждал. Улицы неболь- шого села, несмотря на не ранний уже час, словно вымерли. А, может, и действительно вымерли. До войны здесь было обыч- ное еврейское местечко. В сорок первом, когда в Куровичи пришли немцы, всем нашили на грудь и спины желтые звезды. В графском имении, хозяин которого бежал в Польшу, когда За- падная Украина вошла в состав Советского Союза, новая власть создала рабочий лагерь, согнав туда добрую половину еврей- ского мужского населения. Повезло тем, кому удалось бежать из родного села: пока не пришли красные, они прятались по лесам и даже помогали партизанам. Остальных расстреляли… В Куровичах после этого остались поляки да украинцы, которые до этого были в меньшинстве, а вдруг стали большинством.
После войны, конечно, вернулись в свои дома беглецы, прятавшиеся по лесам. Вернулись – кто на пепелище, кто – к могилам родных… Одни остались восстанавливать порушенное хозяйство, другие подались искать лучшей доли. Куровичи хоть
и не захирели, но назвать их большим селом язык теперь не поворачивался. Так, сельцо… Здесь, по имевшимся у Крутиц- кого сведениям, жил человек, последним видевший живым Васнецова.
Если евреи старались жить компактно, строя свои халупы как можно ближе друг к другу, то украинцы селились, как пра- вило, на отшибе, на хуторах. Вроде бы и в селе – и в то же время сами по себе. Тут тебе и хата, тут и огород, тут и выпаса для скота – всё рядом. Немцы хутора жгли, справедливо опасаясь, что они могут стать партизанскими базами. Уцелевшие хозяева уходили в леса и брались за оружие. Василь Давыдченко как раз был из таких.
Хозяин хутора жёг на огороде картофельную ботву. Ботва была сырая, горела плохо, белый дым столбом поднимался в низкое серое небо. Давыдченко – в ватнике и обвисших шта- нах, в мятой, потерявшей форму кепке, больше похожей на серый сморщенный гриб, стоял рядом с костром, опираясь на грабли, и пристально смотрел в огонь. Непрошенные гости увидели его издали, подъехали даже не к дому, а прямиком к ограде, – Давыдченко и головы не повернул на звук мотора, как будто не слышал. По всей видимости, справедливо полагая, что, если к нему, – окликнут.
Крутицкий, открыв дверь, высунулся из машины.
– Василь Михалыч!..
Давыдченко медленно обернулся, качнулся взад – вперед, словно раздумывал – идти – не идти, и, не спеша, приблизился к ограде.
Это был высокий, крепкий старикан лет шестидесяти – шестидесяти пяти с суровым лицом и насупленным взгля- дом. Лицо у него было – цвета сушёного яблока. И такое же шершавое. Именно шершавое, а не морщинистое. И пальцы, вцепившиеся в почерневшую рукоятку грабель, тоже были коричневые, с черной окантовкой ногтей. Колоритный старик.
– Ну и чего надо?
Голос у Давыдченко был негромкий, глуховатый и неласко- вый. Крутицкий вышел из машины.
– Василь Михалыч, я – Крутицкий Николай. Помните меня?
– Ну? – полувопросительно отозвался Давыдченко. И в этом коротком слове читалось: даже если и помню, дальше-то что?
– Поговорить бы, Василь Михалыч…
– О чем?
– О Васнецове.
Пацула не выдержал, открыл дверь, спрыгнул на мокрую траву. Давыдченко одарил его неласковым взглядом. Посопел, помолчал. Крутицкий тоже держал паузу.
– А чего говорить-то? Спрашивали уже. Ещё тогда, в сорок четвертом. Нового ничего не скажу.
– Но мы-то не слышали, – в голове Крутицкого звучали примиряющие нотки. – Для нас – все вновь.
– А это с тобой кто? – старик мотнул головой в сторону Пацулы.
– Это?
Крутицкий обернулся, словно хотел удостовериться, что за его спиной стоит именно Андрей.
– Журналист из областной газеты. Будет про Васнецова писать. Вот и ваш рассказ ему нужен. Для статьи.
– А-а-а-а… – Давыдченко смягчился. Он как будто ждал какого-то подвоха, а теперь вдруг расслабился и подобрел.
– Ну, идите во двор, там открыто.
Старик долго плескался под рукомойником на заднем дво- ре – Крутицкий и Пацула, сидя на рассохшейся от дождей и ветра скамейке, слышали, как брякал язычок, и лилась вода, вышел из-за угла дома, вытирая руки полотенцем сомнитель- ной свежести, присел на ступеньку крыльца.
– Ну, что, покурим?
Крутицкий торопливо вынул из кармана пачку папирос, а Пацула услужливо протянул зажигалку.
– Городские! – одобрил Давыдченко. Затянулся с удоволь- ствием, пыхнул дымом в сторону.
– Так чего рассказывать-то?
– Где вы Васнецова видели? Как? При каких обстоятель- ствах?
Пацула достал из кармана свернутый в трубочку блокнот, карандаш, приготовился записывать.
– Так не помню я уже ничего… Вот вы даете! Столько лет прошло!
– Ну, как же? Вы же сами говорите, что рассказывали…
– Ну, рассказывал… Тогда помнил. Сейчас забыл.
– Василь Михалыч…
Крутицкий старался сдерживать нарастающеё раздражение.
А курил Давыдченко с нарочитым спокойствием.
– Ну, бросьте себе цену-то набивать! Знаете ведь, что вы – последний, кто Васнецова живым видел. Так что же вы…
– Да ладно, ладно. Чего закипел? Что вспомню – скажу. Что ж я, не понимаю, што ли? Ну, дело было так… В сорок чет- вёртом, в январе – кажется, в сочельник… Ну, точно в сочель- ник! … Волков отправил отряд – человек двадцать, наверное. Для поддержки Васнецова, для прикрытия… Мы должны были здесь, в Куровичах, обосноваться – в лесу. У нас и рация с собой была, чтобы легче со своими связываться. Всё – чин чинарём. Выйти-то мы из-под Ровно вышли, а вот до Львова не дошли. Наши-то, Красная армия то есть, наступали, немцы оборону усиливали, леса прочесывали, облавы устраивали. Раз мы на засаду наткнулись, едва отбились, второй – на бандеровцев вышли… Опять бой… Кого убили, кого просто потеряли – раз- брелись, кто куда. Радиста убили, – это я точно видел. А рация
при нём была, – ну, значит, немцам и досталась… В общем, до Куровичей только я добрался и со мной ещё один, Федор Заступа. И не дошли бы, может, да я здешние места, как пять пальцев, знаю. Ну, вот… Это, считай, уже за вторую половину января перевалило. Однако перед самым Крещеньем…
– Верующий вы? – неожиданно перебил старика Крутиц- кий.
Тот смутился на секунду.
– Ну, верующий – неверующий, а праздники не нами при- думаны. Народ сроду по церковным календарям жил. Число иногда из головы вылетит, а праздник – не забудешь.
– Пусть рассказывает, – вступился за Давыдченко журна- лист. – Ну и?.. Васнецов-то когда у вас появился?
– У – у—у… – Давыдченко махнул жилистой коричневой рукой. – Это уж после было. Чуть ли не через месяц. А! В Срете- ние! Точно! Батюшка-то в деревне уцелел, евреёв расстреляли, а православных не успели. Так он по большим праздникам даже службы в храме вёл. Сретение!
– Число-то какое? – призвав мысленно все свое терпение, уточнил Крутицкий.
– Так пятнадцатое… Пятнадцатое февраля!
– То есть пятнадцатого февраля в Куровичи пришли Вас- нецов и его люди.
– Да нет! – Давыдченко хлопнул ладонями по коленям, словно удивляясь непонятливости гостя. – В праздник его уже не было, он ушёл накануне. А привели его к нам ещё за день до того. Вот и считай: тринадцатого февраля.
– То есть тринадцатого февраля к вам на «маяк» привели группу Васнецова. Сколько их было? Трое?
– Трое. И два проводника-еврея. В лесу евреи прятались, которые от немцев сбежали. Они знали про «маяк». Еду нам приносили, лекарства. Федор… Ну, который со мной был…
тифом заболел. Мы поэтому в Куровичах и застряли: куда с ним, с больным? А Васнецов, когда из Львова уходил, на ев- реёв и наткнулся. Вот так все и было.
– Итак, тринадцатого февраля…
– Ночью, – добавил Давыдченко.
– Тринадцатого февраля ночью к вам на «маяк» пришел Васнецов с товарищами.
Давыдченко кивнул.
– Как он выглядел? – неожиданно вступил в разговор Па- цула.
– Да как? – удивился старик. – Обыкновенно. В немецкой форме. Сверху – то ли халат какой-то, то ли накидка… Тепла от неё никакого.
– А двое других?
– Один – в солдатском, второй – по гражданке одет.
– Это точно?
– Точнее не бывает!
– Хорошо, а что он рассказывал?
– Да что? – развел руками Давыдченко. – Задание своё, говорит, выполнил, сейчас нужно пробиваться в отряд.
– Говорил, что именно делал во Львове?
– Да это мы знаем… – попытался вмешаться Крутицкий, но Пацула протестующеё вскинул руку, и подполковник замолчал, хотя и удивился слегка.
– Ну… Говорил. Каких-то там важных генералов пострелял. Заместителя губернатора, что ли? И ещё кого-то. Сейчас и не припомню уже. Да я рассказывал, меня же ещё тогда, в сорок четвертом допрашивали. Когда наши пришли. Искали его…
– Хорошо, – кивнул Пацула, – ещё что?
– Ещё? – задумался Давыдченко. – Говорил, что, когда из Львова выезжали, документы у них стали проверять. Майора
и ещё несколько человек они застрелили, а один успел его удостоверение схватить и убежать… Машину у них подбили. Еле ушли…
– Вот! – Пацула торжествующе повернулся к Крутицкому. – Я же говорил, что у него не было документов!
– Не было, – подтвердил Давыдченко. – Он спросил, где рация, я сказал, что нету. Тогда, – говорит, – в Буск пойдем. Там ещё один «маяк», и рация есть. Будем, говорит, самолет вызывать, без документов не выбраться. Ну, а если уж совсем никак, – тогда, говорит, сами… До линии фронта. Ну, я ему рассказал, где у немцев посты, где бандиты из УПА рыщут, – чтобы стороной эти места обходили. Проводники-то местные, все тропки знают. Ну и всё. В ту же ночь, т.е. четырнадцатого уже числа, они и ушли. А чего вы вдруг вспомнили про это дело?
– Да так… – медленно, как будто осмысливая услышанное, ответил Пацула. – Хотим хоть какие-то следы найти.
– Да бросьте! – махнул рукой Давыдченко. – Сколько лет прошло… Если кто-то даже и видел что – забыл уже давно.
– Ну и как вам это нравится? – сказал Крутицкий, когда, подпрыгивая на колдобинах, машина отъехала от дома. – Буск! Впервые слышу! Волков никогда не упоминал, что в Буске был ещё один «маяк». Если он знал, что Васнецов мог отправиться туда, почему молчал? Ведь это важно!
– А вы не понимаете? – саркастически улыбнулся Пацула. – Потому что это разрушало его стройную конструкцию о захвате группы разведчиков в Белогородке. Потому что в Буске была рация. И туда мог прилететь самолет, чтобы вывезти Васнецова в Москву!
– Ты хочешь сказать, – обернулся к нему Крутицкий, – что самолет был?
– Я не знаю… – развел руками Пацула.
– Чёрт… Чёрт! Чёрт! – завелся Крутицкий. – Ты понимаешь, что у меня приказ найти могилу?! Могилу, которой, может быть, и нет?!
– Понимаю! – кивнул головой журналист и тоже вдруг пе- решел на «ты». – А ты понимаешь, что именно потому и надо найти могилу, что её здесь нет?!
Крутицкий бросил на него быстрый взгляд. Глаза у него были сумасшедшие.
Какое-то время мужчины молчали, думая каждый о своем.
Потом голос подал Жорик.
– Товарищ подполковник, куда едем-то? В Буск или домой?
– Не знаю, Жора, – устало отозвался Крутицкий. – Домой далеко. Да и ни к чему. Чтобы завтра снова машину гнать?
– А в Буске чего? Кого мы там будем искать?
– Да не знаю я! – вскинулся Крутицкий, уже не скрывая раздражения. – Переночуем в гостинице, оттуда позвоню, попробую выяснить что-нибудь про «маяк».
Буск оказался маленьким захудалым городком, к тому же основательно разрушенным во время войны и до конца ещё не восстановленным. Обшарпанные дома, разбитые улицы, покорёженные снарядами деревья, – на всём лежала печать запустения и безхозяйственности. Безлюдье добавляло свою ложку дегтя в общий колорит. Впрочем, все маленькие городки похожи друг на друга: заканчивается рабочий день, и улицы пустеют, особенно на окраинах и особенно осенью, когда летнеё веселье уже подошло к концу, а для зимних забав время ещё не настало.



