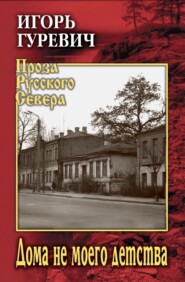
Полная версия:
Дома не моего детства
– А что за книжки? – заинтересовался Яков.
– Сейчас покажу, – оживился Монька.
– А ну, сел! – хлопнул ладонью по столу Наум.
– Папа, шаббат шалом, успокойся! Я не собираюсь коня подковывать, я брату книжку покажу.
– Какая разница! – Наум воздел руки к низкому потолку хаты, где он – в кои веки! – со всеми сыновьями собрался за субботним ужином. Рядом сопел и пыхтел младший Ицик, уплетая приготовленные матерью по случаю рыбные котлетки. Сама жена вышла покормить грудью полугодовалую Таню перед сном. – Господи, вразуми моего сына!
Яков поморщился:
– Папа, и правда – это уже перебор. Свечи горят, Тору почитали – сделали вам с мамой приятное. Что ты ещё хочешь? Да и кстати, книжки в руки брать и читать не запрещается. Папа, в конце концов, ты ж не талмудист-фанатик.
– Вот если бы не Шаббат, если бы не Шаббат, надавал бы я тебе, Янкель, по шее! – И Наум потряс широченной мозолистой ладонью кузнеца. – Сам уже ни во что не веришь и брата тому же хочешь научить?
– Ну почему ж, папа, ни во что не верю? – Яков погладил отца по плечу, будто расстроившегося ребёнка. – Верю. В светлое будущее, в рабочих людей. Умным книжкам тоже верю.
Между тем Монька принёс книгу. Это был Чернышевский, «Что делать?».
– Хорошо, – одобрил старший брат.
2…Прошлое урывками врывалось в беспокойные сны Моисея Черняховского, и он порой не мог понять, то ли ему это снится, то ли всё происходит на самом деле – настолько яркими и точными были ощущения, звуки, краски. Вот отец возмущается, пытается ругаться с ними в тот давний, забытый субботний вечер – как будто здесь и сейчас, всё явственно: голос отца, его дыхание, домашние запахи. Даже запахи! Хала свежеиспечённая, рыба, молоко – всё, всё вдыхает в себя Моисей и не чувствует при этом бесконечной боли в груди. И свечи на столе – слышно, как потрескивают. Едва-едва, но… он слышит! Он – практически оглохший на оба уха молотобоец киевского завода «Ленинская кузница». Слышит, как в спальне чмокает губами маленькая Таня, наяривая материнскую грудь. А в его груди, где нет боли императорского солдата, заработанной в окопах, в его крепкой груди громко стучит сердце – он слышит! – потому что брат взял в руки и похвалил книгу, которую ему дала любимая женщина со словами: «Прочти. Это хорошая книга. Про настоящую любовь». Вот и брат подтвердил, сказал: «Хорошо!» – словно благословил. «Завтра же поеду к Анне и уговорю… И если надо для этого покреститься… Завтра же к Анне – и всё решим». На лице Моисея возникает счастливая улыбка и… Он просыпается от первого солнечного луча, проклюнувшего полумрак их подвала…
«Сегодня лучший день весны, сегодня Первомай!» – вслед за солнечным лучом ворвался голос старшей дочери Эти. Моисей удивился, как громко, раз даже он расслышал. И открыл глаза. Гинда уже вовсю шоркалась по дому. Этя при полном школьном параде – в белом передничке, пионерском галстуке, с белыми лентами в косах (и где только Гинда достаёт всё это?) стояла посреди комнаты и в полный голос читала заученные стихи: «Оркестры дальние слышны, в цветных флажках трамвай!»
С топчана, вытянув в сторону внучки лицо с закрытыми глазами, блаженно улыбалась старая Ханна. Пришёл новый день. Слава Богу! И этот день был праздником.
Взлетает лёгкий красный шарПод самый небосклон,Пылают буйно, как пожар,Полотнища знамён!Моисей любил советские праздники. Не то чтобы сильно верил в них, но почитал так же, как субботу, которая вернулась к нему вместе с изнуряющими повторяющимися снами. Поначалу жена сопротивлялась: «Жили без этого – и ничего – ни хорошо, ни плохо. И с этим лучше не станет. А может, ещё и хуже – мало мне обысков, так ещё за Тору причепятся – мало не покажется! – и добавляла: – И это ж каждый раз жрать готовить на всю кодлу». Но неожиданно зятя поддержала старая Ханна: «Муж прав. Надо Бога вспоминать хотя бы в субботу». И Гинда смирилась. Так воцарилась суббота в их доме, и вот уже четыре года в пятничный вечер загорались свечи и семья собиралась за столом. Со временем Гинда втянулась и даже стала находить радость в тихих ужинах при свечах и молитве. В эти минуты словно исчезали, забывались все горести, вся неустроенность и бедность, приправленные сдержанной неприязнью, возникшей между супругами за годы совместной безрадостной жизни.
Да и что сказать? Сошлись они не по большой любви. Геня знала – откуда? – и о большой Монькиной страсти к гойке-учителке, и о прусской юнкерше. Впрочем, что можно было утаить в еврейских местечках, где все родственники? Порой вот так встретишь посреди огромного мира человека, обменяешься парой слов, узнаешь, что он откуда-то из-под Житомира или Киева, из еврейского поселения, так – к маме не ходи! – через пять минут выяснится, что если это не твой троюродный брат, то уж точно чей-нибудь родственник и слышал про тебя кое-что. А это «кое-что» окажется тем, о чём ты сам бы хотел забыть…А как забудешь? Черта оседлости не даст.
…Моисей сполз с высокой железной кровати с заготовленным хмурым выражением лица. Сколько Гинда жила с мужем, никогда не видела его улыбающимся.
– Геня! – как все глухие, Моисей говорил громко, почти кричал. – Дай чистую рубаху – пойду на демонстрацию.
– Демосрант, – проворчала себе под нос Гинда, так чтобы муж не расслышал и не заметил.
«Хороший день, – подумал про себя Моисей. – Двойной праздник: мало что Первое мая, так ещё и пятница»[17]. Вслух сказал:
– Геня, не забудь свечи и халу.
– Да чтоб ты провалился! – не сдержалась та и швырнула на пол мокрую тряпку, которой что-то вытирала с плиты. На улице уже с утра, едва пробудилось солнце, стояло щедрое тепло, а от плиты, на которой Гинда успела сварить картошку к завтраку, шёл жар. Духота наполняла их подвал, несмотря на распахнутое окно.
Между тем Этя стала выкрикивать по новой: «Сегодня лучший день весны, сегодня Первомай!»
– Замовкни уже! Гиникшн! – Гинда оборвала дочь, мешая украинские и еврейские слова.
– Да ты сама сперва разговаривать научись! – огрызнулась Этя, которая училась на одни пятёрки в украинской школе и стеснялась своей безграмотной матери. Хорошо, что она на родительские собрания не ходит. Отец иногда появляется в школе, но он только молчит, потому что всё равно ничего не слышит, да и ляпнуть что-нибудь лишнее стесняется, чтобы не подвести дочь.
Про мать такое не скажешь: уж если она где появлялась, то обязательно вставляла свои пять копеек. Бабушка так и говорила: «Генька! Попридержи язык! Не лезь к людям со своими пятью копейками». На что мать не обижалась, а только пожимала плечами: «А чем это мои пять копеек хуже ихних? Они, может, и читать умеют, да только мозгов у них…» – и дальше мать вставляла такое, что и повторить нельзя. Даром, что ли, все их разговоры с бабушкой были на маме лошн[18], так что Этя, с рождения слыша, прекрасно понимала идиш и разговаривала на нём ничуть не хуже, чем на украинском.
– Мама-бабушка, я побежала! – крикнула Этя и выскочила за дверь. Вскоре мимо окна промелькнули её ноги в белых носках и стоптанных сандаликах.
«Надо ребёнку новую обувку справить», – подумала про себя Гинда и посмотрела на мужа: тот не обратил никакого внимания на дочкины сандалики. Гинда сдержалась, но вслух гаркнула:
– Садись ешь!
– Что ты так орёшь? – даже Моисей удивился. – Я ж ещё не совсем оглох.
Ответом ему была тишина. Что праздник, что не праздник – в семье Черняховских начинался привычный новый день.
3– Мэйделе мэйн[19], тебе хорошо видно?! – Ицику приходилось кричать, перекрывая нарастающий гул парада и гром маршевой музыки из репродукторов, развешенных вдоль всего Крещатика и похожих на цветы магнолии, только чёрного цвета. Первомайский парад шагал, гремел, пел по Киеву, по всей необъятной и прекрасной Советской стране.
– Хорошо-хорошо! – засмеялась Элла, привычно сидя на плечах любимого дяди, и заболтала ножками в новых сандаликах.
– Осторожно, мэйделе! Так упасть недолго. – Тётя Вера прижала свою узкую, всегда прохладную ладонь к Эллиной спине, а девочка обхватила дядю за шею и, склонившись к его уху, зашептала: «Я люблю тебя. И Веру люблю. Вы мои папа и мама».
– Болтушка ты моя! – Ицик прижал детские ножки к своей груди и по очереди чмокнул каждую пухлую коленку.
– Что она сказала? – прокричала Вера.
– Что любит нас! – крикнул в ответ Ицик.
Подчиняясь жаркой весне, каштаны в этом году расцвели вместе с Первомаем, и над Крещатиком витал обворожительный, ни с чем не сравнимый, одновременно нежный и дерзкий запах главного киевского дерева. От избытка чувств на глазах навернулись слёзы, и Вере захотелось вскинуть руки в небо и прокричать какую-нибудь несусветную глупость, но она лишь прикрыла глаза, прижала руки к груди и громко простонала:
– О-о-о-о…
– Гражданка, вам плохо? – молоденький милиционер в белом парадном кителе, оказавшийся рядом, поддержал Веру под локоть. Неожиданное участие представителя власти добавило ещё больше сентиментальности в сложившуюся картину, и срывающимся в рыдание грудным голосом Вера громко прошептала:
– Нет, мне очень-очень хорошо…
– Что? – не расслышал паренёк.
– Мне хорошо! – прокричала Вера. Слёзы мгновенно, так же как подступили, исчезли, и она рассмеялась.
На плечах мужа звонко засмеялась маленькая Элла. Ицик не выдержал и захохотал следом: «Ну вы, девушки, даёте!»
Милиционер, глядя на них, тоже прыснул со смеху и крикнул:
– Да здравствует Первое мая! Да здравствуют советские люди!
– Ура! – подхватили те, кто стоял рядом, наблюдая за парадом. И вскоре вдоль всего Крещатика, извините, улицы Воровского, эхом прокатилось: «Ура!!!»
4В столице цветущей Украины
(От корреспондентов «Правды»)
Ясный голубой день. Дома опустели. Все вышли на улицу в ряды демонстрантов.
Такой величественной демонстрации ещё не видела столица Украины. Если можно реально осязать счастье, радость, гордость, веселье, то всё это чувствовалось в людских потоках на улицах Киева.
Ровно в 10 часов утра перед выстроившимися войсками появился командующий военным округом командарм первого ранга тов. Якир. После объезда войск тов. Якир поднимается на трибуну и читает текст торжественного обещания.
Громкоговоритель далеко разносит слова красной присяги, звучащей в устах молодых бойцов грозным предостережением врагам.
Начался торжественный марш войск. Они шли перед правительственной трибуной, перед сотней лучших стахановцев сёл и городов, принимавших вместе с руководителями украинского народа красноармейский парад. На трибуне – тт. Косиор, Постышев, Петровский, Любченко, Якир, Балицкий, Затонский, Н.Н. Попов, Шелехес, Порайко, Сухомлин, Шлихтер, С. Андреев.
Войска ведёт славный сын украинского трудового народа, старый будённовец, начавший свою службу под руководством Маршала Советского Союза тов. Ворошилова в 10‑й армии, награждённый тремя орденами тов. Тимошенко. Первым идёт сводный полк командиров и начсостава гарнизона. За ним в новой форме марширует рота молодых красных лейтенантов, выпущенных двумя лучшими украинскими школами – им. Калинина и им. С. Каменева.
Общий восторг вызывают парашютисты. Жители Киева ещё помнят их по великолепному воздушному десанту во время манёвров.
Пехотные части сменяются конной артиллерией. Рысью несутся упитанные, подобранные по масти кони. Мчатся пулемётные тачанки. Затем улицу занимают мотомеханизированные части. Идут броневики, различные боевые машины и танки. Раздаются возгласы:
– Да здравствует организатор побед социализма наш великий Сталин!
Ликующее громовое «ура» сливается с грохотом машин.
Мотомехчасть выделяется сотнями воспитанных в ней стахановцев. Бывший партизан, причинивший много неприятностей немцам и гетманцам в 1918 году, тов. Шмидт в совершенстве овладел новой техникой. Сегодня многие его ученики удостоились чести самостоятельно вести машины на парад.
В тот момент, когда мотомехчасти заняли улицу Воровского, над городом появились самолёты. Их крылья серебрились на солнце. Они плавно прошли над улицами и площадями. Пилоты, конечно, не слышали восторженного гула приветствий. Но они могли видеть белую фуражку Г.И. Петровского, который восхищённо махал им, и букеты цветов, которые протягивали кверху дети и взрослые.
Около двух часов продолжался парад, демонстрировавший технику, культуру, военное мастерство и безграничную преданность бойцов Красной Армии делу коммунизма.
Гражданскую демонстрацию открыли дети. Сегодня их вышло на улицу свыше 30 тысяч.
Ми горе нiколи не знали,Нiколи не будемо знати!С таким плакатом вышли дети, выражая чувства всех ребят социалистической Украины.
Букашки и медведи, мячи и книги, скрипки и «Красные Шапочки», Арктика и субтропики, планёры и палитры – всё, что так увлекает ребят, нашло своё выражение в изумительной детской демонстрации. Тут же инсценировки любимых картин и произведений.
Идут колонны демонстрантов Сталинского района. Перед глазами зрителей проходит детство, юность Сталина, его дореволюционная работа в Закавказье.
Студенты Пищевого института имени Микояна несут гигантские колбасы, консервные коробки, рыбы, калачи. Рабочие краснознамённого «Транссигнала» инсценируют Владимирский централ. На стенах тюрьмы написана песня, музыка для которой недавно составлена композитором Йоришем:
Хочется видеть, как сосны и елиДремлют в родимом краю,Слышать в саду соловьиные трели,Хочется петь самому…Петь, не смолкая, про радость и горе,Сбросить оковы и петь…Эти слова кажутся перенесёнными через десятилетия революционной борьбы. В них – аромат прошлого революционного подполья. И действительно, эта песня написана в 1906 году узником Владимирского централа, ещё совсем молодым тогда П.П. Постышевым, ныне стоящим тут же на трибуне, восторженно приветствуемым трудящимися столицы.
Издали доносится стройное пение «Полюшка». Это подходит коллектив орденоносного украинского Академического театра оперы и балета. Актёры исполняют пляски – русские, украинские, белорусские, узбекские.
Каждый район соревнуется с другим в стремлении лучше и ярче оформить свои колонны. Сталинский район перелистал удачными инсценировками и картинами всю историю нашей партии. Ленинский район дал картину революционной борьбы в странах капитала и т. д.
Демонстрация закончилась в девятом часу вечера. Около 300 тыс. демонстрантов приняло в ней участие.
Е. Портной, Т. Ильин
«Правда» № 121 (6727), 4 мая 1936 года
5– Да здравствуют верные сыны и защитники Отечества – наркомвнудельцы!
Из черных репродукторов-магнолий гремели призывы по всему Крещатику.
«Хорошо сказано! И про меня тоже», – подумал Семён, чеканя шаг или, во всяком случае, пытаясь это делать по брусчатке улицы Воровского, бывшего Крещатика. Рядом шагали его товарищи в новой, образца 35‑го года форме. Особую радость Семёну доставляла фуражка – такую ни с какой другой не перепутаешь: тулья василькового цвета с малиновыми кантами, краповый околыш со звездой и чёрный лаковый козырёк. Впрочем, фуражка хоть и являлась самой заметной частью вновь утверждённой формы, всё остальное тоже было – хоть на парад, хоть в театр. А главное – красиво, к месту и убедительно: гимнастёрка тёмно-защитного цвета с двумя накладными карманами и тёмно-синие галифе всё с теми же малиновыми кантами, заправленные в высокие чёрные сапоги. А уж ромбы в малиновых петлицах прямо-таки ключевым аккордом вписывались в ансамбль. Красота, достойная верных сынов и защитников Отечества!
Уж Семён Милькин в этом разбирался: как ни крути – сын портного. Отец в Сёмке души не чаял: готовил к жизни по своим стопам и с малолетства приучал сына с ножницами да иглой управляться, кроить да штопать – и всё такое. Но жизнь распорядилась по-другому…
Отец бы сейчас глянул на сына, почмокал губами, поцокал языком и сказал бы: «Шейн бохер!»[20] Лицо отца всплыло перед мысленным взором Семёна: старший Милькин скорбно смотрел на него и вздыхал. Улыбка невольно сошла с лица Семёна. Он даже скрежетнул зубами и тряхнул головой так, что красивая фуражка чуть не слетела на землю – пришлось придержать рукой.
– Ты чего, Семён?! – крикнул вышагивающий рядом старший лейтенант особого отдела – друг и собутыльник Петька Кравчук.
– Ничего! От избытка чувств! – сориентировался Семён.
– А! – Кравчук понимающе заулыбался. – И то правда. Хороший повод новую форму выгулять. Кстати, звания мы с тобой не обмыли. Ты как?
– Да запросто.
– Завтра ко мне?
– А ты у своей спросил?
– А чего её спрашивать? – удивился Кравчук. – Ты много со своей советуешься?
– И то правда! – в унисон ответил Милькин. И оба рассмеялись.
6Моисей Черняховский вернулся домой уже затемно. Все спали, намаявшись и нарадовавшись за день. Этя посапывала на узком коротком диванчике возле тёщиного топчана. Старая Ханна то ли спала, то ли так лежала, подсунув ладонь под щёку, не разберёшь: глаза у неё всегда закрыты, а спала старуха так же тихо и неслышно, как бодрствовала. Маленькую Элку, как обычно, забрали к себе за стенку Ицик с Верой.
По дому шоркалась одна Гинда: при слабом свете от приспущенного фитиля керосинки убирала со стола остатки субботнего ужина.
– Ну и что? – с громким шёпотом накинулась на мужа Гинда. – Что-то без тебя с Богом сегодня поговорили!
– Я на демонстрации был, – отмахнулся Моисей.
– Все там были, – не унималась Гинда. – Только все явились к ужину. Вот и брат Веркин с сыновьями приходил: представление детям показывал.
– Смешно?
– Что смешно?
– Смешно, спрашиваю, показывал?
– Как всегда, – пожала плечами Гинда. – Элка смеялась, в ладошки хлопала. Этя тоже несколько раз хихикнула.
– Ну и слава богу! – сказал Моисей и ушёл за занавеску раздеваться ко сну.
– Вот и поговорили. С праздником! – чуть не крикнула в спину мужу Гинда. Но тот не ответил: то ли не расслышал, то ли не захотел.
…Когда жена затихла, отвернувшись к стенке, Моисей всё ещё не мог уснуть. Лежал на спине, подсунув ладони под голову, и разглядывал потолок, ещё и ещё раз вспоминая прошедший день, главным событием в котором стала неожиданная встреча с… Анной…
Теперь-то Моисей понимал, откуда взялись эти навязчивые повторяющиеся сны. Вернее, один и тот же сон: их последний субботний ужин у отца со старшим братом. И каждый раз сон этот обрывался, будто дальше ничего не было. Совсем ничего не было. Даже жизни.
Вот он даёт брату книгу, ту, что Анна ему велела прочитать. Вот отец ворчит на них за то, что Бога не почитают. А он решает, что завтра пойдёт к Анне и предложит ей выйти за него замуж. От этой мысли всё его тело наполняется вожделением, упоительным желанием, сердце радостно ноет – всё как в песне или сказке. С дурацкой улыбкой на лице Моисей засыпает… Но завтра не наступает. Вернее, наступает, но другое, в котором он – почти оглохший, с болью в груди, двумя детьми и терпящей его женой, привычно тянущей на себе воз, в котором он скорее пассажир, чем возница. И всё это хозяйство, которое почему-то называется семьёй, размещается в сыром, тёмном полуподвале. Это и есть его счастье, его жизнь. Так что тот повторяющийся сон, как чуждый аккорд в сложившейся песне – пусть не самой весёлой, не самой напевной, но всё-таки песне, где все эти несбывшиеся мечты-воспоминания нужны как мёртвому припарка. Только голова от них болит и… сердце.
Но сегодня Моисей понял, что всей этой ночной бесконечной истории придёт конец.
7На Крещатике он встретил Анну. Случайно…
Когда он подошёл к своим с «Красной кузни», собираясь затеряться в общем строю, к нему подлетел вечно жизнерадостный профсоюзный вожак Степаныч из бывших красных то ли партизан, то ли будённовцев, а может, и то и другое сразу. И с ходу заорал. День был сегодня такой, особый: всё вокруг орало – репродукторы на столбах и люди на Крещатике. Иногда людям удавалось перекричать музыку и здравицы, но чаще происходило наоборот.
Впрочем, Моисея Черняховского праздничный гвалт вокруг не раздражал. Напротив, было весело и хорошо, и если кого-то, как обычно, не расслышишь, можно попросить повторить ещё раз. И никто тебе не скажет: «Слух лечи. Чего это я горло драть должен?»
– Миша! Как здорово, что ты пришёл! – орал Степаныч. – У нас кузнец на машину заболел! А ты в самый раз подходишь – лучше замены не сыскать!
– Какой кузнец? – удивился Моисей. – Сегодня ж выходной!
– Так это не всамделишный кузнец! – кричал, разъясняя, председатель профсоюза. – Это роль такая: на грузовике стоять с другими и типа того молотом по наковальне бить. Не на самом деле, а как будто. Молот из папье-маше. А девушки, ну не только девушки, но и женщины, на машине будут тоже ехать и петь: «Мы – кузнецы, и дух наш молод…» В общем, революционную нашу любимую песню будут петь. А мы все, значит, всей нашей «Ленкузней» за грузовиком этим рядами сзади идти будем, ура кричать, флажками, цветами – кому что выдадут – махать…
– Это всё хорошо, – прервал Степаныча Моисей. – Но я тут при чём? Ты мне флажок или цветок дай – и я буду идти и махать.
– Миша, ты что ж такой несознательный?! – возмутился ветеран – будённовец-партизан. – Тебе честь… – он замялся, подбирая слова. – Тебе доверие оказано: представлять наш коллектив со сцены, в смысле с грузовика. На тебя – и на других, конечно, там ещё человек десять показывают, что в песне поётся, у каждого – своя роль – на вас с трибуны смотреть будут, приветствовать. Сам Якир там. И Постышев.
– Ну какое мне доверие, Степаныч? Ты рехнулся, не иначе! Я ж не стахановец даже – у меня больничных из-за лёгких вон сколько. Да и, кстати, мне и так тяжело дышать, а ты меня ещё и махать этим бумажным молотом заставляешь. – И Моисей демонстративно закашлялся.
Но Степаныч был не из робкого десятка. Недаром в Гражданскую шашкой махал:
– В общем, так, товарищ Черняховский, это не просьба, это поручение. И даже не от профсоюза, а от трудового коллектива, трудового народа то есть. А это всё равно что поручение от Родины и партии. Уразумел?
– Уразумел, – вздохнул Моисей. Хоть они и были почти одних лет, Степаныч разве что года на три постарше, но числился в ветеранах и героях, а он, потомственный кузнец, был всего лишь молотобоец из бывших царских солдат, немецких военнопленных, притом ещё даже не передовик социалистического труда. Так что его аргументы против Степанычевых не прокатывали. Радость от праздника куда-то улетучилась, и Моисей понуро побрёл к грузовику с открытыми бортами, где на помосте уже собралась на предстартовую репетицию массовка из самодеятельных артистов. Издалека особенно выделялись девушки: все как на подбор в лёгких белых платьях и косыночках, по-рабочему подвязанных под косами, с красными то ли галстуками, то ли кисейными платками на шеях.
Степаныч сопроводил Моисея до самых подмостков и крикнул:
– Принимайте артиста! Кузнец высшего разряда!
С машины послышались радостные возгласы, и несколько рук протянулись навстречу Моисею.
– Я сам ещё могу! – хмуро буркнул тот и неожиданно легко заскочил на открытый кузов.
– Ух ты! – непроизвольно вскрикнула какая-то женщина. В возгласе чувствовалось явное восхищение. Моисей повернул голову на голос и… замер. Перед ним в белом легком платье, в белой косынке, озарённая майским солнцем, словно видение из его снов, стояла Анна Сергеевна. С первого взгляда Моисею даже показалось, что время никак не отразилось на ней: всё то же молодое лицо, тонкий профиль, серо-зелёные глаза, чуть припухшие манящие губы, стройная молодая фигурка, высокая грудь. Это позднее – было время – он разглядел и морщины у глаз и в уголках губ, и серебряные нити в тёмно-русых волосах, и – даже – скрученные в узлы вены на ногах. А в тот момент он только и смог, что удивлённо выдохнуть:
– Ты?..
– Миша… – беззвучно прошептала Анна. А может, это он не расслышал в шуме и гомоне праздника, лишь догадался по губам. Если бы не окружение, они бы бросились навстречу друг другу. Ситуация не позволила поддаться первому порыву.
Кто-то уже успел сунуть в руки Моисею огромный молот из папье-маше. Молодой паренёк, назвавшийся Сашей и секретарём комсомольской организации, кричал Моисею в самое ухо (видать, ему уже объяснили, что кузнец настоящий и поэтому ни черта толком не слышит):
– Моисей Наумович! Вы не переживайте. Ничего репетировать не надо. Просто бейте молотом по наковальне, – и он пнул настоящую наковальню, установленную на грузовике. – А Колька вроде того будет вам заготовку подавать, – и комсомолец показал на молодого широколицего паренька, голого по пояс, с настоящими кузнечными клещами. Паренёк белозубо улыбался, радуясь жизни.
Моисей слушал и бессознательно кивал, а сам в это время во все глаза смотрел на Анну, нетерпеливо ожидая, когда уже этот молодой вожак закончит свои наставления. Однако Саша не отставал:
– Вы на остальных, Моисей Наумович, внимания не обращайте. – На грузовике, кроме нескольких женщин в белых одеждах, среди которых была и Анна Сергеевна, находилось ещё с десяток юношей и девушек. – Они тоже участвуют в инсценировке. Но ваша роль главная – вы кузнец, вздымаете тяжкий молот и куёте ключи счастья. С той стороны тоже есть кузнец, и у него тоже есть помощник и наковальня. – Только теперь Моисей заметил, что проходящая вдоль всего грузовика от кабины до заднего борта декорация делила кузов пополам. Он попытался разглядеть, что было изображено на фанерных щитах, но вблизи сделать это было трудно, практически невозможно.

