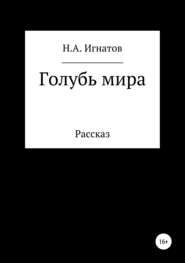 Полная версия
Полная версияГолубь мира
Неделю назад был у нее приступ, соседи вызывали скорую, врачи которой, впрочем, ограничились выдачей валидола, не обнаружив признаков ни инсульта, ни прочего чего серьезного, и вообще даже подивились крепостью здоровья ветерана тыла, несмотря на ее девяносто три года. Для родственников, однако, это был сигнал. Они приехали, кто на следующий день, кто через два дня (из другого региона), приехали в ожидании скорого и окончательного разрешения вопроса квартиры… А тут как раз и девятое мая, как же не порадовать старушку праздничным ужином в теплой семейной обстановке?!
– Да чё ты мытаришь его, ну не хочет лететь, и пес с ним, – лениво гнусавил Виталий, наблюдая, как Вика в очередной раз отправляет белого голубя в форточку.
Голубь был уже довольно старым и жил у бабки Авдотьи еще с тех времен, когда ее слух и зрение были очень даже в норме. Последние годы птица совсем стала никому не нужна, толком никто и не ухаживал, кормили по случаю, обычно когда Анна Васильевна навещала, а делала она это не чаще двух раз в неделю. В общем, мучилась птица от худой заботы, и сама уже бабка Авдотья (не в конец еще, видать, сбрендила) просила отпустить питомца на волю, хоть и жалко ей было до смерти, ведь прожил он у нее лет пятнадцать и сильно она к нему прикипела. А ведь это был не первый. Да, когда пропал без вести ее муж, завела она своего первого голубя, назвав его в честь пропавшего супруга – Мишка. Прожил Мишка восемнадцать лет, после него появился Жора, протянувший без малого двадцать лет, и вот теперь – Кеша, живой и здоровый, оказался персоной нон-грата в собственном доме.
Рома с Викой уже трижды выпускали его в форточку, но он, облетая сталинку по кругу пару раз, упрямо возвращался. На второй раз решили закрыть форточку, дабы заблокировать вторженцу вход, но бедняга так остервенело начал биться о стекло, что боясь за его жизнь, да и за само стекло, его тут же впустили. После третьего возвращения решено было прекратить на сегодня всякие попытки изгнания голубя, а также было выдвинуто предположение о необходимости выдворения его где-нибудь за городом, чтобы он уж точно не смог вернуться домой. Рома предложил эту идею и сам же пообещал реализовать ее. Вика, в свою очередь, выразила некое сомнение в том, что голубь вообще выживет на воле после стольких лет, прожитых в квартире, и даже уже начали говорить о том, чтобы перевезти его от бабушки к себе. После недолгой дискуссии, брат с сестрой сошлись на том, что решат судьбу птицы завтра.
– И не в облом же вам фигней этой заниматься, – продолжая грызть куриное бедро по третьему заходу, усмехался Виталий.
– Бабушка сама просила отпустить его, – сказала Вика, садясь с краю стола, как можно дальше от Виталия.
– Ха, дык бабка… – Виталий осекся и, взглянув на Авдотью, продолжил. – Бабуля же просто хочет проблему решить, избавиться от квартиранта. Нет у ней возможности содержать его и говно за ним убирать.
Все за столом, кроме бабки Авдотьи, с легкой блаженной улыбкой глядевшей в тарелку, поморщились от неприятной брани Виталия, но никто ничего не сказал.
– Ты, Ромка, – продолжал он меж тем, опять чуть покосившись на старушку, как бы лишний раз убеждаясь, что ни зрение ни слух к ней не вернулись, – Взял бы да открутил ему башку. А ей скажете, что отпустили. А то в натуре вы заморочились по порожняку.
– Фу, мы за столом вообще-то, – не выдержала Вика.
– И вообще, Виталий, это жестоко – убивать птицу просто так ради того, чтоб избавиться от нее.
– Да что ты, родной! – принял вызов Виталий, вытирая руки о низ скатерти, – Жестоко? Ты вот сейчас, когда курицу эту жрал, чё-то не очень о жестокости думал. А ведь её, курицу-то, тоже замочили, причем чисто для того, чтоб ты её потом схавал. Из неё из живой еще кишки на конвеере вытягивали. Ишь гуманист какой нашелся!
– Курицу для того и растили, чтоб убить, – спокойно отвечал Рома, – А голубь не для того столько лет у бабушки прожил, чтоб теперь ему голову откручивать. К тому же она попросила – отпустить, и если убить, а сказать, что отпустили – то вдвойне аморально получится – еще и бабушку обманем.
Слово «бабушку» Рома произнес с легкой дрожью в голосе. Виталий усмехнулся и налил себе водки.
– Так и скажи, что кишка тонка, вот и бубнишь про мораль-шмораль всякую, – сказал Виталий и осушил рюмку.
– А хошь, – продолжил он, занюхав водку колбасой, – я сам ему прям сейчас башку оторву?!
В голосе Виталия прозвучали нотки недоброго озорства и он начал было даже подниматься из-за стола, но торчащее брюхо помешало ему встать с первого раза. Со второго он все же встал, но за столом тут же поднялся гомон: Анна Васильевна и Андрей Порфирьевич в один голос потребовали, чтобы нетрезвый детина оставил неисполненным свой замысел. Виталий засмеялся, втиснулся обратно за стол и продолжил закусывать, долго еще сияя самодовольной миной.
Некоторое время за столом было тихо, младшие – Рома с Викой и старшие – Анна Васильевна и Андрей Порфирьевич по парам чего-то тихонько обсуждали, Светлана сидела в телефоне, Виталий пил и закусывал, бабка Авдотья сидела спокойно, изредка жуя что-то слабыми старыми челюстями, все с тем же блаженным выражением лица. Затем кто-то вспомнил повод, по которому все собрались и подняли тост. После тоста сам собой продолжился разговор о Войне, о ее жертвах, о цене Победы.
–…Да уж, победили, – то ли отвечая кому-то, то ли просто туманно рассуждая, заговорил Андрей Порфирьевич. – Победили. Только кому такая победа нужна? Вот моего отца, к примеру, в сорок втором под Москвой убили, а его отца – в сорок третьем под Тверью. Про смерть отца ничего неизвестно, а про деда сказали, вроде как попали они под авиа налет. Только вот слышал я, что расстрелял деда моего заградотряд, якобы за трусость. Да-да, мол подняли их в атаку, а он толи контуженный был, толи просто не услышал приказа, да так в окопе и остался, когда все побежали. Ну, его энкэвэдэшики и шлёпнули тут же «по законам военного времени», как говорится. Это мне мать ещё рассказала, а ей поведал дедов однополчанин, уже через годы после войны. Под большим секретом рассказал, конечно, потому как официальная версия – убит в бою. Так что такая вот цена была победы-то этой.
– Да чё там базарить! – подключился Виталий, сильно уже хмельной. – Гнали как стадо на пулеметы немецкие, жопами амбразуры закрывать. Заградительные эти, как их… короче, столько своих перемололи, мама не горюй. Вот дед мой… царство старику небесное… сопляком ещё на фронт ушел, но так ничё, живой вернулся. Так он такое потом рассказывал, что… это когда я уже взрослый был. Короче, вот и думай – нахера они вообще бились с немцами, когда надо было заградотряды эти перемочить, да сдаться. Тогда б и жертв таких бы не было. Немчура ж они не варвары какие… Ну скинули бы Сталина, стал бы вместо него Гитлер. Один усатый вместо другого, хер редьки не слаще (тут Виталий чахоточно засмеялся над своим, как ему казалось, ловким каламбуром, и если бы не его заплетающийся язык и вообще пьяный вид, можно было подумать, что он действительно знаток вкусовых отличий первого от второго). Зато, хоть наших криворуких машины бы делать научили. Я ж говорю – катались бы все на меринах да на бэхах и пивас ихний жрали бы… Да и вообще, научили бы нас жить по-людски, нормально, в натуре, а не ныкаться всю жизнь, вон, как бабка, в поисках задницы, куда можно запихать свою огромную пенсию.
Закончив свой сбивчивый монолог, Виталий намахнул еще рюмку и откинулся на спинку дивана. Красное, румяное лицо его выражало полнейшее самодовольство и высшую степень удовлетворения сытостью и магическим действием водки.
– Ну, это вы зря так, – сказал после небольшой паузы Рома. – Люди тогда за родину воевать шли, за мать, за детей. Вон сколько, я читал, добровольцами уходило на фронт, а сами на призывных пунктах себе возраст прибавляли, чтоб только взяли их. Это что же, их тоже только пулеметами в спину можно было воевать заставить?
Рома явно горячился, голос его чуть дрожал. Виталий, криво улыбаясь, с неким даже любопытством глядел на него.
– А что касается заградительных отрядов, – продолжал Рома, – то они создавались в самый критический момент, да и действовали больше в штрафных подразделениях, где «несознательный элемент» по большей части, а для них и Родина-то – пустой звук.
– То есть они, типа, не люди что-ли? – зевая спросил Виталий.
– Люди. Только склонные к предательству.
Виталий тут замотал головой и дотянулся до дальней бутылки на столе.
– Вот как у тебя просто всё, братуха. Да ты в курсе вообще, это чисто так хронику всю развернули, нужным местом, чтоб оприходовать сподручнее было. А так, ну ты сам-то в истории шаришь вроде, прикинь – кто там были: эти, Власовцы, нацисты хохляцкие, прибалтийские. Да они чисто хотели от большевизма избавиться, потому у них с немчурой одна цель была. Вникаешь, чего я базарю?
Рома, весь красный от досады и негодования, молчал, и едва заметил, как его локтем пихала сестра, чтобы он прекратил эту бессмысленную дискуссию с пьяным детиной.
Виталий налил еще рюмку и оглядел сидящих за столом.
– А вы чего не пьёте? Чё я как алкаш, в одну будку бухаю?
Он протянул рюмку в сторону Андрея Порфирьевича и Анны Васильевны.
– Ну, давай выпьем, – сказал Андрей Порфирьевич, который вообще пил мало по причине больного желудка.
Выпили. Андрей Порфирьевич, не большой вообще любитель говорить, все-таки счел необходимым продолжить участие в развитии дискуссии.
– Конечно, многие на советскую власть обижены были. Западную Украину, Молдавию, кого там еще, часть Прибалтики, присоединили ведь перед самой войной насильно. Там у них еще этот был, как бишь его?! Пакт! Вот по этому пакту они и заявили: мол, граждане хорошие, пожили свободно и хватит, теперь у вас общий вождь будет.
– Во-во! Вождь. Сколько эта падла усатая людей перемочила почем зря. А они еще Гитлера злодеем называют. А он, если что, своих не мочил. Ну евреев морщил, ну так и пес с ними. А эти, которых ты, Ромка, в предатели записал, они ведь тоже за Родину бились, только не за эту (Виталий обвел взглядом комнату) красно-жидовскую, а каждый за свою. Многие там, слышь, просто тупо мстили. За мать, там, за отца, которых раскулачили, там, или просто террором своим красным по беспределу заморщили. Так что ты не гони, причины были у всех конкретные. А так, дело прошлое, навешать на всех бирки легко – эти чисто предатели, потому что не хотели жить как быдло под красными, эти – потому что дезертиры, отказались, видите ли, суки, бежать с голой жопой и лопатой наперевес на пулеметы. Да так ведь и было: не встал раком вдоль линии фронта по приказу – все, чисто ссучился, Сталина считай нахер послал, а за такое гасить на месте! А так, чтоб вникнуть в тему, разобраться что кем двигало, так нет! Предатели и все тут.
– Ты серьезно думаешь, что можно оправдать некими причинами предательство? – спросила вдруг Вика.
Виталий чуть исподлобья взглянул на нее.
– Смотри, родная, у бати вашего с Ромкой автосервис есть, так? Ага, ну вот теперь прикинь, что приходят к нему опричники эти из органов и отжимают боксы. Ну, типа, харэ, буржуй, ананасы рябчиками заедать. Типа рейдерский захват и все такое, только по казенному раскладу, вникаешь? Ага. Ну и чё, батя ваш и вон, Ромка, будут после этого за мудил этих воевать, случись что? Вот то-то и оно. И тех раскулаченных и репрессированных понять можно. Да, тех самых, которых ловко в предатели зачислили, для которых новая власть, немцы в смысле, были не захватчики, а конкретные освободители от поганых уродов и быдлятины, дорвавшихся до власти.
– Я бы воевал не за мудил, – мрачно заявил Рома, – а за Родину. За родителей, за сестру, за бабушку…
– Ты, братуха, зеленый еще совсем, – снисходительно сказал Виталий. – Потому я тебе на этом базаре скачуху делаю. Это раньше была какая-то Родина, а ща эта тема устарела. Ща бабосы тебе Родину где хошь организуют. Вон, в курсе, у половины этих козлов из власти родственники за границей живут, в Лондонах да Нью-Йорках разных. Ты думаешь им есть дело до твоей Родины?! Да для них это все чисто поляна, с которой они бабурики стригут, чтоб потом по оффшорам ныкать.
– За них бы я не воевал, я бы за мать с отцом…
– Вот, Ромка, были бы у тебя свои киндеры, ты б по-другому мыслил. – Вступила вдруг в диалог Светлана, у которой подсела батарея на телефоне и она вынуждена была последние минуты воспринимать окружающую действительность. – Был бы у тебя выбор: сдаться, но замутить нормальную жизнь для детей, или там за Родину какую-то погибнуть, вот посмотрела б я на тебя тогда.
– Можно подумать, если я сдамся, враг пощадит моих детей.
– Сейчас в жизни надо иметь понимание, – продолжала Светлана (у которой, кстати, не было детей) свою витиеватую мысль, не заметив Роминой реплики. – Нужно уметь подстроиться под течение. Как это, мнн-н, поток-то бурный, и желающих оттяпать свой кусок от пирога все растет, надо быть шустрее остальных. Детям же все равно, при какой власти они живут, кто их родители – предатели или нет, главное их одеть, обуть, накормить, да обучение оплатить.
– Ты говоришь так, как будто у вас дети есть, – ехидно заметила Вика.
– Ну, знаешь… Мы с Виталькой еще не старые, успеем. Надо сначала на ноги твердо встать, чтоб ребеночек ни в чем нужды не имел. А то, знаешь, как многие – понарожают, а сами бичьё-бичьём, ни хаты, ни денег. Сами мучаются и нищебродов таких же растят.
Светлана закончила реплику с видом мудрого учителя поучающего неразумных учеников. Рома, глядя на нее поморщился, вспоминая ее предыдущее мнение о детях, (она их называла «личинками) высказываемое ей неоднократно и вживую и в своем идиотском блоге о «бьюти лайф». Она всегда твердила, что жить надо одним днем, наслаждаться моментом, а дети, то бишь «личинки» – серьезное для этого наслаждения препятствие. Сегодня она высказала иное мнение, видимо в погоне за трендом беседы.
– Света, а разве в деньгах суть? – нахмурившись, спросила Вика, которую Светлана раздражала не меньше, чем Рому. – Разве не в воспитании главное? Ведь среди богатых встречается столько моральных уродов, мажоров разных.
Светлана с Виталием одновременно поглядели сначала на Вику, затем друг на друга и захохотали. Далее диалог был скомканным, слишком натянутым и скучным, чтобы воспроизводить его. Стоит лишь отметить, что разговоров ни о войне, ни о предателях более не было, а только вполголоса все, кроме студентов, обсуждали квартиру, и как ее разделить и сколько она вообще может стоить. Тут экспертом выступил Виталий, заявивший, что у него есть «нормальные пацаны», которые смогут продать быстро и дорого. Присутствие за столом еще живой хозяйки квартиры уже почти совсем никого не смущало.
Обсудив возможные сделки с недвижимостью, допив всю водку, и доев почти всю еду, гости вскоре начали собираться. Анна Васильевна обещала бабке Авдотье зайти через день-два, осведомиться о здоровье.
Конечно, приступ был, теперь надо только осведомляться да ждать, когда жилплощадь освободиться – это читалось на лицах остальных, собравшихся уходить гостей.
Наконец, ушли.
Стало тихо. Рома и Вика молча убирали со стола, уносили на кухню грязную посуду и прочую утварь. Лица у студентов были мрачные, особенно у Вики. Общение с «родственничками», как называл их Рома, никогда не доставляло особого удовольствия ни ему, ни сестре, а уж сегодня после этого общения хотелось просто вылить на себя ведро спирта для дезинфекции.
– Фу, таким мудаком этот Виталя стал, – вдруг брезгливо сказала Вика брату, когда они были на кухне.
– Да он им и был всегда.
– Нет, Ром, ну все понятно, конечно, что он такой весь из себя крутой и циничный, но при бабушке такое говорить…еще и в такой праздник… Не знаю, по-моему он сегодня перешел на уровень сверх-мудака.
Рома ухмыльнулся краем рта, но брезгливое напряжение все также оставалось на его лице.
– А самое мерзкое ведь даже не то, что они так спокойно и как-то, знаешь, воодушевленно оправдывали предателей…
– Они их не оправдывали, Рома. Они, суки, восхищались ими. Фу, вот ведь родственничков Бог послал! Извини, перебила.
– Я говорю, самое мерзкое сегодня даже не это было, а то, как они все, и даже ведь Анна Васильевна с Андреем Порфирьевичем, обсуждали как будут делить бабушкину квартиру. Хорошо, что хоть она ничего не слышит, да и что услышит – понимает через раз.
– Это все Виталя этот, козел. Все, Рома, больше, хоть убей, не хочу встречаться с ними! Фу, мерзость какая!
– Да уж. Ладно, там на столе ничего, вроде, не осталось. Ты посуду домывай, а я пойду бабуле помогу, да приберусь в комнате.
Сказав это, Рома вышел из кухни и направился в комнату, где за столом по-прежнему оставалась бабка Авдотья, совсем, наверное, и не заметившая, что все гости уж разошлись.
Квартира и впрямь была большая, тут пока от кухни по коридору до комнат дойдешь – устанешь. Рома находил вовсе неудивительным тот факт, что эти коршуны разновозрастные так дружно вдруг собрались отмечать праздник Победы у старой Авдотьи как раз после недавнего ее приступа. «Они ведь навряд ли знают, – злорадствовал про себя Рома, – что у бабушки приступ-то и не приступ был, а так. И что врачи ей еще лет десять напророчили. Только вот памяти да зрения нет, и слух уж совсем не тот…»
Ромины размышления прервались внезапным испугом, когда он только зашел в комнату. Бабки Авдотьи за столом не было. Рома так и встал с раскрытым ртом, до того неестественна была ситуация. Впрочем, он тут же пришел в себя, вспомнив, что, хоть бабуля и слеповата, но как-то ведь проживает одна в своей квартире, как-то умудряется ухаживать за собой. Рома прошел во вторую комнату, там – никого, в третью – и там, как вначале ему показалось, никого не было, но вдруг… Первые секунды его мозг просто отказывался трактовать увиденное как факт, поэтому Рома просто стоял и выпучивал глаза, не в силах ни сказать что-либо, ни сделать.
– Ты, Ромочка, не переживай, шиш без масла они получат, а не хату мою, – сказал чей-то голос, до нельзя бабушкин, но такой уверенный и бодрый, что не верилось.
Бабка Авдотья сидела лицом к огромному зеркалу, что висело на старом шкафу, и сурово разглядывала отражение, как бы ища изъяны в кителе. Да, на ней был коричневый, с синей окантовкой, китель лейтенанта госбезопасности СМЕРШ. Рома сразу конечно не разглядел, но позже увидел на кителе и медаль «За отвагу» и значки, вроде «Наше дело правое!», и медали за боевые заслуги, и, конечно же, орден Отечественной Войны.
– Баба Дуня… – только и сорвалось с застывших Роминых губ.
– Ну, чего застыл как памятник, сестру-то зови, – повернулась к правнуку бабка Авдотья, и в ее ясных глазах он уже не замечал прежней старческой замутненности, – Есть у меня что вам рассказать.
Стоит ли говорить о том чрезмерном изумлении, что произвело на брата с сестрой невероятная метаморфоза, приключившаяся с их любимой, дряхлой и немощной бабулей. Когда шок от неожиданных впечатлений прошел и ребята начали соображать более-менее трезво, их вниманию предстало пусть и простое, но, вместе с тем, с трудом причисляемое к истине, бабкино повествование.
Оказалось, что она вовсе не была тружеником тыла, работницей завода, что всю войну делал снаряды разных калибров, помогая тем самым сковать для армии «меч возмездия», который посрубал-таки все головы фашистской гидре. Также выяснилось (что было наиболее невероятным), что бабуля вовсе не страдает ни слепотой, ни слабостью слуха, да и с головой у нее все в порядке, хотя, конечно, чего говорить, годы свое взяли, и видит и слышит она уж далеко не так, как раньше, да и память порой подводит. А все ее притворство было вызвано тем, что, как она сама выразилась «…Нет сил смотреть на все это гадство, что кругом творится. Уж пусть я лучше для всех слепая да глухая буду, с меня спросу меньше, а на других – сраму…»
Квартиру же свою она давно завещала фонду одной из ветеранских организаций, и отец Ромы и Вики, Александр Андреевич, единственный, кто об этом знал, потому как доверяла бабка из всех взрослых тогда ему одному. Надо сказать, что для этого доверия у нее были причины. Уж очень внучатый племянник походил на своего деда Василия, брата Авдотьи, а он для нее был дороже и ближе всех. И походил-то ведь не только внешне, но и по характеру схож был, и по тому, как видел мир. В общем, для бабки Авдотьи сомнений в Саше Климове быть не могло. Рома с Викой даже переглянулись, чуть улыбаясь, когда услышали про завещание. Им приятно было бы посмотреть на грустные морды родственничков, когда те узнают, что квартирка им не светит.
Впрочем, прошла тут же и грустная нота – бабка сообщила брату с сестрой, что приступ, что случился с ней на днях, был нешуточным и что жить теперь ей точно недолго осталось, это уж она хорошо чует, а что врачи набрехали, так то всё только чтоб не расстраивать.
Но, вернемся к повествованию старухи Авдотьи, которое представлено ниже с ее слов, в том виде, в каком и было ею самой изложено. О многих, следует заметить, фактах из своей биографии, могущих иметь отношение к данному повествованию, она все же умолчала, хотя, возможно, дело здесь было просто в изъянах старческой памяти.
………………………………………………………………………………………………….
«…Осень холодная выдалась тогда, дождливая. Немец уж на подходе к нашей деревне был, когда через нас прошли остатки какой-то дивизии. Сначала говорили, что здесь рядом и останутся, оборону организуют, встретят фашистов тумаком по башке. Мы все уж было обрадовались, наконец-то, думаем, драпать перестанут, да вдарят им как следует, а то, что ж это за дело, когда столь земли отродью этому поганому оставили. Но через день-другой, смотрим – засуетились чего-то служивые с утра еще, засобирались, а уж к обеду и ушли все. Что ж вы, родные, делаете, – плакали бабы, – почто нас на поругание иродам этим оставляете? Но командиры только хмуро глядели, да отвечали чего-то непонятное, что, дескать, приказ у них – отступить дальше на северо-восток для соединения там с кем-то и уж тогда-то они вдарят! А сейчас, мол, слабые у них силы. Да уж, вправду сказать, и смотреть-то жалко на них было: солдатики сплошь раненные, да в рваных шинелях, да измученные какие-то. В общем, подзабрали у нас всех почти лошадей, хлебом, картохой да водой запаслись и только мы их видели. А один командир все говорил, чтоб и мы все тоже уходили, да хаты подпалили свои, что через день-два тут уже немец будет. Многие, конечно, с ними и ушли, только домишки палить не стали, пожалели кровное. Ну, а мы остались. Мамка, помню, сказала, что, авось пронесет, да и не станет, поди, фашист в нашу деревеньку заглядывать, что ему сёл побогаче кругом мало?! После решили все же, что сегодня-завтра скарб соберем, да все и уйдем. А куда идти – никто и не знал, да и дело понятное, никто особо драпать и не хотел – хозяйство жалели, с большим трудом нажитое, да обхоженное.
Только красноармейцы ушли, прошел слух, что немец уж совсем тут, что, уж в совхозе соседнем «Краснознаменском», а это от нас километров двадцать, стало быть, жди его как бы ни до вечера сегодня. Тут же поползла вся наша местная сволота в кучу. Собрались возле хаты одного, самого отъявленного, Никифором его звали. Ох, и смрадной народец то был. Они еще до войны все бухтели на Советскую власть, втихаря, конечно. И все им не так, и все не эдак было. У одного отца раскулачили, у другого артель отняли, у третьего, как у черта лысого ничего не было отродясь, и он просто роптал, потому как роптать легше, чем работать. Все, как один – трусливые щенки, только лакать самогонку, да девок щупать и могли. А уж как напьются – никакая милиция не справится. Посадит участковый в кутузку за драку или еще за что, дня три их морды не видать в деревне, у всех аж на душе радостно, потом глядь – опять гуляют, а через день – сызнова в стельку! Этот Никифор сам уже в годах был, не то что остальная шпана, вот он у них навроде вожака и был, а в хате его они и собирались постоянно пить, да песни орать. Сам он толи трактористом был, не помню уже, толи слесарем по тракторам, чинил бишь их, черт его, проклятого, знает. Только помню, что на собраниях он появлялся в сельсовете, уж не знаю как его туда заносило, наверное приволакивали силой, и там, на собраниях, председатель наш, Максим Демьяныч, частенько ему товарищеские суды и выволочки разные устраивал. Дебошир, мол, тунеядец, пьяница и все в таком духе. А этот-то только морду кривил, да зубами скрипел.
На фронт никто почти из этих не пошел. У Никифора любовница была врачихой в райцентре, так она многим справок нашлепала, что негодны, а иные и сами попрятались от призыва. Путные-то все, кто в деревне был, сами на второй уж день на фронт записались. Вот их всех и забрали, а на деревне одни бабы, старики, дети остались, председатель – калека хромой, да этот сброд.
Ага, собрались, значит все они у Никифора во дворе, как красноармейцы ушли. Не помню, сколько их, подлецов, было, ну наверное, штук восемь, точно. Откуда-то у некоторых появились ружья, видать спёрли, у остальных – топоры да вилы, и пошли они всей ватагой расправы чинить, готовиться к встрече новых властей. Первым делом ворвались они в дом к Демьянычу, председателю. Ой, что натворили, гады! Точно уж не скажу, как и что, только детей их малых обоих в канаве потом нашли, зарезанными, а старшую, Клавкой вроде звали ее, голую и изуверски убитую видели утром на другой день прямо рядом с дорогой. Самого Демьяныча-то и жену его изверги сильно изуродовали перед тем, как убить. Потом сделали они кресты из брёвен и на крестах этих их трупы и привязали, да с приветственными табличками на груди, вроде так. Кресты эти на въезде поставили, чтоб когда немец заезжал в деревню, видал уже, что власть новая и фашистам в ножки кланяется».



