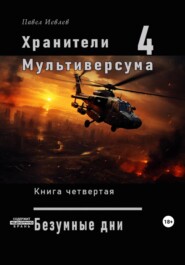скачать книгу бесплатно
– Э, стоять… – начал он.
– Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, – ответил мой пистолет. Глушитель на «Макарове» работает так себе, но тут достаточно безлюдно, а задерживаться я не собираюсь. Контрольные мне делать не нужно, обыскивать неинтересно, мародерить противно.
Сел в машину и уехал.
– Здравствуйте, Анна!
– Здравствуйте Виктор, рада вас видеть! С чего бы вы хотели начать наш сегодняшний сеанс?
– Увы, Анна, я опять сделал это, – винюсь я.
– Неужели никак нельзя было решить проблему иначе? – голос психотерапевта профессионально ровный, но я знаю, что он расстроена.
– Увы, Анна, они сами напросились. Ну не дорогу же спросить они за мной ехали?
Я лукавлю, и Анна это знает. Я мог от них оторваться, я мог вывести их на полицию, я мог позвонить определённым людям, и их бы приняли на месте, объяснив, насколько они не правы. Я мог, в конце концов, стрелять не в лоб, а по конечностям. Да что там, скорее всего, достаточно было бы достать пистолет и прострелить колеса, чтобы они, с угрозами и обещаниями разобраться потом, но отстали. Но я поступил так, как поступил. Я убийца, Анна.
– Вы слишком строги к себе, Виктор, – качает головой мой воображаемый психотерапевт, но я-то знаю…
Впервые я узнал о своём предназначении, когда отчим по какой-то причуде сознания пропил не все деньги, а на остаток привёл меня в тир. Он тогда ещё пытался периодически изображать: «Я тебе, засранцу, как отец!». Я про себя его так и называл: «мой какотец». Тир был дурацкий, с жестяными фигурками, рывками едущими вдоль задней стены полутёмного павильона и ушатанными пневматиками-переломками, пристреливать которые никто и не собирался. Но я не промахнулся ни разу. Изумлённый отчим, который перед этим пытался путано объяснить, как совмещается прицел с мушкой, разорился на пульки – и снова легли десять фигурок. Тут уже его приятель, который этим тиром как раз заведовал, выдал ещё десяток бесплатно – с тем же результатом. Дальше я стрелял в бумажную мишень, аккуратно вынеся десятку, в консервную банку, в автоматные гильзы… Мужики впали в азарт, и уж не знаю, как отчимовский собутыльник потом отчитывался за истраченные пульки, но я выстрелил раз сто – и ни разу не промазал. Мне не было интересно – ни тогда, ни потом. Как вам не было бы интересно раз за разом валить стоящий на столе спичечный коробок, ткнув в него пальцем. (Я далеко не сразу понял, что люди, которые промахиваются, делают это не специально). Так что стрелять мне было скучно, но сообразительный «какотец», на пару с мужичком из тира, монетизировал мой талант – спорили на выпивку с такими же колдырями, что я попаду десять раз подряд. И я, разумеется, попадал. Потом это фокус всем наскучил, желающие спорить кончились, и больше я в тир не ходил. Не пошёл я и в стрелковый спорт – просто не пришло в голову. Скучно же. Промахнуться при стрельбе для меня всё равно, что промахнуться, вытирая жопу. Вам же не приходит в голову строить карьеру на том, что вы очень точно вытираете жопу? Так что мое следующее столкновение с судьбой состоялось уже в армии. Мама к тому времени умерла, «какотец» пропивал последний ресурс печени, я был дурак-дураком. Имел неосторожность продемонстрировать талант и моментально был взят на заметку. От подразделения требовалась сдача нормативов, я стрелял за себя и за всех рукожопов, а потом меня выставили на внутриармейские соревнования, защищать честь родного гарнизона. По-своему это было удобно – локального чемпиона по стрельбе не гоняют копать канавы. И он реже чистит картошку, проводя время в «тренировках». Его уважают старослужащие и берегут командиры. На исходе срочной мне сделали предложение по дальнейшей службе. Возвращаться в квартиру «какотца» не слишком хотелось, и я его принял. Дальше было много интересного и не очень, но основным моим занятием с тех пор стало убивать людей. От судьбы не уйдешь.
Я иногда завидую Сене – он живёт без рефлексий, как полевая трава. Я так не умею. Я пытался сменить род занятий, но раз за разом в итоге оказывался с пистолетом перед трупами. «Увы, Анна, я снова сделал это…» Пришлось принять как предназначение. Когда я прочитал «Тёмную башню» Кинга, меня чуть не разорвало: «Это же про меня! Я тот самый Стрелок! Я такой же, как он!». Я даже пытался заиметь себе такой позывной – «Стрелок», но не прижилось. Прижилось прозвище – «Македонец». За то, что стреляю с двух рук[3 - Стрельба «по-македонски» – на ходу из двух пистолетов по движущейся цели.].
– Привет, Македонец, – Ингвар достал из бара бутылку. Я не большой любитель алкоголя, но он из тех, с кем проще выпить, чем отказаться. – Давно не виделись, да?
– Давно, да, – я не спорю и беру стакан. Виски с содовой? Сойдёт и виски.
– Я приехал в ресторан
С золотого прииска
Ведро водки заказал
И котлет по-киевски!
– радостно потирая руки, продекламировал Ингвар. Он меня бесит этой клоунской манерой по любому поводу нести какую-то рифмованную поебень. То ли сам её сочиняет, то ли башка этим дерьмом забита. Тот ещё мудак, но дела с ним иметь можно.
– Мне б золотишка прикупить, – не стал я изображать светскую беседу. – Ты в курсе.
– Я-то в курсе… Но…
– Что-то не так?
– Вот ей-богу, Македонец, не знал бы я тебя столько лет, подумал бы, что подстава.
Я, было, напрягся, но он замахал руками.
– Нет-нет, это не наезд, просто такие совпадения косяком пошли, что уж не знаю, что и думать. Я же вообще-то не по золоту, ты знаешь. Просто иногда помогаю людям. А тут мне один человек, которого я сто лет не видел, приносит, а второй, которого я тоже, что характерно, давно не встречал, сразу хочет купить.
– Ну и что? – не понял я. – Есть спрос, есть предложение, есть гармония в мире. В чём проблема?
– Вот в чём.
Ингвар засунулся в огромный сейф, порылся там и, вынырнув, протянул мне монету.
– Видел такие?
Я посмотрел на шестеренку с микроскопом на реверсе крупной монеты и кивнул.
– Доводилось. Не ожидал увидеть у тебя.
– А я, вот не удивлен, что ты видел, прикинь? Не зря я в совпадения не верю!
– К этой чеканке есть некоторый специфический интерес.
– Да-да, я в курсе. И знаю, что за неё бывает. А ты ведь знаешь, кто такие чеканит, да?
Разговор принимал довольно опасный оборот и, по-хорошему, надо было на этом его заканчивать и уходить – Ингвар не единственный барыга в городе, нашел бы через кого золото взять. Но я не стал обострять.
– Знаю. Это экспортный золотой рубль Русской Коммуны. Очень чистое золото, но оборот его довольно… хм… специфический.
– Ты проводник, Македонец? – спросил Ингвар в лоб.
Задавать такие вопросы не только неприлично, но и небезопасно. Проводники не любят внимания. Тихая это профессия, непубличная.
– Нет, – ответил совершенно честно. Не стал спрашивать: «Какого вагона?».
– Но ты связан с этой темой, так?
– Связан.
– Тогда забирай! – он вытащил из сейфа плотный мешочек и гулко брякнул им по столу. – Двадцать пять монет.
– Это приличный капитал, – осторожно сказал я. – Они ценятся выше золота по весу.
– Да? – Ингвар махнул рукой. – Не знал. Я их по цене лома взял. Но неважно – забирай по весу. Для меня это горячий товар, а для тебя, как я понимаю, проблемы нет?
– Нет, – признал я, – но, если ты в курсе темы, то мог бы и сам пристроить.
– Я вчера в первый раз своими глазами видел другой мир, – неожиданно признался Ингвар. – Я не очень в курсе темы, но, чтоб я сдох – как же я хочу быть в курсе!
– У меня с собой не хватит налички, чтобы выкупить прямо сейчас, – предупредил я его, – буду готов завтра.
– Все равно забирай, я завтра подготовлю остальную часть, за все и расплатишься разом. Не хочу у себя хранить.
Я пожал плечами и сгреб увесистый мешочек в карман.
– И ещё, – вспомнил о нужном. – Мне опять нужен ствол. Лучше всего такой же, болгарский «макар» с глушаком.
– Да что ты их, жрёшь что ли? – удивился Ингвар. – Нет, не говори, не хочу знать. Завтра будет.
Тот, из которого я дагов пострелял, я закинул в реку – зачем мне палёный? Остался второй, но с одним мне неуютно. Я ж Македонец.
Артём
Этим утром Артём проснулся от внутреннего беспокойства. В последнее время его часто охватывали какие-то смутные ощущения. То ли что-то вот-вот произойдёт, то ли оно уже произошло, но не тут, то ли всё-таки тут, но он не заметил. Довольно дискомфортно.
Артём спросонья пошарил рукой по постели – Ольги не было. Уже не первый день он просыпался в одиночестве. Его… подруга? Женщина? Жена? – смывалась тихо и рано, уносясь по своим непостижимым делам. Смешно сказать, но он до сих пор не мог окончательно определиться, кто для него Ольга. С самого первого его дня в Коммуне они жили вместе, делили постель и скромный здешний быт, но про то, чтобы пожениться, речь не заходила ни разу. Впрочем, тут, как ни странно, спокойно относились к таким формальностям – Артём ожидал каких-то махровых пережитков Империи, вроде «Семейного кодекса», парткомов и профкомов, заглядывающих под каждое одеяло. Это, как и многое другое, оказалось ерундой – жизнь в Коммуне вообще ничуть не была похожа на тот образ, который он себе составил из её истории и своих предрассудков на тему СССР. Слишком мало тут было людей, и слишком жёстко их отжало в центрифуге событий, чтобы не облетела большая часть формальной шелухи. То, что осталось, было странным и поначалу очень непривычным, но многое Артёму скорее нравилось, чем нет.
Институт брака тут присутствовал в форме традиционного «гражданского» – то есть, с регистрацией оного в соответствующей базе данных. Это всё, что Артёму было на сей счёт известно. Выспрашивать у Ольги подробности было неловко – не стоит разговаривать с женщиной о браке, если ты не собираешься немедленно сделать предложение.
С Ольгой было странно. Она красива, великолепна в постели, покладиста в быту, умна и обладает прекрасным чувством юмора. А ещё у неё роскошная задница. Чего тебе ещё надо, дурень? Ничего не надо, Артём искренне восхищался, глядя на неё. Да, в их паре она была ведущей, и это было непривычно – но при этом Ольга умела провести свои решения так ненавязчиво и убедительно, что он не чувствовал себя ущемлённым. Тем более, что она тут как рыба в воде, а он ходит в неофитах. До сих пор не вполне разобрался во многих ключевых моментах функционирования здешнего социума.
Артём встал, наскоро принял душ, оделся и потащился в столовую. Коридоры комплекса были почти пусты – здесь принято вставать несколько раньше. Однако у Артёма свой график. Это, кстати, тоже немало способствовало его неполной включенности в местную жизнь. Собственно, кроме Ольги и тех, с кем он непосредственно сталкивался по работе, никакими близкими знакомыми он так и не обзавелся. Впрочем, Артём всегда признавал, что асоциален и вообще довольно унылый в коммуникативном плане тип. Тем не менее, все встреченные в коридоре и на лестнице соседи по жилому комплексу здоровались с ним искренне и благожелательно. Хотя он и не помнил, как их всех зовут, но мог поручиться, что они – помнят. Вначале это его напрягало, но потом он принял умолчальную благожелательность за местную норму и успокоился. В конце концов, это его не обязывало ни к чему, кроме ответного приветствия. Если бы он им пренебрег, его немедля бы спросили, всё ли с ним в порядке, и не нужна ли помощь. Самым неожиданным открытием для Артёма стало, что это не формальная любезность, а реальное беспокойство и готовность помочь. Внутренние связи здешнего социума были сильнее, чем он привык, что имело свои плюсы и минусы. Как любая общинность.
В столовой за крайним столиком сидел хмурый невыспавшийся Борух. Артём помахал ему рукой, он сделал приглашающий жест в сторону свободного стула. Взяв поднос, Артём поприветствовал юную смешливую раздатчицу Лиду и прошёлся вдоль стойки, размышляя, стоит ли взять то, что тут оптимистично называют словом «кофе». Увы, настоящий кофе в сельхозсекторе начали культивировать совсем недавно, и до промышленных урожаев было далеко, а из чего делали местный – лучше не спрашивать. Судя по действию, кофеин в нём действительно содержался, но вкус, мягко говоря, имел с исходным напитком мало общего. Подумав, что день предстоит непростой, кофе всё-таки взял, налив его из большого подогреваемого термоса с краником, но, чтобы как-то сгладить химический привкус, ливанул в него сливок. Сливки как раз были натуральнее некуда – жирные и свежие, только что с фермы. Докинул на тарелку пару горячих бутербродов с варёным мясом, залитым расплавленным сыром на больших ломтях свежего хлеба, и этим ограничился.
– Вот никогда вы каши не возьмёте! – попеняла ему Лида. – Только кофе да бутерброды! Этак здоровья не будет!
– Спасибо за заботу, Лидочка, – улыбнулся ей Артём. – Но так уж я привык.
Статус «мужика той самой Ольги» с одной стороны надёжно ограждал его от покушений на его условно супружескую верность, а с другой – привлекал интерес женского пола по принципу «Что она в нём нашла?». Ольга имела в здешнем обществе очень высокий статус, примерно как руководитель КГБ в СССР. Иногда он чувствовал себя этаким принцем-консортом. А иногда – случайно забредшим в племя людоедов антропологом, которого захватила в плен местная принцесса. В ожидании, чего ей захочется больше – секса или мяса.
– Долго спишь, – буркнул Борух, допивая утренний кефир над тарелкой из-под овсянки.
Темноокая и пухлозадая женщина Анна Абрамовна ловко и нежно женила на себе бравого майора, и теперь тщательно присматривала, чтобы ценный трофей сохранялся в хорошем состоянии. Это включало в себя отказ от курения, здоровое питание, ограниченный алкоголь и, разумеется, никакого кофе. Бывшему закоренелому холостяку это внимание льстило больше, чем напрягало, но на Артёмов поднос он посмотрел с некоторой завистью.
– Да говно этот кофе, ты ничего не теряешь, – с сочувствием сказал Артём. – Только что вздёргивает с недосыпу.
– Всё равно хочется… – вздохнул Борух. – Но моя всегда как-то узнает. Раздатчицы ей, что ли, докладывают?
– Олега давно видел?
– Третьего дня. Сейчас в рейсе опять. Потащил караван с грузом куда-то. Операторы перегружены, сам знаешь.
– Знаю…
– Он говорил, через неделю вернётся, будет выходной пару дней. Надо бы собраться, посидеть нормально.
Борух допил кефир, печально посмотрел в пустой стакан и потащил поднос с посудой в посудомоечный агрегат, стоящий в углу. Брякнула железная дверца, звякнула тарелка.
– У нас там сегодня совещание, вроде… – обронил он как бы между прочим, проходя мимо столика. – Может, скажут наконец, что за хрень творится.
У Артёма сразу испортилось настроение – ничего хорошего он от совещания не ждал. В последние дни в воздухе ощутимо веяло тревогой и скорее всего новости будут неприятными.
– Включайте, вы последний сегодня! – крикнула ему Лида, когда он расставил стакан, тарелку и поднос по соответствующим отделениям в посудомоечном агрегате.
Массивная стальная дверца сыто чавкнула резиновым уплотнителем. Артём повернул прижимной рычаг и клацнул переключателем. Агрегат вздрогнул и утробно загудел. Здесь всё было такое – большое, крепкое, угловатое, стальное на болтах, крашеное неброской, но чертовски прочной серой эмалью. После привычных Артёму округлых, пластмассовых и легковесных вещей местная бытовая техника поначалу казалась какой-то нелепой и архаичной, дизельпанковой какой-то. Казалось, что стиральную машину можно поставить на гусеницы и отправить штурмовать укрепрайон, а холодильнику не хватает только стартовой ступени, чтобы он пролетел по баллистической траектории через океан и оставил дымящиеся руины от какого-нибудь Нью-Йорка. Правда, ни океана, ни Нью-Йорка тут не было, а то, что Артёму казалось избыточностью, происходило от совсем обратного – от дефицита ресурсов. Этот посудомоечный агрегат, скорее всего, проработал уже лет тридцать и спокойно проработает ещё сто – или сколько там понадобится – при условии замены нескольких простых расходников. С учётом того, что бытовая техника тут производилась не миллионными тиражами, а почти штучно, это давало серьёзный ресурсный профит.
Период экстремального выживания в условиях полной изоляции наложил на Коммуну своеобразный отпечаток и сформировал непривычное отношение к вещам. Так, квартира, в которой они жили с Ольгой, по меркам родного среза Артёма, относилась скорее к «гостинкам» – наидешевейшему жилью «гостиничного типа». Никакой кухни, крошечный санузел с душевой кабиной, спальня чуть больше кровати и небольшая проходная комната-кабинет. Благодаря высоким потолкам и окнам во всю стену ощущения тесноты не возникало, но всё же это был необходимый минимум пространства, не более того. Впрочем, учитывая неожиданно малое количество того, что принято называть «личным имуществом», места хватало – вся их с Ольгой одежда прекрасно помещалась в небольшой встроенный шкаф, с отсутствием кухни снималась проблема посуды, книги хранились в общей библиотеке комплекса, всё, относящееся к работе, оставалось на рабочих местах. Ну и зачем, спрашивается, больше места? Пыль плодить? Квартира тут утилитарное помещение, в которое приходят спать.
Артёму, считавшему себя законченным индивидуалистом и сидевшему годами в позиции «мой дом и есть мой мир», сначала всё это было довольно дико, но потом оказалось, что роль «лишнего человека», которую он играл в мире прежнем, абсолютно нелепо выглядит в социуме, испытывающем жесточайший кадровый голод. А главное – в мире, полном реальных, очень настоящих, интересных и крайне важных задач. Правда, писать фантастику он бросил. Теперь она стала его повседневной работой.
В дверях Артём столкнулся с девочкой лет тринадцати, которая катила тележку с ведром, тряпками, шваброй и пылесосной оснасткой – шлангом и щёткой, которые подключаются к разъёмам вакуумной системы уборки дома.
– Ой, вы ещё здесь? – удивилась она. – Время уборки!
– Привет, Катя, – поздоровался он с ней. – Уже ухожу. Как твои дела?
– Всё хорошо, спасибо! – широко улыбнулась девочка. – Но я последнюю неделю у вас убираю.
– А что так? – расстроился Артём.
Катя ему нравилась – рыжая, чуть тронутая солнечными веснушками по молочно-белой коже, симпатичная и очень весёлая девочка. Он часто думал, что у них с Ольгой могла бы быть вот такая дочка.
– Седьмой класс же! – укоризненно сказала она, удивляясь, что можно не знать очевидного. – С понедельника у нас вместо общей трудовой практики будет специализированная.
– Ого, уже седьмой! – улыбнулся Артём. – Как ты быстро выросла! И куда собираешься?
– Не знаю пока… – встряхнула огненно-рыжими хвостиками школьница. – Всё такое интересное…. Вчера нас возили на молочную ферму, там телята смешные! А сегодня на гидростанцию поедем, там тоже, говорят, очень здорово!
– Ну, удачи! Я буду скучать, я к тебе привык уже.
– Не скучайте, – засмеялась девочка, – вместо меня будет Настя из пятого «Ж», она хорошая!
Детей в Коммуне было очень много. Жестокий популяционный кризис предыдущих поколений, сильно повыбитых борьбой за существование, пытались выправить активным стимулированием деторождения. Этим и было вызвано сильное смягчение нравов в области семейной жизни – от советских чуть ли не к вудстоковским. Внебрачные связи не осуждались, секс был более отделён от отношений, чем обычно. Социальные нормы вообще очень легко гнутся под текущие необходимости, а тут ещё и гендерный перекос сработал – как это обычно случается, спасавшие жён и детей мужчины их по большей части спасли, но сами выжили далеко не все. В поколении Первых на одного мужчину приходится шесть женщин. Второму пришлось полегче, но и там вышло один к трем, и только к третьему положение начало потихоньку выравниваться. Так что рожали тут много, и дети бегали жизнерадостными стайками повсюду. Возможно, некоторые из самых мелких имели гены Артёма – в обязанности каждого здорового мужчины входило пополнение банка спермы, и он регулярно проходил процедуру. Артём подозревал, что его генетический материал используется очень активно – при малочисленном исходном населении специалистам репродуктивной лаборатории приходилось раскладывать сложные пасьянсы в попытках избежать близкородственного скрещивания. Впрочем, Артём не исключал и евгеники – наследуемость способностей оператора не доказана, но и не исключалась. Если бы не Ольга, можно было бы выполнять свой генетический долг и более приятным способом, но… Она даже, вроде бы, и не возражала, но то немногое, что Артём понимал в женщинах, настоятельно твердило: «Не стоит оно того».
Ещё одно интересное следствие этой политики, которое Артём отметил как невольный антрополог, – матрилинейность здешнего общества. Установить отцовство при таком свободном отношении к сексу можно было только медицинскими способами, и оно устанавливалось – но информация была принципиально закрытой. Так что родство считалось по материнской линии и учитывалось при генетических раскладах. В социальной жизни родительские отношения были менее значимы, чем в привычном для Артёма традиционном обществе. Может быть, поэтому и отношение к детям тут было удивительным – чужих детей не было, в их жизни принимал участие каждый взрослый. Даже рождённые в браке почти никогда не жили в семьях – воспитание было коллективным, очень хорошо и продуманно организованным. Коммуна возлагала на своих детей большие надежды, вкладывая существенную часть своих невеликих ресурсов в их образование и воспитание.
Артём зашел в бытовое помещение комплекса, напоминавшее ему «бытовку» армейской казармы и исполнявшее похожие функции. Одну стену здесь занимала монструозная многосекционная стирально-сушильная машина. Как и вся коммунарская бытовая техника, она была начисто лишена дизайна и производила впечатление собранной на танковом заводе. Зато заложенная в неё утром одежда вечером оказывалась постиранной, высушенной, разглаженной и даже упакованной в бумажный пакет. Артём открыл ячейку, сунул туда вчерашний комплект: бельё – отдельно, верхнюю одежду – отдельно. Постельное бельё ежедневно меняли дети, которые в рамках трудовой практики занимались уборкой жилых помещений. Артёму было очень странно, что доступ в квартиру открыт для посторонних, тем более – детей, тем более – к постели, которая, в общем, довольно интимный элемент жизни… Но и к этому он, в конце концов, привык.
Одеваться здесь было принято в стиле, который в срезе Артёма назывался «кэжуал». По меркам материнского мира, одежда была однообразной, отличаясь более цветами, нежели покроем. Если женщины как-то наряжались вне работы (хотя тоже, в сравнении, простенько – в основном, платья, юбки да сарафаны), то мужская часть населения выглядела вся на один фасон – свободные брюки, рубашка или блуза, куртка по погоде. Самовыражались, если уж кому приспичило, цветовыми сочетаниями – попугаечно-зелёные штаны со свирепо-малиновой, как пиджак из 90-х, курткой на улицах нет-нет да встречались. Ничего похожего на «высокую моду» Артём тут не видел, зато ткани здешние ему очень нравились – прочные, почти неизнашиваемые, немнущиеся, устойчивые к загрязнениям – но при этом мягкие и «дышащие», комфортные для носки. В прошлой жизни он такие встречал только среди дорогущей спортивной одежды. Практичность необыкновенная – первый комплект, полученный им при постановке на довольствие, служил уже несколько лет и абсолютно ничем не отличался от нового. Ещё один аспект местной лаконичности быта – для жизни вполне достаточно иметь два комплекта одежды. Один на тебе, другой – в стирке. Ну и куртка ещё – но при мягком, без сезонности, здешнем климате она требовалась нечасто. А главное – никто не ожидает, что на работу ты придёшь в какой-то специальной одежде, типа костюма с галстуком. Женщины, конечно, минимумом не ограничивались, но как живут женщины, лучше в подробностях не интересоваться.
Артём прошёл длинным коридором, потом по переходу между корпусами – благодаря компактности местной застройки можно было не выходить на улицу неделями – и оказался сразу на работе. Насколько он помнил из отрывочных объяснений Ольги, почти всё капитальное жильё здесь когда-то было одним научно-исследовательским комплексом, включавшим в себя лаборатории, производственные цеха, общежития для персонала, подсобные помещения и кучу всего остального. Дом-город с собственной инфраструктурой, даже с экспериментальным ядерным реактором небольшой мощности для питания Установки. После Катастрофы и Тёмных дней восстановили не всё – численность населения сократилась, и многие помещения пустуют до сих пор, – но сами бетонные здания пережили все неприятности и стали несущим каркасом здешнего быта.
Артём спустился на лифте в подвал – лаборатория Воронцова была из числа «старых», базовых, в которых велись исследования ещё до Катастрофы, поэтому располагалась недалеко от Установки.
– Доброе утро, Сергей Яковлевич, – поздоровался он, надевая халат.
– Утро? – усомнился профессор. – А, ну, может быть. Здравствуйте, Артём.
Как и все Первые, кто начал принимать Вещество на исходе естественного жизненного срока, профессор выглядел человеком без возраста. «Старость отпустила, но молодость не приняла», – шутил он. Гладкое лицо без морщин, волосы без седины, никаких признаков дряхлости в теле – и всё же при беглом взгляде производит впечатление пожилого человека. То ли что-то в глазах, то ли в осторожной моторике тела. Работать с ним было сложно по причине его скверного характера, но Артём вскоре привык. Сначала чувствовал себя подопытным хомячком, а не сотрудником, но потом проникся задачей, втянулся и понял, что его принимают в качестве коллеги. Умение использовать любой кадровый ресурс оптимально и на всю катушку – ещё один уникальный скилл руководства Коммуны. Кроме того, почти сразу выяснилось, что лаборатория, где он востребован как носитель требующего развития таланта мультипространственного оператора, отнюдь не главная его работа в новом мире.
Неожиданно он пригодился как бывший радиоинженер, которым являлся по образованию. Преемственность советского преподавания оказалась настолько велика, что полученные на первых курсах знания о ламповой и дискретной схемотехнике вполне органично всплыли при работе со здешним оборудованием, представляющим собой удивительно эклектичный сплав базовых технологий 50-х с напластованием заимствованных решений более поздних эпох. Поработав с этим, Артём понял значимость проведённой Ольгой операции – утащив между делом хоть и небольшой, но современный город, она обеспечила общину электроникой, которой там набит каждый дом. Огромная БЭСМ, на которой здесь вели все расчёты изначально, давно доработала свой срок. К моменту появления Артёма вычислительный центр представлял собой причудливый винегрет из обретённых неведомыми путями вычислительных мощностей – от антикварных советских ДВК-шек до древнего, размером с два кирпича, ноутбука. Всё это каким-то немыслимым колдунством местных спецов работало в единой сети и решало задачи удивительной для таких ресурсов масштабности. Для не избалованных гигагерцами и гигабайтами программистов и такой уровень железа неплох. Но это старьё, к сожалению, часто ломалось и испытывало серьёзнейший дефицит запасных частей. В результате Артём постепенно стал уникальным специалистом: интегратором современной техники в инфраструктуру возрастом полвека. Отработав очередной этап обучения в лаборатории Воронцова, он бежал в радиоцентр, помогать собирать нечто вроде системы сотовой связи, покрывающей местные нужды в оперативной коммуникации. До сих пор она работала через коротковолновые рации размером с чемодан. В городе, оказавшемся чуть ли не на обратной стороне здешнего «глобуса», выгребали телефоны, демонтировали базовые станции, разбирали серверные и сматывали оптику… Периодически Артём мотался туда, перемещаясь то на безрельсовом паровом поезде, когда-то так удивившем их с Борухом, то на небольших старых грузовичках с фанерными кабинами без боковых стекол. Часть из них бегала на каком-то биогорючем – получаемом из растительного сырья топливе – и пахла картошкой фри, часть была переделана на электротягу и пахла тайной.
Одна из досадных сторон здешней жизни – монтируя системы двадцать первого века в интерьерах середины двадцатого, Артём точно знал, что в Коммуне есть технологии на несколько ступеней выше. Однако никакой информации о них получить было нельзя. Ламповые радиостанции, установленные на фермах, дребезжащие деревянными бортами «полуторки», эбонитовые ручки пакетных переключателей, тускловатые лампы накаливания… И небольшой цилиндрик УИна – фантастического инструмента, выданного ему для демонтажа и монтажа оборудования. Устройство размером с электрический фонарик разрезало регулируемым лучом всё, что угодно, без всякого внешнего эффекта переводя в ничто любой материал, и так же бесшовно соединяло его в другом режиме. Им можно было порезать дольками алмаз или колбасу, а потом соединить алмаз с колбасой в неразделимый на молекулярном уровне бутерброд. Как это сочетается? Загадка.
Особо размышлять над этим Артёму было некогда – он помогал собирать новый вычислительный центр, консультировал инженеров по современной схемотехнике и архитектуре вычислительных систем, просиживал ночами над учебниками и файлами, потому что собственных знаний категорически не хватало. В общем, был занят так, что на посторонние мысли времени не оставалось, и это новое чувство – собственной востребованности – ему нравилось.