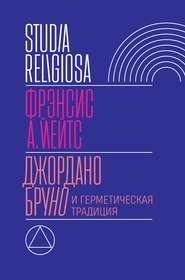
Полная версия:
Джордано Бруно и герметическая традиция
Итак, фичиновская естественная магия, или магия мирового духа, не ставя себе цели более высокой, чем планеты, и в частности Солнце, имела тем не менее ангелическое продолжение, простирающееся выше и за нее. Однако для Фичино единственным способом обращения к ангелам оставалась молитва – иных попыток установления связи с ними он не предпринимал (во всяком случае, по моему мнению). Не пытался он и стать чудотворцем, обратившись за помощью к Силам, движущим небеса (см. вышеприведенную иерархию).
Ангельский мир по ту сторону звезд – представление, конечно, вполне типичное для христианской мысли. К примеру, шекспировский Лоренцо весьма изысканно выразил эту идею в музыкальных терминах:
Sit, Jessica. Look how the floor of heavenIs thick inlaid with patines of bright gold:There’s not the smallest orb which thou beholdstBut in his motion like an angel sings,Still quiring to the young-eyed cherubins…[Сядь, Джессика. Взгляни, как небосводВесь выложен кружками золотыми;И самый малый, если посмотреть,Поет в своем движенье, точно ангел,И вторит юнооким херувимам.]Пер. Т. Щепкиной-Куперник [289]Созерцая ночное небо, Лоренцо размышляет над тем удивительным фактом, что гармония сфер связана с небесными хорами ангельских чинов.
Если в случае с Фичино Псевдо-Дионисий оказал огромное влияние на синтез неоплатонизма и христианства, то не меньшую роль сыграл он и в попытке Пико построить мост между еврейской кабалой и христианством. Трактат Пико «Гептапл» («Heptaplus») – кабалистический комментарий к Книге Бытия – пестрит ссылками на Дионисия.
В этом сочинении Пико часто упоминает о «трех мирах», как их понимали кабалисты: кабалисты разделили вселенную на мир элементов, или земной мир, небесный мир, или мир звезд, и наднебесный мир. Три мира соединяются друг с другом непрерывными взаимовлияниями. Пико без всяких затруднений сумел связать эту концепцию как с неоплатонизмом, так и с мистицизмом Псевдо-Дионисия.
Связь с неоплатонизмом была установлена благодаря отождествлению ангельского мира с тем, что философы называли умопостигаемым миром (такое отождествление мы находим и у Фичино). Высший из трех миров называется «у богословов ангельским, а у философов – умопостигаемым», за ним идет небесный мир и последний – мир подлунный, где обитаем мы[290]. Затем Пико переходит к аналогии с тремя кабалистическими мирами, символически представленными Моисеем в акте разделения скрижали на три части[291]. Третью часть «Гептапла» Пико посвящает сравнению учения «древних евреев» с учением Дионисия. Он повторяет здесь томистские дефиниции функций разных ступеней иерархии и соотносит три триады с тремя мирами следующим образом:
Мы читаем (в кабалистическом комментарии к книге Бытия), что твердь помещается среди вод. Таким образом нам дается символическое обозначение трех ангельских иерархий… Первая и последняя (иерархия) соответствуют водам – тем, которые над твердью и под нею. Область между водами есть твердь. Поразмыслив, мы поймем, что все это прекрасным образом соответствует учению Дионисия: верхняя иерархия, которая, как он говорит, предается созерцанию, обозначена водами, находящимися над твердью, – т. е. выше какого бы то ни было действия, небесного или земного. Эта иерархия восхваляет Бога немолчной музыкой. Средней иерархии, отправляющей небесные должности, весьма уместно соответствует твердь, т. е. сами небеса. Последняя иерархия, хотя по природе своей она выше всего материального и выше небес, принимает участие в делах, происходящих под небесами, ибо к этой ступени принадлежат Начала, Архангелы и Ангелы, чьи заботы целиком лежат в подлунном мире: Начала ведают государствами, королями и князьями; Архангелы – таинствами и священнодействиями; Ангелы ведают частными делами, и каждый из них покровительствует отдельному человеку. Таким образом, есть все основания обозначить последнюю иерархию водами, находящимися под твердью, поскольку в их ведении вещи преходящие и тленные…[292]
Поставив таким образом первую иерархию в соответствие наднебесному миру (воды над твердью), вторую иерархию – небесному миру (твердь) и третью – миру элементов, или подлунному миру (воды под твердью), Пико «астрологизирует» небесную иерархию даже более последовательно, чем Фичино: ведь он приписывает каждой иерархии особое влияние в одной из трех областей. У самого Псевдо-Дионисия нет и следа такой астрологизации. У него все девять чинов изображают Троицу и на всех ступенях их единственная функция – ее прославление.
Фичиновскую «иерархизацию» различных степеней света можно сравнить с иерархией теплового излучения, предложенной Пико. «У нас теплота (calor) есть качество элементов; на небесах (т. е. среди звезд) она выступает как тепловая сила, в ангельском уме – как идея теплоты (calor)»[293].
Вполне возможно, что, как предположил Э. Гарэн[294], в предисловии к третьей книге «Гептапла»[295] – где Пико таинственно намекает на какие‐то более глубокие связи между учением Дионисия и учением «древних евреев», – он имеет в виду соответствие между чинами Дионисия и сефирот. У сефирот тоже существует некая градация: высшие из них связаны исключительно с созерцанием неизреченных тайн, в то время как низшие, судя по всему, принимают участие в людских делах. Сефирот участвуют в круговом движении (свое понимание которого Пико излагает в 66‐м кабалистическом заключении). Благодаря этому движению устанавливается связь между первым и последним из сефирот. Движение той же природы заключено и в кажущейся византийской неподвижности ангельских чинов, ибо все вместе они изображают Троицу. Насколько я могу судить, Пико нигде не говорит о корреляции между сефирот и ангельскими чинами, хотя более поздней герметико-кабалистической традиции такое сопоставление, несомненно, известно. Например, в одной из работ Роберта Фладда есть диаграмма, где десять кабалистических имен Бога, десять сефирот (их имена написаны по вертикали) и десять сфер сопоставляются с девятью ангельскими чинами. Количество ангельских чинов доведено до искомой десятки добавлением к ним мировой души (anima mundi). Вполне возможно, что Пико одобрил бы сопоставления такого типа, хотя мы не можем быть уверены, что он бы предложил именно этот вариант. На другой диаграмме Фладд соотносит чины и сферы с двадцатью двумя буквами еврейского алфавита.
Разница между ангелическо-космологическими построениями Фичино и Пико состоит в том, что Пико может, пользуясь инструментарием практической кабалы, обращаться за помощью к ангельскому миру, в то время как Фичино лишен такой возможности. Ангелы кабалы были для Пико по сути своей тождественны мириадам ангелов Псевдо-Дионисия[296]. Разница заключалась лишь в том, что кабала давала больше информации о самих ангелах и возможностях вступить с ними в контакт.
Взглянув на фронтиспис сочинения, опубликованного в 1646 году иезуитом Афанасием Кирхером, одним из самых известных последователей герметико-кабалистической традиции, основанной Пико, мы увидим Имя на еврейском языке, окруженное лучами и облаками, в которых различимы сонмы ангелов. Под ними находится небесный мир с зодиаком, а ниже – подлунный мир, которым правит эрцгерцог Фердинанд III. Основные концепции, описанные в этой главе, не изменились: иллюстрация демонстрирует, что барокко с его славой лучей и роями ангелов отлично уживалось с этими концепциями.
Другим необыкновенно важным для ренессансного синтеза аспектом учения Псевдо-Дионисия было его апофатическое богословие. Наряду с позитивным очерком свойств Божества (в концепции девяти ангельских чинов и их отношения к Троице) Дионисий намечает «негативный», апофатический путь. Для описания Бога в Его актуальной сущности слов не существует; в своей истинной реальности Он не имеет имен. Поэтому в лучшем случае к Нему приложимы негативные дефиниции, некий мрак: Он не благо, не красота, не истина – в том смысле, что Его нельзя отождествить ни с одним из значений, вкладываемых нами в эти понятия. Апофатическая ветвь мистицизма Дионисия принесла со временем прекрасные духовные плоды. Среди них, например, сочинение «Покров незнания» («Cloud of Unknowing»), написанное на английском языке в XIV веке. Неизвестный автор, следуя «Скрытому Божеству Дионисия»[297], окутывается «покровом незнания» и, влекомый слепыми порывами любви[298], направляется к Сокровенному Богу (Deus Absconditus). Ученый и философ Николай Кузанский находил «ученое неведение» Дионисия единственным приемлемым решением, единственным способом приблизиться к божественному, – чему посвящен его знаменитый труд «Об ученом неведении» («De docta ignorantia»). Фичино получил представление об апофатическом богословии, т. е. о самой идее «негативного» подхода, не только от Дионисия, но и от Николая Кузанского, чьим горячим поклонником он всегда был, считая его одним из важнейших звеньев в великой цепи платоников[299].
Фичино заново перевел трактат Дионисия «О божественных именах», содержащий множество пассажей об апофатическом богословии и о том, что Бог – по ту сторону любого знания. Бог, говорит Дионисий, выше Благости (Bonitas), выше Сущности (Essentia), выше Жизни (Vita), выше Истины (Veritas), выше всех прочих своих имен, т. е. в определенном смысле Он не имеет имени. Однако, с другой стороны, у Него бесчисленное множество имен, ибо он есть и Благость, и Сущность, и Жизнь, и Истина, и так во всем[300]. Фичино таким образом комментирует этот пассаж:
Эти загадочные высказывания Диониса находят подтверждение и у Гермеса Триждывеличайшего, который утверждает, что Бог есть ничто и одновременно – все. Что у Бога нет имени и что любое имя есть имя Бога[301].
Он имеет в виду то место в трактате «Асклепий», где Трисмегист говорит:
Не может быть, чтобы творец величия Вселенной, отец и господь всего сущего обозначался одним или даже множеством имен. У бога нет имени или, скорее, любое имя есть его имя, ибо он одновременно Единое и Все, так что можно либо обозначить все сущее его именем, либо дать ему имена всего сущего… Его воля безраздельно блага, и благость (bonitas), сущая во всем, исходит от божества[302].
Автор герметического трактата действительно очень близок здесь самому духу представлений сирийского монаха. Неудивительно, что Фичино был поражен тем, что идея св. Дионисия «Безымянность и все же Всеименность» находит подтверждение у Гермеса Трисмегиста.
Еврейскому кабалистическому мистицизму также присущи идеи апофатического богословия: ведь Энсоф, из которого возникают десять сефирот, есть Ничто, безымянный, неведомый Сокровенный Бог (Deus Absconditus), и самый высший и недоступный из сефирот, Кетер, или венец, исчезает в Ничто[303]. Так что и здесь, несмотря на то что десять сефирот вроде бы суть десять имен, наивысшее есть Ничто, или Безымянное.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Festugiere, I, p. 67 ff.
2
Cicero, De natura deorum, III, 22 [пер. М. И. Рижского, в: Цицерон. Философские трактаты. М., 1985. С. 185].
3
С. Н., I, p. V (предисловие А. Д. Нока); Festugiere, III, p. 1.
4
Как пишет Блумфилд, «по вопросу о египетских элементах в герметизме наука кидалась из одной крайности в другую» (см.: M. W. Bloomfield, The Seven Deadly Sins. Michigan, 1952, p. 342 и приведенную там библиографию). Фестюжьер не признает почти никаких египетских влияний на герметические тексты и сосредотачивается исключительно на влияниях греческих. Осторожное резюме Блумфилда (op. cit., p. 46) звучит так: «Эти тексты созданы главным образом египетскими неоплатониками, находившимися под сильным влиянием стоицизма, иудаизма, персидской теологии, возможно, собственно, египетских верований и, разумеется, Платона, прежде всего – „Тимея“. Они, видимо, и служили священным писанием египетской мистериальной религии, в основных чертах восходящей ко второму веку до н. э.». Теорию мистериального культа критикует Фестюжьер (Festugiere, I, p. 81 ff).
5
Согласно Ноку и Фестюжьеру, см.: С. Н., loc. cit.; Festugiere, I, p. 85 ff.
6
Неверная атрибуция восходит к IX в.; см.: С. Н., II, p. 259; о коптском переводе см. ниже, гл. 21, прим. 2 на с. 481.
7
Неизвестно, когда Герметический свод был сведен воедино, но уже в XI в. в этом виде его знал Пселл; см.: С. Н., I, pр. XLVII–L (предисловие Нока).
8
Festugiere, I, p. 1 ff.
9
Ibid., I, p. 14 ff.
10
Ibid., I, p. 19 ff.
11
Ibid., I, p. 46 ff.
12
С. H., II, p. 328.
13
Lactantius, Divinae Institutiones, I, vi; английский перевод У. Флетчера в: The Works of Lactantius. Edinburgh, 1871, I, p. 15.
14
О цитатах из герметических текстов у Лактанция см.: С. Н., I, p. xxxviii; pр. 259, 276–277.
15
Lactantius, De ira Dei; перевод Флетчера, II, p. 23.
16
Lactantius, Div. Inst., IV, vi; перевод Флетчера, I, p. 220. Лактанций цитирует «Асклепия», 8 (C. H., II, p. 304).
17
См.: С. Н., II, pp. 276–277.
18
См. ниже, с. 36.
19
Lactantius, Div. Inst., IV, xi; перевод Флетчера, I, p. 226.
20
Lactantius, Div Inst., I, vi; IV, vi; VIII, xviii: перевод Флетчера, I, p. 14–19; 220–222; 468–469. Древность самих Сивиллиных оракулов не более подлинна, чем древность герметических текстов. Подложные «прорицания Сивилл» еврейского происхождения появились в трудноопределимое время и позже подверглись христианской обработке. Трудно решить, что именно в Сивилинных оракулах восходит к еврейским источникам, а что – к христианским. См.: M. J. Lagrange, Le judaisme avant Jesus-Christ, Paris, 1931, pp. 505–511; A. Puech, Histoire de la litterature grecque chretienne. Paris, 1928, II, pp. 603–615; и примечание G. Bardy в: Œuvres de Saint-Augustin, Desclee de Brouwer, vol. 36, 1960, pp. 755–759.
21
Lactantius, Div. Inst., II, xv.
22
Augustinus, De civitate Dei, VIII, XXIII–XXVI [«О граде Божием» цитируется по изданию: Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Книга 10. Творения блаженного Августина Епископа Иппонийского, часть 3. Киев, 1906 (=Брюссель, 1974)]. Августин цитирует «Асклепия», 23, 24, 37; см.: С. Н., II, p. 325 ff.
23
C. H., II, p. 259.
24
De civ. Dei, VIII, xiii – xxii.
25
Это название английского перевода, сделанного Уильямом Адлингтоном в XVI в.
26
De civ. Dei, VIII, xxiii. Цитируется по английскому переводу Джона Хили [John Healey]. Цитата из Рим. I, xxi.
27
Исайя, XIX, i.
28
См. ниже, с. 199, 202.
29
De civ. Dei, XVIII, xxxix; перевод Дж. Хили.
30
См.: Testimonia [Свидетельства], собранные в: Scott, vol. I.
31
Clem. Alex., Stromata, VI, iv, xxxv – xxxviii. Cp.: Festugiere, I. p. 75 ff.
32
Климент не упоминает герметических текстов, из чего Скотт (I, pp. 87–90) заключает, что либо он их не знал, либо знал, что они не такие уж древние.
33
Рукопись, по которой переводил Фичино, находится в Библиотеке св. Лаврентия (Laurentianus, LXXI 33(A)) (см.: Kristeller, Studies, p. 223); одиннадцатая глава этой книги в отредактированной форме воспроизводит статью, которую Кристеллер опубликовал в 1938 г. и которая была пионерским исследованием сделанного Фичино перевода Герметического свода. Все исследователи ренессансного герметизма очень многим обязаны этой работе Кристеллера.
34
Посвящение Лоренцо Медичи при составленных Фичино конспекте Плотина и комментариях к нему; Ficino, p. 1537.
35
«Mercurium paucis mensibus ео (Козимо) uiuente peregi. Platonem tunc etiam sum aggressus» [«Меркурия я закончил за несколько месяцев при его (Козимо) жизни. Затем уже приступил к Платону»]; Ficino, loc. cit. Ср.: Kristeller, Studies, p. 223; A. Marcel, Marsile Ficin, Paris, 1958, p. 255 ff.
36
Чтобы стал понятен этот энтузиазм, требуется история средневекового и ренессансного (до Фичино) герметизма. Замечания о влиянии «Асклепия» в Средние века см. в: С. Н., II, pp. 267–275. Интерес к герметизму (основанный главным образом на «Асклепии» и псевдогерметической «Книге Гермеса Меркурия Тройственного о шести Первоначалах» («Liber Hermeus Mercurii Triplicis de VI rerum principiis») – одна из примет Возрождения XII в. О влиянии этих сочинений на Гуго Сен-Викторского см.: Didascalicon, transl. by J. Taylor, Columbia, 1961, p. 19 ff. и примечания. В Средние века, конечно, были известны многие магические, алхимические и астрологические тексты, циркулировавшие под именем Гермеса, см. ниже, с. 63.
37
Предисловие Фичино к «Поймандру» (Ficino, p. 1836).
38
Это объяснение эпитета «Триждывеличайший» придумано в Средние века; см. ниже, с. 63–64.
39
Ficino, loc. cit.
40
В «Платоновской теологии» («Theologia Platonica») Фичино приводит такую генеалогию: (1) Зороастр, (2) Меркурий Трисмегист, (3) Орфей, (4) Аглаофем, (5) Пифагор, (6) Платон (Ficino, p. 386). В предисловии к комментарию на Плотина Фичино говорит, что божественная теология началась одновременно у персов с Зороастра и у египтян с Меркурия; затем перешла к Орфею, Аглаофему, Пифагору, Платону (ibid., p. 1537). Это отнесение Зороастра и Гермеса к одному времени позволяет согласовать генеалогию Фичино с генеалогией Гемиста Плифона, для которого древнейший источник мудрости – Зороастр, а затем идут хотя и иные, чем у Фичино, посредники, но, как и у него, ведущие в итоге к Пифагору и Платону. См. отрывки из комментария Плифона на «Законы» Платона и из его ответа Схоларию в: F. Masai, Plethon et le platonisme de Mistra, Paris, 1956, pp. 136, 138. Ценное исследование генеалогий мудрости у Фичино – D. P. Walker, «The Prisca Theologia in France», J. W. C. I., 1954 (XVII), pp. 204–259.
41
Vita di Ficino [Жизнь Фичино], опубликованная по рукописи и датируемая ок. 1591 г. в: Marcel, op. cit., p. 716.
42
В трактате о христианской религии (De Christ, rel., XXV) Фичино помещает Гермеса рядом с Сивиллами – поскольку он тоже возвещал пришествие Христа (Ficino, p. 29).
43
Scott, I, p. 31. Конец XVI в. – слишком ранняя дата для конца этой иллюзии; см. ниже, глава XXI.
44
Kristeller, Studies, p. 223 ff; Suppl. Fic., I, pp. LVII–LVIII, CXXIX–CXXXI.
45
Scott, I, p. 31 ff., и см. ниже, с. 200, 209–210, 212
46
Плифон твердо верил в глубочайшую древность этих оракулов (Masai, op. cit., pp. 136, 137, 375 etc.), которые он считал тем источником зороастрийской мудрости, поток откуда достиг в конце концов Платона. Т. е. перед нами точная аналогия отношению Фичино к герметическим текстам. Фичино было тем легче смешать воды этих двух первоисточников, что они действительно возникли в одно время и в схожей атмосфере. О герметических текстах Нок говорит: «Как и в „Халдейских оракулах“, сочинении эпохи Марка Аврелия, в них обнаруживается стиль мышления или, точнее, – стиль обращения с мыслью, аналогичный какой‐то магической процедуре…» (С. Н., I, p. VII). «Халдейские оракулы» были изданы Кроллем: W. Kroll, De oraculis chaldaicis in Breslauer Philolog. Abhandl, VII (1894), pp. 1–76.
47
Об орфизме в эпоху Ренессанса см.: D. P. Walker, «Orpheus the Theologian and the Renaissance Platonists», J. W. C. I., 1953 (XVI), pp. 100–120.
48
Незачем говорить, что фундаментальными трудами на эту тему остаются работы Рейценштайна, особенно: Reitzenstein, «Poimandres» (Leipzig, 1904). Учтены предисловия и критический аппарат В. Скотта в его издании герметических текстов, а также предисловия и примечания в издании Нока и Фестюжьера. Другие ценные работы: A. D. Nock, Conversion, Oxford, 1933; С. Н. Dodd, The Bible and the Greeks, London, 1935; R. Mc. L. Wilson, The Gnostic Problem, London, 1958.
49
Общепризнано, что у первого трактата Герметического свода – «Поймандр» – есть еврейские черты, однако относительно того, в какой мере его автор находился под влиянием эллинизированного иудаизма, мнения расходятся.
50
Большинство ученых не находят в герметических текстах почти никаких следов христианского влияния. Додд, усматривающий в них прежде всего еврейское влияние, полагает, что «те черты Hermetica, в которых можно предположить влияние христианства, обязаны своим происхождением эллинистически-иудейским идеям, лежащим в основе как герметической литературы, так и Нового Завета» (op. cit., p. xv, прим.).
51
Festugiere, I, p. 84; II, pp. x – xi (классификация отдельных текстов по принадлежности к оптимистическому или пессимистическому гнозису дана в примечании на с. XI).
52
Читатель должен иметь в виду, что это не перевод, а конспект, в который местами включены прямые цитаты. При составлении этого конспекта использовался французский перевод Фестюжьера и латинский – Фичино. К сожалению, английский перевод Скотта непригоден для использования ввиду слишком вольного обращения переводчика с текстом оригинала [Русское изложение герметических текстов основано на переводе К. Богуцкого].
53
С. Н., I, pp. 7–19; Ficino, pp. 1837–1839.
54
«Ego autem Pimandri beneficium inscripsi penetralibus animi…» [«A я записал благодеяние Поймандра в глубинах души…»] (перевод Фичино, Ficino, p. 1839).
55
Ficino, loc. cit.
56
Theologia Platonica, VIII, I (Ficino, p. 400). Сведения об Артапане Фичино, вероятно, почерпнул у Евсевия: Eus., De praeparatione evangelicae, IX, 27, 6. Артапан был эллинизированным евреем; см.: Festugiere, I, pp. 70, 384.
57
Фестюжьер считает, что стремление человека участвовать в творении само по себе не было грехом, ибо на это имелось соизволение Отца, но тем не менее рассматривает вхождение человека сразу вслед за этим в демиургическую сферу Семи Управителей как его наказание, как начало падения в материальный мир (Revelation, III, p. 87 ff). Додд дает сходную интерпретацию (op. cit., p. 153). Оба автора подчеркивают различие между изначально божественным человеком у Гермеса и человеком у Моисея, который сотворен из земного праха. У Гермеса падение человека больше напоминает падение Люцифера, чем Адама.
58
См. ниже, с. 49–50.
59
С. Н., pp. 200–209; Ficino, pp. 1854–1856.
60
Festugiere, III, pp. 90, 154, 156, etc. См. также ценные соображения об этом трактате, а также о связи пороков со знаками зодиака и планетами в: M. W. Bloomfield, The Seven Deadly Sins, Michigan, 1952, p. 48 ff.
61
О Властях см.: Festugiere, III, p. 153 ff.
62
Ficino, p. 1856.
63
Festugiere, IV, p. 253.
64
Иоанн, I, iv, xii.
65
C. H., I, pp. 147–157; Ficino, pp. 1850–1852.
66
C. H., I, pp. 174–183; Ficino, pp. 1852–1854.
67
C. H., II, pp. 296–355.



