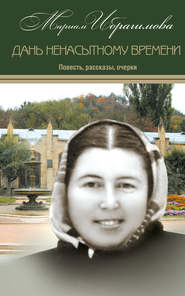скачать книгу бесплатно
Разводящий сделал пометки в списках, затем сказал:
– Нумерация бараков начинается вот от этого здания больницы, – и, протянув руку, указал пальцем в сторону приземистого двухэтажного деревянного здания.
Мы с Иваном отделились от группы этапированных и направились в сторону, где должен был находиться барак № 7.
В небольшом коридоре, не отделённом от длинного барака, мы остановились, вглядываясь в полумрак низкого помещения. Вдоль стен в три яруса были установлены деревянные нары. Посреди барака стоял длинный – во весь барак – узкий стол с такими же длинными деревянными скамьями.
В небольших промежутках между нарами виделись маленькие, зарешёченные оконца. Освещался огромный барак двумя лампочками.
От разбросанного на нарах различного барахла и раскиданных на полу кирзовых сапог, валенок и прочего вид барака производил удручающее впечатление, а запах дыма, смешанного с испарениями, исходившими от десятков людей, действовал одуряющее на вошедшего со двора.
Увидев нас, стоящих в нерешительности, один из зеков с рыженькими усиками и узким лисьим лицом, соскользнув с ближайших нар, схватил с пола какую-то тряпку, стряхнул её и, расстелив перед нами, воскликнул со слащавой улыбочкой, отвесив низкий поклон:
– Добро пожаловать, господа из пятьдесят восьмой статьи – если я не ошибаюсь…
– Уголовник, хамлюга, – подумал я и, поддев носком сапога тряпку, швырнул её в сторону обладателя лисьей мордочки.
– Ого, видать калачик не тёртый, – послышался чей-то голос с нижних нар.
Не обращая ни на кого внимания, отыскал тут же поблизости пустые нары, подошёл к ним, кинул вещмешок и присел. То же самое сделал Иван Семёнович. Так мы просидели некоторое время, усталые, не реагирующие на любопытные взгляды зеков, устало развалившихся после работы и ужина на своих матрасах, набитых соломой.
– Ваня, давай устраивайся здесь, а я пойду вон на то свободное место, – сказал я, кивнув головою на топчан, стоявший возле входа.
– Нет, нет, ни в коем случае, то место моё, я ведь сам напросился, – стал возмущаться Иван. Но я удержал его, убедив, что мне будет лучше в прохладном месте.
Когда я со своими вещмешком направился было к топчану, здоровенный, худой верзила, лежавший, закинув руки за голову на одной из нар нижнего ряда, шевельнув длинной ногой в кирзовом сапоге, что-то прохрипел, глядя злющими глазами из-под полуприкрытых тяжёлых красных век.
Я глянул на него с презрением и отвернулся. Но когда я проходил мимо его нар, он рывком скользнул вперёд и ударил меня носком сапога в бок.
– Вы что хамите, молодой человек! – возмущённо воскликнул Иван Семёнович, а я швырнул свою ношу на пол, схватил обеими руками ту самую ногу, которую верзила не успел отдёрнуть и со всего маху сбросил его с нар на пол.
– Ого! Ты гля! Видать фартовый антилягент, «Шкелета» положил на пол, – послышались грубые голоса.
Я, стараясь не выдать внутреннего волнения, стоял спокойно, выжидая, пока поднимется «Шкелет».
Широкостный, истощённый, с выдающимися скулами, тяжёлой нижней челюстью, он на самом деле казался походившим на скелет гигантом.
Неторопливо поднявшись с пола, он стал, растопырив ноги, потёр ладонь о ладонь, медленно засучил рукава грязной холщовой рубахи, затем чуть прогнулся вперёд, протянул в мою сторону длинные руки со скрюченными, как у стариков, узловатыми пальцами.
Не шевелясь, продолжил я стоять, разглядывая движения противника, чтобы половчее отразить его нападение.
Кто-то из дружков, видя, что «Шкелет» в нерешительности сделал шаг вправо, затем влево, не выдержав, воскликнул:
– Медленно шевелишь костями.
Я не испугался, видя перед собой неуклюжего истощённого гиганта. Единственное, чего я боялся, это нападения его дружков сзади.
Но уголовники, как большинство тупых бездумных людей, любящих острые ощущения, вызываемые силовыми и кровавыми зрелищами, приняли напряжённые позы наблюдателей.
Наконец «Шкелет» качнулся в мою сторону и сделал попытку схватить меня за горло.
Я мгновенно вывернулся и молниеносным рывком нанёс удар головой в его лицо. Следующим движением, схватив руку вывернул её за спину и когда он развернулся боком в мою сторону сильным ударом носка по Ахиллесову сухожилию той ноги, на которую он опирался, свалил его на пол.
Всё это произошло в какие-то доли минуты.
Охотников заступаться за «Шкелета», накинуться на меня не нашлось.
Я убеждён, что для людей ограниченных, не приклоняющихся перед силой ума, самым убедительным авторитетом является физическая сила, которая, к счастью, во мне ещё не была утрачена каторжным трудом.
А тут ещё и Иван Семёнович, выступив вперёд, торжественно, в центр барака, воскликнул: – Магомед-Гирей – человек с Кавказа, – словно давал тем самым понять, что со мной лучше не связываться.
Однако сам Иван Семёнович порядком струсил, но, несмотря на это, как только я уложил второй раз «Шкелета» на пол и снова стал в ожидании, пока противник поднимется, он, что называется, обеспечил безопасность тыла, встав спиной к моей спине.
«Шкелет» «капитулировал». Я поднял свой мешок, пошёл к топчану. Иван Семёнович последовал за мной. Он не отходил от меня ни на шаг. В первую ночь не сомкнул глаз, боясь, что «Шкелет» или кто-либо из других уголовников нападёт на меня.
На вторую ночь я запретил Ивану Семёновичу караулить меня. Нехотя он ушёл, когда в бараке погасили свет. На утро я не обнаружил своего вещевого мешка.
Нас зачислили в бригаду тягачей в угольную шахту. Узенькая колея, вагонетки. Норма для всех одна. Мне, ещё сильному физически, это удавалось, а вот Ивану Семёновичу было очень трудно.
А дело было поставлено так, что если не выработаешь норму, значит, не получишь полную пайку хлеба. А если не поешь, силы вовсе иссякнут. Мне приходилось толкать вагонетки свои, а потом помогать Ивану Семёновичу, ибо я видел, как он выбивался из сил, но не подает виду.
Вскоре стал падать от усталости и я.
Тогда решил обратиться с просьбой к «Тузу». Так называли повара арестантской кухни. Он тоже был из наших, только сидел за растрату.
Меня отталкивала эта категория арестантов – вёртких, лживых, наглых, для которых ничего не значило стянуть что-либо не только у «быдла», но и у своего.
Но «Туз» отличался от них своей гордостью, надменным видом, одет он был лучше остальных – ну, в общем, аристократ среди воров. Он с презрением смотрел на «щипачей» (карманников), «скокорей» (домушников). Почтительно относился только к медвежатникам и политическим.
Как я узнал позже, это был крупный аферист, который на свободе ворочал тысячами. Ну, скажем, ему становилось известно, что какой-то цеховик, артельщик сделал на оборотах крупную сумму.
Обычно дельцы такого разряда деньги в сберкассе не хранят, а стараются обратить часть их в ценности, а остальные держат при себе. Наколов такого «птенчика», «Туз» посылает к нему «уполномоченных», которые предупреждают, что «дело пахнет керосином».
«Птенчик» начинает «трепыхать», «чирикать», «кладёт» «уполномоченным», которые «обещает помочь», «на лапу». А через некоторое время строго конфиденциально, на нейтральной зоне происходит встреча «Туза» с «птенчиком».
«Туз», разодетый в форму работника НКВД, раскрывает перед «птенчиком» солидную папку с донесениями и показаниями «свидетелей», имеющих отношение к подельникам, участвовавшим в оборотах, и даёт слово в присутствии «птенчика» сжечь «дело», если он выложит означенную сумму, которую ему – «Тузу» – надо будет разделить с начальством.
«Птенчик» облегчённо вздыхает, когда в камине одной из загородных дач «дутое дело», объятое пламенем, превращается в пепел.
«Туз» – это фигура, прожигавшая жизнь. Лучшие курорты страны, фешенебельные гостиницы, рестораны, роскошные квартиры, проститутки высшего класса – всё это этапы, пройденные им.
Даже в этом сыром бараке у «Туза» всё самое лучшее: начиная с перстня – правда, серебряного – и кончая овчинным тулупом. У него, как у всех, одна мечта – побыстрее отбыть срок и предаться прежней жизни, легко делая деньги. Он не унывает, потому что верен себе.
Он не только горд, самоуверен – где-то в нём проявляется и «благородство». К тому же и манеры у него «аристократические», и речь – хоть и не терпящая возражений, но мягкая. Он никогда не выражается, не употребляет в словесных излияниях площадную брань, даже когда бывает «на взводе».
С ним считаются не только «урки», но к нему хорошо относится даже лагерное начальство – потому что он аферист, которого нельзя сравнить даже с блатным авторитетом.
К счастью, упрашивать «Туза» не пришлось.
Я подошёл к нему и стал говорить: – так, мол, и так, пропадёт хороший человек из-за физической слабости, помоги, мол, устроить его кухонным рабочим.
«Туз» подумал с минутку и ответил: – не обещаю, но постараюсь для тебя, как для земляка.
И постарался. Через несколько дней мой Ванюша чистил картофель и драил полы в столовой и в подсобках.
Жить нам стало значительно легче. Иван Семёнович ухитрялся приносить несколько варёных картофелин или кусок лепешки, испечённой с пшённой крупы.
Иван Семёнович, как уже говорил, по натуре был не только общительным, но и очень любопытным человеком.
По вечерам он иногда присаживался к группе играющих в самодельные карты и мог часами наблюдать за их игрой, слушая споры, а иногда, в спорных случаях, выступал у них в роли арбитра, и это у него получалось. С его мнением считались, потому что оно было объективным.
Побывав в обществе урок, он непременно производил записи на полосках газетной бумаги огрызком карандаша.
Ты что это, друг, для будущих сочинений пометки делаешь? – спрашивал я.
– Да нет, – отвечал Иван Семёнович, – это я записываю жаргон, неологизмы. Вот, например: «толкать порожняк», «скачуха», «фуфлыжник», «мастырка», «баландер» – целый словарь можно составить. Дело стоящее!
– Да, конечно – может, после отбытия срока пополнишь толковый словарь Даля, – шутил я.
Но моего доброго повара «Туза» вскоре куда-то перевели и нам опять стало очень трудно.
В один из ненастных апрельских дней Иван Семёнович сильно простудился и слёг. Всю ночь он метался в жару, а я, сидя рядом, без конца прикладывал холодный компресс к его горячему лбу. Утром его поместили в лазарет.
Рано утром до начала работы и поздно вечером после окончания трудового дня я спешил к нему. Засиживался до полуночи, исполняя роль сиделки.
Каждый раз, как только я появлялся, страдальческое выражение лица Ивана Семёновича освещалось лёгкой улыбкой, и он протягивал мне маленькую, словно вылепленную из воска, бледную руку. Видимо, с моим появлением в его душу вселялась надежда, и он возбуждённо начинал говорить, говорить о том, что теперь осталось совсем немного до конечного звонка, что скоро мы вместе покинем лагерь, я вернусь к своим, а он – к старушке-матери, а потом будем ездить друг к другу в гости. Я – к нему на Дон, а он – на Кавказ, где мы, как две вольные птицы, будем ловить рыбу и охотиться.
И даже будучи в тяжёлом состоянии, он находил в себе силы, чтобы забавлять меня импровизированным спектаклем или смешной историей. Я всяко старался поддержать в нём дух и надежду на выздоровление.
Но злому року угодно было распорядиться иначе. В ту последнюю ночь он попросил меня не уходить. С разрешения дежурного фельдшера, который сказал, что он – безнадёжный, я остался.
Иван Семенович, поглядев на меня затуманенным, каким-то отсутствующим взглядом, прошептал:
– Худо мне, брат. Наверное, «амбец котёнку».
– Да что ты, Ваня, ерунда, это, видимо, кризис. Бывает такое, ты даже можешь впасть в беспамятство, а потом словно возродишься.
Иван Семёнович закрыл глаза, и мне показалось, что он уснул. Через несколько минут он медленно, словно силясь, поднял веки и прошептал:
– Немеют, стынут руки, ноги будто не мои, но мне стало как-то легко, и кажется – на крыльях я опускаюсь в какое-то пространство.
И, словно боясь оторваться от мечты, Иван Семёнович крепко ухватился за мою руку, захрапел, затем, сделав глубокий вздох, застыл с широко раскрытыми глазами.
Это была смерть. Охваченный необъяснимым страхом, я рванулся с места и выбежал из палаты.
Было где-то около полуночи. Долго стоял я у дверей лагерной больнички и смотрел на тёмное звёздное небо, грустную луну, и хотелось мне взвыть волком и в этом отчаянном вое выдавить из груди всю тоску и тупую душевную боль. Особенно в эту минуту я осознал тяжесть утраты преданного друга.
«В жизни трудно найти истинного друга» – гласит кавказская поговорка. Для меня он нашёлся без труда, случайно, на самых честных беспристрастных началах, на основе взаимного уважения, которое со временем сроднило души, скрёпленные серыми буднями лагерной жизни.
Глотая горький ком, подкатывающийся к горлу, я сетовал на судьбу за то, что она поторопилась отнять у меня и этого единственного друга на этом далеком Севере.
Удручённый смертью Ивана Семёновича, где-то далеко за полночь вошёл я в барак, сел на свою постель и просидел до утра, не смыкая глаз.
Как я уже говорил, кроме старушки-матери у Ивана Семёновича никого не было. Покойный не раз говорил мне: «…Если со мной что-нибудь случится, не сообщай ей. Пусть старушка живёт надеждой, это гораздо лучше, чем безнадёжность».
Я оказался единственным человеком, который мог оплакивать смерть и скорбеть о нём.
До истечения срока оставалось 5 лет. Надо было во что бы то на стало выжить ради встречи с родными, близкими, ради того, чтобы ещё раз побывать на родине и отомстить Гамзату.
Я испытывал мучительную тяжесть полного одиночества среди массы людей. Мне не хотелось ни с кем заводить дружбу ибо я был уверен или просто мне казалось, что такого друга, как Иван Семёнович, не найти.
По своему характеру, несмотря на общительность с окружающими, я с трудом сближаюсь с людьми, а уж коли сближусь, с трудом расстаюсь.
Помню, когда я был мальчишкой, у меня была собака Див, из породы кавказских овчарок.
Я принёс её щенком и не расставался с ней. Див сопровождал меня в школу, приходил встречать ко времени окончания уроков. В ожидании меня садился неподалеку от ворот и поглядывал на ребят, гурьбой вываливающихся из дверей. Вытянув морду, видимо, втягивая воздух, он не отрывал глаз от ворот и терпеливо ожидал моего появления. Иногда, балуясь, я нарочно прятался от своего четвероногого друга, желая испытать, уйдёт он, в конце концов, или нет – но Див упрямо ждал. Если же он случайно обнаруживал меня за дверью или забором, тут же поднимался, бежал ко мне и, недоумённо глядя в мои глаза, извинительно скаля зубы, вроде бы хотел спросить: «что все это значит?»
Где бы мы не играли, куда бы не уходили в воскресные дни и каникулярное время, Див непременно сопровождал меня и был участником наших игр и шалостей.
И вдруг однажды, зимним утром, нашёл Дива мёртвым в конуре. Переживанию моему не было предела. С трудом отсидел я в тот день на уроках, а после окончания мы с друзьями и соседским мальчишками завернули Дива в мешок, вывезли за город и похоронили в лощине. С тех пор я не заводил собак, боясь привязаться и снова испытать горечь утраты. Ведь собаки живут 10–15 лет.
В лагерях, где серые стандартные будни ползут медленно, как грозовые тучи по безветренному небу, не только годы, но и месяцы кажутся бесконечно длинными.
Но как бы там не было, а время шло. И чем ближе становился последний день срока, тем тягостнее казалось чувство нетерпеливости. Отбыв срок, как говорится «от звонка до звонка», я не почувствовал той естественной радости и понятного облегчения, которые испытывает человек и, наверное, все живые существа, вырвавшиеся на волю.
Я не сомневался в том, что снова окажусь здесь или в другом месте ссылок. И эту неописуемую тяжесть жизни, к которой привык, как к постоянной боли, буду переносить гораздо легче после отмщения – потому что буду знать, за что сижу, и не только знать, но и торжествовать, как смертельно ранений победитель, дорого отплативший за свою жизнь.
Все эти годы не я не писал писем родным, а, следовательно, и от них не получал. Не сообщил я и о днях освобождения и приезда – потому что ещё не решил, покажусь близким или исчезну, поразив врага в спину под покровом ночи.
Но с каждым часом ощущение блаженства свободы и радости встречи с родными и близкими становились острее, и планы рушились.
В своём решении я не колебался, вот только время исполнения решил немного оттянуть, чтобы побыть хоть немного с теми, кого горячо любил и по ком истосковался до изнеможения. Какими они теперь стали: мать, дети, жена? Может, они потеряли веру в моё возвращение и смирились с горькой мыслью утраты – но нет, неизвестность согревает, теплит надежду.
Свобода! Истинную цену ей может знать только тот, кто был её лишён, и привыкаешь к ней не сразу – хотя и легче, чем к неволе.
Освободившись, я вернулся домой в 47-м году.
Бесконечно долгий путь в обратном направлении тоже был нелёгок. Нелёгок потому, что люди, встречные и попутчики, догадывались или видели во мне бывшего узника.
Я потерянно ощущал на себе их взгляды – сочувствующие, презирающие, настороженные, недоверчивые, и от этого мне становилось тяжело. Потому я старался забиться в какой-нибудь угол или влезть на самую верхнюю багажную полку – в особенности, когда пассажиры раскрывали свои саквояжи, корзины, чемоданы со снедью.
Конечно же, я истосковался и по домашней пище и, как всякий полуголодный человек, остро ощущал запах съестного.
И, как поётся в песенке, «ехали мы ехали, ехали мы ехали и, наконец, приехали…»
В родной город я постарался прибыть вечерним поездом. Поздно вечером, войдя с бьющимся от волнения сердцем в знакомый двор, я тихо постучал в двери.
– Кто там? – я услышал голос жены и дрожащими губами прошептал: