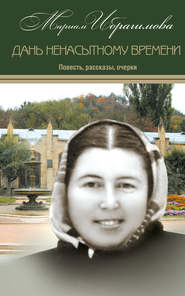скачать книгу бесплатно
И не приведи господь, если кто-либо из дружков или неприятелей решился бы обложить меня подобной бранью.
Да, мать свою я страстно любил.
Её слово для меня было законом, её воля непоколебима.
Когда умер отец, нас осталось у неё трое.
Безграмотная горянка, она от природы была одарена светлым умом, была неустанно трудолюбива.
Её мудрый, искрящийся теплом и лёгкой грустью взгляд я обожал. В нём хватало и мужества чтобы заменить нам отца.
Благодаря матери я уверовал в силу женщин-горянок, которые могли опоясаться мужским ремнём, надеть папаху и сражаться с врагом наравне с мужчинами.
У меня были обожаемая жена, любимые дети и если признаться откровенно, оказавшись под арестом я страшно тосковал по матери.
А может быть, это потому, что ее безутешная, отчаянная тоска передавалась мне необъяснимой силой телепатии.
Она боготворила меня, но свои чувства, порожденные неизгладимой силой материнского инстинкта, старалась скрыть за внешней строгостью и напускаемой спокойной рассудительностью.
Я знал, что в потемках бессонных мучительных ночей она скрывает от всех свои страдания по мне, потому что не сомневается в моей невиновности, ибо только ей я доверял самое сокровенное.
Когда ночью щёлкнул замок, заскрипел засов – несмотря на ночь, каждый из заключённых приподнял голову: кого «на выход»?
Я поднялся, глянул на лежащих рядом, прочёл в их глазах сочувствие и, улыбнувшись, кивнул головой. В сопровождении конвоира, держа руки за спиной, как и положено, я направился по длинному коридору к знакомой двери. Несмотря на сильное волнение и стеснение в груди, вошел я в кабинет следователя твердым шагом и гордо, вызывающе откинув голову, стал перед столом.
Но тот, кого я увидел, в какое-то мгновение привел меня в такое состояние раскованности и растерянности, что я, чувствуя, как лезут глаза из орбит, с трудом шевеля языком, прошептал:
– Саша, ты?
Александр Смирнов встретил меня более спокойно. Вспомнил меня. Я понял, что встреча для него не была неожиданностью.
– Да, Гирей, это я, здравствуй, – он пожал мне руку и, указав на стул, добавил, – садись.
Опять-таки, не забывая, кто я есть в данном положении, я опустился на сидение и, наклонив голову, стал ждать официального разговора.
Но Саша Смирнов, мой старый товарищ по комсомольской работе, тихо начал говорить.
– Прости, я не знал, что тебя арестовали, да и откуда мог знать, если наши пути разошлись десять лет тому назад.
Ты возмужал и так изменился, что если бы не знакомство с протоколами допроса, я бы не сразу узнал тебя. Самым тщательным образом я изучил твое дело, и кое-что не мог понять.
Скажи, Гирей, как ты в такое время в кругу друзей мог вести ненужные разговоры!
– Какие именно?
Я приподнял голову и глянул в глаза Смирнова.
– Ты что, считаешь правильной бухаринскую теорию «устойчивости мелкотоварного производства», тогда как она истинными марксистами рассматривается как антисоветская, мелкобуржуазная теория «врастания кулака в социализм»?
– Но ведь это мое личное убеждение, которое я никому не навязываю. Я и сейчас могу повторить, что считаю неправильным абсолютную коллективизацию. Нельзя у горцев отнимать приусадебный участок, коровенку, лошаденку, мелкий скот. Мои предки испокон века существовали натуральным хозяйством.
– Ты, значит, против коллективизации? – удивился Смирнов.
– Напротив, я за колхозы, но с сохранением мелкого личного хозяйства середняка и бедняка.
Пойми, Саша… извините, товарищ Смирнов – меня правильно.
Горцы пойдут в колхоз охотнее, если им сохранят небольшие частные хозяйства. В положенное рабочее время они отработают в коллективном хозяйстве, а в личном будут управляться старики, дети – и сами в свободное время. От этих личных хозяйств выиграют все – и сам хозяин, живя за счет натурального хозяйства, и государство – потому что не нужно будет в полной мере снабжать колхозников продуктами: наоборот, горцы могут сами еще излишки сдать государству. А если лишить их всего, как говорится, «под метлу», они станут потребителями.
Смирнов молча, задумчиво слушал.
– Саша, ты помнишь, как мы с тобой, молодые комсомольцы, участвовали в деле коллективизации в те далекие годы? – спросил я.
Смирнов встрепенулся, посмотрел на меня долгим взглядом, словно хотел заглянуть в душу и тихо сказал:
– Иди, отдыхай, продолжим завтра.
Охваченный радостным волнением от встречи с другом, который меня хорошо знал, окрылённый надеждами на торжество справедливости и скорое освобождение, вошёл в камеру улыбающийся, и на вопросительное выражение лиц сокамерников коротко сказал:
– Сменили следователя.
Разговаривать ни с кем не хотелось. Под натиском нахлынувших воспоминаний и взволновавших впечатлений я притворился спящим, чтобы остаться одному со своими мыслями. А они теснились в голове роем.
В 1929–1930 годах вторая волна репрессий, арестов, насилия докатилась и до нас.
Молодая Советская Республика, ликвидируя частную собственность, не могла ограничиться лишь мерами убеждения, прибегала и к насилию.
А в наше время, когда появилась настоящая частная собственность, психология людей в этом отношении не только не изменилась, но ещё более обострилась. Да и на самом деле, кто может вот так взять да отдать без сожаления свою кормилицу-коровёнку, благодаря которой сыта семья!
И это несмотря на то, что содержание её связано с большим трудом. Ведь настоящая хозяйка привязана к хвосту своей коровёнки с раннего утра до позднего вечера. А остальной скот? А приусадебный или земельный участок? Как прожить без них горцу вдали от городских рынков?
Заволновалось крестьянство, а некоторые забастовали.
И случалось, открыто встречали в штыки активистов колхозного движения.
А сколько убивали из-за угла!
Вот в этот сложный период мобилизовали меня, комсомольца – также как молодого коммуниста Смирнова – на борьбу с кулачеством.
Саша был на несколько лет старше меня. Его, как ответственного товарища, вооружили браунингом. Тогда наша семья жила в небольшом городке, вокруг которого на плоскогорье были разбросаны мелкие аулы.
Обычно посланцы партии и комсомола собирались группой и разъезжали на лошадях или на «линейках» по селениям. Там, собрав сход горцев, проводили с ними разъяснительную работу о преимуществах коллективного хозяйства, о росте производительности их труда с помощью механизации, т. е. техники, которая будет выделяться для колхозников государством и т. п.
К великому моему удивлению, на этих сходах активность проявляли в основном женщины. Мужчины, стоя поодаль, только наблюдали за происходившим.
Надо сказать, что среди представительниц слабого пола находились агрессивно настроенные. Вызывающе выступив вперед, размахивая руками, они с насмешкой выкрикивали: – Ну что ж, давайте, объединяйте скот, землю, а потом, может быть, и нас, женщин, будете объединять?
В одном из аулов какая-то дородная старуха, засучив руки, бросив платок под ноги, поднялась на сколоченную наспех трибуну и бросилась с кулаками на Сашу – одного русского, которых оказался среди нас. Кто-то из местных товарищей прикрыл Смирнова собой. Но она, как разъяренная тигрица, протянув скрюченные длинные пальцы к его лицу, рвалась именно к нему. Рука Саши невольно легла на рукоятку браунинга. Я, зажав его руку в свою, шепнул: – Брось, не смей, это провокация. Никто не смеет тронуть старуху. Иначе тут начнется такое месиво, что и родные не опознают никого из нас.
Присутствующий среди нас член исполкома – пожилой человек, из местных, спокойно сказал:
– Апам, ты женщина, мать, как ты смеешь поднимать руку на мужчину, гостя. Разве он твой кровник или унизил, оскорбил тебя или кого-нибудь из твоего рода? Будь благоразумна, пусть сюда выйдет и разговаривает с ним тот, кто тебя настроил, пусть не прячется за спину женщины, если он мужчина.
Видно, исполкомовец попал не в бровь, а в глаз. Старуха смущенно опустила руки, и, ворча, сошла с трибуны.
На Кавказе горцам, как и всем народам мира, свойственны добро и зло; как сказал Лермонтов –
«Там за добро – добро, и кровь – за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь».
Но мне кажется, в отличие от степенных, рассудительных степняков, горцы склонны к бунтарству.
«Им бог – свобода, их закон – война…
…Верна там дружба, но вернее мщенье».
Но в те дни в каждой республике партийные советские и комсомольские работники активно включились в дело коллективизации. Не дремали и затаившиеся враги. Подстрекаемые людьми, недовольными народовластием, крестьяне роптали и открыто заявляли:
– Вы же обещали власть советам, а землю крестьянам, зачем же теперь отнимаете?
И вот нам, местному активу, надо было находчиво отвечать на все вопросы и всяко доказывать выгоды и преимущества коллективных хозяйств.
И всё-таки чувствовали мы, «как ныне безумный Кавказ негодует, и мрачные думы его тяготят».
Доказательством тому был бунт сельских горянок.
В один из дней к городу стали стекаться со всех окружных аулов женщины. Словно по сговору, все они были укутаны в белые полотнища, под которыми прятали руки с узелками.
Они, словно бесчисленные стаи белых чаек, запрудили все улицы, ведущие к центру города и главную улицу с домом, где помещался исполком городского совета.
Вся местная власть во главе с седобородыми народным депутатами вышли навстречу.
Было понятно, что это не стихийная вспышка народного гнева, а хорошо продуманные, спланированные и чётко организованные действия. Горянки могли быть вооружены, а их подстрекатели вместе с мужьями, сыновьями, братьями могли где-то наблюдать и выжидать на расстоянии.
Представителям местной власти и всему партийно-советскому активу было сделано жёсткое предупреждение – пользоваться только мерами убеждений и обещаний во избежание столкновений.
Председатель исполкома, обратившись к представительницам бунтарок, сказал, что он предлагает зайти в помещение городского театра и там обсудить их требования и желания.
Но зачинщицы категорически отказались, заявив, что они желают вести переговоры на открытой местности, в присутствии всех.
Ничего не оставалось делать.
Предупредив на всякий случай командование военного гарнизона, находившегося в городе, сотрудников НКВД и милиции, представители местной власти согласились на переговоры за городом. Местом сбора была назначена большая площадь, посреди которой, словно гранитный пьедестал, торчал огромный плоский осколок скалы. На эту скалу поднялись представители власти. Площадь запрудила толпа сельских женщин в белых одеждах и горожане в разных одеяниях. Переговоры длились более часа и закончились миром. Среди военных и работников органов, переодетых в гражданскую одежду, были Саша и я. На сей раз мне на всякий случай выдали под расписку наган, при ощущении которого сбоку под пиджаком сердце мое преисполнялось особой гордостью.
Саша, конечно, все это помнит, он должен поверить мне.
Вызвав на очередной допрос, Саша Смирнов молча протянул мне сверток и тихо произнес: «Ешь, да побыстрее». В свертке были бутерброды с маслом и колбасой. Я ел, жадно глотая, и давился от того, что комок от сдерживаемых слез сдавливал глотку, а Саша, низко склонившись над записями, сделанными следователем Рюриком, читал.
– Ну какой же ты, Гирей, не осторожный, – сказал он наконец, озабоченно глянув на меня.
– В чем же я виноват?
– В чем? На кой черт тебе было разговаривать на политические темы с тем же Окаевым. Мужик глупый как пень, что у тебя общего с ним?
Другое дело Соснович. Этот хоть мало грамотный рабочий, слесарь, но, видать, человек мужественный – невзирая ни на какие угрозы, категорически отказался от показаний на тебя.
И тут я вспомнил чисто случайно возникшую беседу в узком кругу товарищей, после прочтения газетной статьи об антипартийной группе – Троцкого, Бухарина, Каменева, Зиновьева и др. Это касалось высказывания Бухарина об «устойчивости мелкотоварного производства». В убедительности его доводов, касающихся крестьянства, я не усомнился, соприкоснувшись самым активным образом с коллективизацией. Я высказал мнение о возможной причастности Бухарина к иного вида антипартийным деяниям.
Соснович Антон – белорус, сирота, заброшенный изменчивой судьбой в наши края. Честный, порядочный человек, простой рабочий-слесарь, живущий со мной в одном доме, мой товарищ, оказался настоящим другом – давал показания следователю Рюрику в мою пользу, не боясь угроз, зная, что меня постигла беда, веря в мою гражданскую совесть. Святая ложь – а ведь он слышал мои разглагольствования о «теории устойчивости мелкотоварного производства».
Окаев Гамзат, мой односельчанин – тоже сосед, одноклассник, тупой увалень. С трудом окончил семилетку, шефство приходилось брать над ним, я занимался с ним часами.
Трусливый, только и знал, что прятался за мою спину, если случалась схватка с ребятами. Но в люди выбился, хотя и начал рабочим на складе горторга. Умел услужить начальству, щедро одарить нужно человека. Теперь заведует складом.
Как же это он меня «заложил»? Неблагодарный! Я ведь содействовал его трудоустройству, возвышению.
Он ведь лучше других знал, что я не враг народа. Да и как мог быть им сын, можно сказать, пролетария, безземельного кустаря-отходника, который с семи лет был приобщён к тяжёлому труду лудильщика-скитальца.
Как я, беднейший из бедных, мог быть неблагодарным той власти и партии, которая дала мне высшее образование, почётную должность и все те блага жизни, о которых даже мечтать не могли мои предки! И откуда у меня может взяться протурецкая ориентация? Я как историк и марксист ясно сознавал выгодность присоединения горцев Дагестана к такому могучему государству, как Россия, нежели тянуться через моря и страны к далёкой Турции, могущество которой давно растоптано колесом истории, катящимся по развалинам империи?
Я ведь высказал свой взгляд, быть может, ошибочный. А сколько подобных взглядов, мнений и убеждений скрыто в недоступном глазу и слуху, в кладовых человеческого мозга!
И почему, проживший свою недолгую жизнь набело, которую можно проследить, как букашку, движущуюся на ладони, оказался без вины виноватым в том, что даже в голову мне не приходило?
И в то же время такой как «Рюрик Иванович» облечён высоким доверием только потому, что он – воспитанник детского дома.
А уж если говорить откровенно, в то смутное время революционного переворота, во время бегства, отчаянных и горячих схваток, теряли не только свои состояния, но и детей. И где им было воспитываться, как не в детских домах. И могли ли те из них, которые, как Рюрик, видели гибель близких на пепелище поместий, простить Советской Власти содеянное?
Думы обо всём этом теснили мою грудь, и тем сильнее, чем яснее сознавал я, что попал в полосу «политического циклона», движущегося по нашей стране по воле непонятных сил.
Саша Смирнов – настоящий большевик, честный чекист; он, конечно, старался мне помочь – но каким образом, если такая улика налицо?
Мне не ведомо, что и как докладывал он обо мне высшему начальству, которое, безусловно, хотело покончить с моим делом, как и положено в таких случаях.
Я не сомневался в том, что он всяко старался вызволить меня, – он намёками, а иногда и прямыми советами учил меня, как вести себя на «заседании тройки» (закрытом суде), от которого ему не удалось меня избавить.
Также не доверил бы мне тайны так потрясших меня фактов, как аресты и самоубийства среди оперативных работников НКВД.
Саша говорил:
– На днях арестовали Али Османова, начальника райотдела – ты знаешь его, бывший футболист.
А вчера прямо в кабинете застрелился Кольченко – в Чапаевской дивизии служил, оружием именным был награждён.
Что-то непонятное творится и в наших органах, – говорил он тихо, задумчиво глядя перед собой.
А тот ужас на последнем допросе потряс меня настолько, что я впал на некоторое время в состояние невменяемости.
…Вызов на очередной допрос.