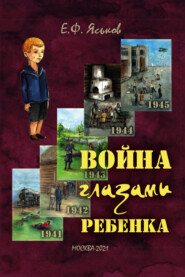скачать книгу бесплатно
Фронт был уже где-то далеко на востоке, а через наш поселок все шли и шли выходящие из окружения красноармейцы. Они приходили всегда ночью, осторожно стучали в окно. Стучали тихо, еле слышно, но стук в хате слышали почти все. Его начинали ждать еще с вечера и чем больше проходило времени, тем напряженнее становилась в хате тишина, тем чутче мы вслушивались в каждый звук, каждый шорох за окном.
На стук отзывался всегда только дед. Он быстро вскакивал и, стараясь не звякнуть засовом, в одном исподнем выскальзывал в ночную темень. Мы в это время замирали, пытаясь уловить хоть какой-то шепот. Но во дворе по-прежнему было тихо, не подавал голоса даже Додик, всегда начинавший рычать, когда к поселку подходили немцы или полицаи.
Дед отсутствовал обычно долго, мы уставали от ожидания. Наконец, он появлялся и начинал хлопотать у стола, где с вечера лежали приготовленные хлеб и вареная картошка. По тому, сколько времени он нарезал ломтей, мы угадывали – один или несколько человек ждали его за дверью. Иногда дед брал с собой чистые тряпки – значит, среди окруженцев были раненые. Их он перевязывал, а затем помогал устроиться на ночь в баньке, стоявшей напротив хаты метрах в двухстах, на крутом берегу Спонича.
Вернувшись, дед молча укладывался около бабушки. Никто его ни о чем не спрашивал, сам он тоже не произносил ни слова.
Снедали мы рано, усевшись за большим кухонным столом, стоявшим у самого окна, выходившего во двор. Дед всегда сидел в углу, под образами, возле него – я, затем – моя мама с пятимесячной Светой на руках, тетя Аня и ее дочка Лариса. У противоположного конца стола стояла табуретка для прабабушки Домны, но та чаще всего утром с печки не слезала и еду ей подавали туда. Бабушка Арина за стол не садилась. Она хлопотала у печи, орудуя сковородником и ухватами.
Разнообразия в еде не было. Каждое утро бабушка ставила посреди стола чугунок с толченой картошкой. До прихода немцев она была со шкварками, которые мы с Ларисой пытались выудить ложками. После того, как немцы навели в хлевах свой порядок, картошка в чугунке стала без шкварок. Вместо них бабушка добавляла в нее мелкие черные угольки, за которыми мы с Ларисой продолжали охотиться, думая, что это шкварки.
Ели молча, искоса поглядывая на деда. Он сидел прямо, как в седле. Его осанистую фигуру облегала чистая ситцевая рубаха темно-синего цвета, косой ворот которой был застегнут мелкими белыми пуговичками. Широкая седая борода, доходившая чуть не до пояса, была аккуратно расчесана. Ел он спокойно, не торопясь, пресекая время от времени своим острым взглядом наши попытки покопаться в чугунке в поисках шкварок.
Когда дед замечал, что картошка оставалась только на дне, он клал ложку, вытирал рушником губы, проводил несколько раз рукой по бороде и, откашлявшись, начинал:
– Ну, так вот…
Этой минуты мы все с нетерпением ждали и, прекратив шкрабанье по дну чугунка, устремляли на него взгляды. А дед, выдержав небольшую паузу, как бы снова переносился в минувшую ночь.
– Ну, так вот…вышел я на крыльцо – никого. Пригляделся. Из-за угла кто-то выглядывает. Потом выходят. Двое. Молодые хлопцы, в форме…Поздоровались…Ну, значит, первым делом спрашиваю: кто такие, откуда…
И далее дед, с крестьянской обстоятельностью передавал ночной разговор с окруженцами. Для всех нас это были маленькие политбеседы, из которых мы узнавали что-то новое о наших. Мы привыкли к ним и ждали их с нетерпением. Но было в этом ожидании и что-то личное для каждого из нас. Мама и тетя Аня надеялись что-то узнать о своих мужьях, наших с Ларисой отцах, бабушка – о сыновьях. Все служили до войны в приграничных районах, откуда шли окруженцы, и они, может быть, что-то могли о них слышать.
Была особая потребность в этих беседах и у деда. Ему, бывшему прапорщику царской армии, хотелось уловить, понять пока еще не совсем ясное для него сложное движение войны, а потом уже разъяснить смысл происходящего нам. То, что наша армия отступала, что многие соединения оказались в окружении – это не вызывало у него удивления. В 1914 г. он служил в одном из корпусов генерала Самсонова и сам испытал на себе силу внезапного удара немцев, сам выходил ночами в Восточной Пруссии из окружения, был тяжело ранен в голову и несколько месяцев пролежал в крестьянской хате, куда его без сознания принесли солдаты. Так что для него движение вспять было хорошо знакомо и понятно. Мучило его другое. Он никак не мог понять, что фронт можно прорвать на такую ширину и глубину. И еще: как, чем можно заштопать эту гигантскую дыру? И можно ли вообще это сделать? Беседуя с окруженцами, он пытался получить ответ на первый вопрос. Дать ответ на второй вопрос они не могли. Деда это раздражало, злило. Он пристально всматривался в окруженцев, пытаясь найти в их поведении, рассказах хоть какие-то косвенные доказательства того, что германцев, в конце концов, удастся остановить.
Особенно выводили его из себя окруженцы, переодетые в гражданскую одежду и шедшие без оружия. Тогда дед чуть не выстраивал их в шеренгу, топал босыми ногами, выговаривал им, ставил им в пример свой полк, который в 1914 г. тоже попал в окружение, но не сложил оружие и с боями пробивался к своим. В эти минуты ему самому казалось, что не было никакого перерыва между войнами, что это все та же длинная, бесконечная война и он командир снова учит своих солдат уму-разуму. Что удивительно – никто из красноармейцев никогда не огрызнулся, не возмутился, хотя перед ними стоял седой старик в подштанниках и срамил их, только что вышедших из пекла и заслуживавших в эти минуты может быть совсем других слов.
После таких встреч дед не мог прийти в себя целый день. Утром, рассказывая нам о происшедшем ночью разговоре, он сердито, более высоким, чем обычно, голосом, переходя временами на крик, говорил:
– Спрашиваю их: а где же ваше обмундирование? Молчат. А где винтовки? Мнутся. Тогда я говорю – а может, вы примаками стать хотите?[1 - Примак (приймак) – зять, принятый в дом тестя. Однако во время войны в Белоруссии примаками называли также красноармейцев, выходящих из окружения или бежавших из лагерей для военнопленных, которые оставались жить в деревнях у вдов или у женщин, мужья которых были на фронте и о судьбе которых им ничего не было известно. Для таких людей война по сути дела прекращалась. Для кого – временно, пока они не уходили в партизаны или не были вторично мобилизованы при освобождении оккупированных территорий, а для кого и навсегда, если они из-за полученных ранений или из-за возраста признавались непригодными для дальнейшего несения воинской службы.]
Это был, с точки зрения деда, самый обидный вопрос, ответ на который помогал ему окончательно составить суждение о красноармейцах.
– Здесь вижу, – продолжал он, – зашевелились… Мы, говорят, не для того целый месяц по ночам идем, чтобы примаками стать. А что обмундирования нет – так оно сподручней. Дескать, не в форме дело. Ну, здесь я им сказал! Разве ж, говорю, без формы может быть армия? Когда я выходил из окружения, так не только при всех регалиях был, но и на коне! А за мной солдаты не только с винтовками были – пушки тащили!
Действительно, так все и было, как говорил дед, в 1914 г. Правда, после тяжелого ранения он уже не знал, что стало с его конем и с пушками, но, тем не менее, он твердо верил, что солдат ни при каких обстоятельствах не должен расставаться со своим мундиром и оружием.
Бывали и другие ночные встречи, после которых дед целый день ходил веселый, шутил. Это случалось, когда на наш поселок выходили небольшие подразделения красноармейцев со всем своим имуществом, ведомые боевыми, не потерявшими духа и веры командирами. В такие дни я смело мог просить у него проехаться верхом на хромоногой лошадке, которую дед брал иногда на колхозном дворе, – отказа не было. Подсаживая меня на коня, он спрашивал, подмигивая:
– Ну, что, внучок, текут?
Я не понимал – о чем идет речь и переспрашивал:
– Что, дедушка, течет?
– Ручейки, внучок, ручейки! И потом с уверенностью добавлял:
– Текут – значит, где-то соберутся. А соберутся, тогда – эх! И он ударял ладонью по крупу коня.
В такие дни ему казалось, что он начинал нащупывать ключик к мучившему его вопросу. Рассказывая нам утром во всех подробностях о таких встречах, он уже осмеливался предположить, что сила должна вот-вот собраться и намекал, что ждать осталось недолго, но на все надо время.
Однако наступал новый день и другие вести, на этот раз с востока, отрезвляли его. Он грустнел и выражал свою неудовлетворенность в мелочных придирках к женщинам, в ворчливости и неуступчивости к моим просьбам.
Наступил октябрь. Окруженцы по-прежнему стучались по ночам, но уже реже. Дед все так же «исповедывал» их, затем вручал хлеб и картошку, показывал дорогу на Тарасовку и, благословив, возвращался в хату. Он уже не кричал, не срамил их, даже если они были в крестьянской одежде и без оружия. Эти красноармейцы отличались от тех, что заходили к нам летом. Это были окруженцы первых дней войны. Шли они от самой границы, худые, оборванные, обросшие. Дед, рассказывая о них, не переставал удивляться. На его памяти такого не было, чтобы столько времени пробираться по ночам к своим. Он уже не спрашивал их – не хотят ли они стать примаками, так как чувствовал, что это не те люди, у которых можно такое спрашивать.
Во все время течения этого, как говорил дед, ручейка я так ни разу и не увидел ни одного окруженца. А увидеть хотелось, особенно после встречи с пленными красноармейцами. Хотелось посмотреть на людей, не сломленных, упорных в своем движении на восток, прикоснуться к ним. Мне казалось, что среди них могли быть и отец, и дядя Саша Довбенко, и Поплавский, и Зураб. Стоило мне на минуту закрыть глаза, как я видел всех их, сидящих за столом, спорящих, смеющихся, а потом поющих про трех танкистов, артиллеристов, про Катюшу, про одинокую гармонь. Особенно в душу мне запала песня, которую Поплавский всегда исполнял последней. Он начинал своим низким голосом:
В далекий край товарищ улетает
За ним родные ветры вслед летят
А мы подхватывали:
Любимый город в синей дымке тает
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд
Было в этой песне для каждого из них что-то сокровенное, делавшее их задумчивыми, более внимательными друг к другу. Да, каждый из них был далеко от любимого города, знакомого дома и зеленого сада. И когда они могли туда вернуться – никто не знал.
И вот однажды эта встреча состоялась. Это случилось неожиданно для меня, когда было совсем еще светло. Я вошел с улицы во двор и увидел незнакомого человека, сидящего напротив крыльца на колоде. В руках он держал кружку с молоком, а у его ног лежала суковатая палка. На крыльце сидел дед, а рядом расположились женщины. Незнакомец был в пожилом возрасте, но моложе деда. Большая голова, широкая грудь, длинные руки с узловатыми пальцами выдавали в нем сильного человека. Какой-то серенький пиджачок и такие же серенькие брюки были ему явно малы и открывали запястья рук и щиколотки ног, на которых каким-то чудом держались расхлябанные, с обрезанными голенищами кирзовые сапоги.
Когда я вошел, говорил дед, а незнакомец, прикрыв глаза, слушал. Увидев меня, он улыбнулся. Лицо его сразу оживилось, потеплело. Обращаясь к деду, но глядя на меня, он сказал:
– А вот, наверное, и внучок ваш, Исаак Антонович?
С первого же взгляда на этого, неожиданно появившегося и необычно одетого человека я каким-то внутренним чутьем понял – это он, окруженец! А после первых его слов уловил в интонации его голоса какие-то, одному мне понятные нотки, подтверждавшие мою догадку. Неожиданно для него и самого себя я выпалил: «Вы – командир, дядя?». Он удивленно произнес:
– С чего это ты взял?
Я в растерянности заметался глазами по всей его фигуре, пытаясь отыскать какие-то доказательства моей догадки. Однако сгорбленная его поза, крестьянская одежда, серое небритое лицо с черными кругами под глазами – ничто не выдавало в нем военного. И вдруг на глаза мне попался серебристый ежик его волос. Конечно, волосы, – обрадовался я своей находке. Во-первых, такой стрижки у деревенских мужиков не было, а, во-вторых, скорее всего, до войны он брил голову, как говорили, «под Котовского». Так поступали тогда многие крупные военачальники. Укрепившись в своей догадке, я уверенно произнес: «Волосы!». Незнакомец улыбнулся:
– Ты наблюдательный, мальчик. Разведчиком будешь.
– Нет, штабистом! – возразил я.
– О-о-о, – засмеялся он, – так ты, чувствую, штабную науку уже познал. С отцом, наверное?
Только я открыл рот, чтобы рассказать об отце, о штабе, о своих взрослых товарищах, как дед на меня прикрикнул:
– Погодь, дитенок! Что ты пристал к человеку? Видишь – притомился он, да и гуторить мы не закончили.
Когда дед сердился, он всегда называл меня дитенком. Незнакомец же подмигнул мне – дескать, не сердись и усадил рядом с собой на колоду, обняв за плечи. Дед же прокашлялся и уже спокойным, уверенным голосом продолжал:
– Значит, Алексей, я так предполагаю. Если ты только в окружении, а не в плену, то ты все еще воин и обязан соблюдать присягу и устав, а следовательно, с мундиром не имеешь права расставаться!
Незнакомец кивнул головой:
– Исаак Антонович, полностью согласен с вами, но ведь на войне такие переплеты случаются, что… Он покачал головой и махнул рукой:
– Вот, например, взять меня. Вечером в дом, где мы расположились, попал снаряд. Очнулся я только на вторые сутки. Осмотрелся – лежу на кровати…в полотняном белье, явно чужом. Рядом какие-то женщины хлопочут, да и дом совсем другой. Потом они мне рассказали, что нашли меня в грядках без сознания, а в деревне уже немцы были. Вот они меня в дом перетащили и переодели, а потом недели две выхаживали. Сначала я и говорить не мог, потом уже речь вернулась. А обмундирование? Зарыли, наверное, где-нибудь. Если б фашисты обнаружили меня в нем, они бы церемониться не стали. Я для них не просто противник, а злейший враг.
Дед при этом рассказе подался вперед, рот его приоткрылся – видимо вспомнил свою историю, так похожую на эту. Когда дядя Алексей закончил, воцарилась тишина. Потом дед встрепенулся:
– Так. Это мне все знакомо. Ну а зачем же в таком состоянии идти? Надо же было отлежаться, чтобы крепче встать на ноги. Вот я, к примеру, полгода лежал после ранения и контузии.
Дядя Алексей улыбнулся:
– Да, Исаак Антонович. С медицинской точки зрения, конечно, надо лежать, приходить в себя, сил набираться. А по совести… Не могу я сейчас лежать. Теперь каждый боец на счету, каждая минута дорога. Да вы с большим опытом офицер – сами все хорошо понимаете.
Дед при этих словах приосанился:
– Так-то оно так, да чтобы воевать, надо силу иметь. Сможешь ли ты сейчас воевать? Да и до своих дойти?
– Может быть, и не дойду. Не в этом дело. Главное сейчас то, что я снова встал в строй. А встал – значит воюю.
Дед удивился:
– Как в строй? Как воюешь? У тебя же ни оружия, ни формы, да и командовать некем!
– Да, оружия нет и командовать некем, но я и раньше не командовал. А воевать – воюю!
С лица деда не исчезло недоумение. Рот его был приоткрыт, руки теребили бороду. А дядя Алексей выпрямился и с еще большей уверенностью продолжал:
– Да, – воюю! Сейчас надо не только людей и оружие сберечь, но и веру! Без нее не победишь! А в народе сейчас сумятица. Надо людей в чувство приводить, настраивать. Мы уже забыли не только про татарскую орду, но и про нашествие поляков и про Наполеона. А забыли – значит, потеряли навыки сплочения, противления чужому духу. Их надо заново в людях восстанавливать.
Лицо деда посветлело. Он уже более мягким, доверчивым голосом спросил:
– А не поздно? А вдруг Москву займут?
– Не поздно, Исаак Антонович. Тяжело, конечно, будет, если Москву отдадим. Но это еще не конец. Ведь в прошлом случалось и такое и не только выживали, но и побеждали!
Дед удовлетворенно закряхтел и, закручивая усы, выразительно посмотрел на женщин, как бы говоря, – слышали? Вот она где – правда!
Разговор продолжался бы еще долго, так как деду попался собеседник, который мог многие вопросы толково разъяснить. Но в ходе этого разговора дяде Алексею все труднее становилось говорить. Временами он останавливался, сильнее прижимал меня к себе и с трудом, буквально выдавливал из себя слова. Дед это заметил и, вставая, проговорил:
– Ну, будя. Погуторили и хватит. И, обращаясь к женщинам, сказал:
– Займитесь коровой, а Алексею приготовьте повечерять.
В это время в глубине поселка слышалось мычанье, это пастух гнал коров с пастбища. Бабушка вышла за калитку встречать нашу Зорьку, а мама и тетя Аня ушли в хату готовить еду для дяди Алексея. Наверное, дед специально отослал всех женщин, чтобы мы остались втроем – дед, дядя Алексей и я. Пододвинув к дяде Алексею чурбан, дед сел на него и, глядя в лицо ему сказал:
– Так вот, Алексей. Вера в тебе, действительно, большая и, главное, не за себя стараешься. Это хорошо. Помоги тебе Бог! Но, дело в том, что ты в таком состоянии и до Тарасовки не дойдешь. Надо бы тебя доктору показать, но где его возьмешь? Тебе бы хоть недельку отлежаться, но ты видел этот плакат, что на фасаде прибит? Если тебя приютим, то сам знаешь, что с нами будет. Нам, старикам, конечно, не страшно, а вот за детей… В общем так. Ночь ты проведешь в баньке. Повечеряешь, передохнешь. А рано утром мы с внуком переправим тебя на подводе в Княжеский лес. Там есть хутора, где, может быть, еще германцев не видели. Вот там отлежишься, а затем и продолжишь свое святое дело. Понятно?
Дядя Алексей замотал головой, хотел что-то возразить, но дед строго произнес:
– Все, Алексей! Сейчас я старший, так что выполняй мое распоряжение! А ты, внучок, давай в баню и натаскай из предбанника солому, чтобы мог человек хорошо отдохнуть.
Я быстро справился с заданием деда и вернулся во двор. Дядя Алексей стоял у ворот. В одной руке он держал холщевый мешочек со снедью, а другой опирался на свою суковатую палку. Дед положил руку ему на плечо и дал последнее наставление:
– Иди, Алексей, передохни перед дорогой и ни о чем не беспокойся. Завтра рано утром я тебя разбужу.
Дед легонько подтолкнул дядю Алексея к калитке, но я схватил деда за рукав и жалобным голосом стал его просить:
– Дедушка, можно я дядю Алексея до бани провожу?
Дед замялся. Дядя Алексей выжидающе смотрел на него. В поселке установился никем не писаный порядок: окруженцев в бани никто не провожал. Покидали они их на заре, тоже не встречаясь с хозяевами. Считалось, если что – сами зашли туда. Приказ немецких властей, висевший на всех хатах, предельно ясно определял последствия для жителей, пустивших на ночлег кого-либо без разрешения старосты. Поэтому замешательство деда было понятно. Наконец, решившись, он более ласково, чем обычно сказал мне:
– Ну, ладно. Ты только того – долго там не задерживайся. Туда и сразу – назад! Понял?
Я все понял и с благодарностью посмотрел на деда. Все-таки, хоть он и строгий был, но иногда умел понять меня и уважить мою просьбу. Я взял мешочек у дяди Алексея и подал ему руку. На улице не было никого, только в конце ее клубилась пыль – это коровы возвращались с пастбища. Шли мы медленно и молчали. Потом дядя Алексей сказал:
– А как тебя зовут, сынок?
– Женёк.
– Вот так, Женёк, мы и живем теперь. Украдкой приходится встречаться со своими соотечественниками. Озираться по сторонам. А ведь мы на своей земле. Ну, ничего… Перетерпеть надо. А тебе сколько лет?
– Скоро шесть будет, но я уже читать умею.
– Молодец, но все же надо учиться. Только не знаю, кто и как будет вас здесь учить.
– Дедушка сказал, что сам меня будет учить.
– Твой дед молодец, он жизнь глубоко понимает. Слушайся его.
– Я слушаюсь, только он сердитый иногда бывает.
– Сердитый – не прибитый: сам не растеряется и других выручит!
– Да, он у нас смелый. Когда немцы его забрали и хотели расстрелять…И я рассказал историю, случившуюся с дедом, когда в деревню вошли немцы.
– Да, чувствуется русская закваска в твоем деде. Будь похожим на него, помогай ему. Ведь в вашей большой семье только двое мужчин – ты, да твой дед. Ну, а отца своего не забываешь?
– Не забываю.
– Не забывай, сынок. Ему, может быть, сейчас еще труднее, чем нам.
– Дядя Алексей, а он может выйти из окружения?
– А почему ты думаешь, что он в окружении?
– Дедушка сказал. Раз, говорит, на границе вступил в бой – значит сдерживать будет немцев, пока наши не подойдут.
– Твой дедушка хорошо военную грамматику знает, но на войне всякое бывает. Может быть, он и в окружение не попал.
– А где же он?
– Как где? Воюет, немцев бьет. И ты его по ночам не жди. Спи лучше крепче.
Мы подошли к бане. Дядя Алексей открыл дверь предбанника и сел на порог, осторожно вытянув перед собой левую ногу. Солнце уже садилось и последние, не греющие его лучи осветили его усталое лицо, засеребрили ежик волос на голове.
– А знаешь, Женёк, – задумчиво произнес он, – ведь у меня есть сын Андрей. Дочь еще есть – Наташа, но та уже барышня, а вот Андрею почти столько же лет, как и тебе. В Ленинграде они. Слыхал о таком городе? Красивый он. Когда вырастешь, съезди туда обязательно. После войны, конечно.