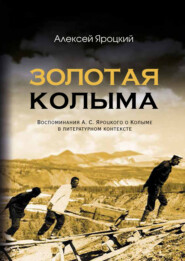
Полная версия:
Золотая Колыма. Воспоминания А. С. Яроцкого о Колыме в литературном контексте
Позиция узников лагерей отчасти объяснялась стремлением доказать, что они не были врагами советской власти, что их подвергли репрессиям по вымышленным обвинениям.
Я. Б. Шпунт обратил внимание на необходимость учитывать время создания воспоминаний Яроцкого: «Конечно, надо иметь в виду, что написаны воспоминания уже давно, 40 лет назад, совсем в другую эпоху. Естественно, многое придется объяснять, ведь большинство читателей или родились уже после того, как данная книга была написана, или были тогда детьми, которые по вполне понятным причинам не следили за новостями и тем, что происходило в общественной и культурной жизни, как официальной, так и нет. Да и просто жизнь изменилась до неузнаваемости, и многие тогдашние реалии малопонятны или совсем не понятны современникам. Не стоит забывать и о том, что Алексей Иванович был человеком своего времени, что также накладывало серьезный отпечаток»[56].
Понять убеждения людей поколения, к которому принадлежали Шаламов и Яроцкий, позволяет колымская история их ровесника Б.Н. Грязных. А. М. Бирюков посвятил Б.Н. Грязных очерк «Безумный марш под знаменем Ленина» и привел документы, доказывающие, как Грязных вел борьбу за «истинный ленинизм», против «сталинского социализма», за что получил первый срок в 1938 году. На Колыме Б. Н. Грязных три раза приговаривали к новым срокам заключения и на свободу он вышел в 1960 г.
В 1941 г. Грязных написал письмо в ЦК партии, надеясь предупредить руководство страны об опасности политического курса, проводимого Сталиным. Вскоре он понял, что его предостережение не было принято, и отступление от ленинских принципов руководства страной продолжается: «…Сталин и его приспешники уничтожили все, что свойственно диктатуре пролетариата и насадили свою собственную диктатуру над всем трудовым народом»[57]. Грязных видел два пути спасения страны: «…сверху – изменение в составе государственного руководства, с соответствующими изменениями в политике, и снизу – революционное выступление масс, сметающее язвы сталинщины»[58]. «Заметки к письму ЦК» Б. А. Грязных «…стали настоящим катехизисом “поликатаржан-ленинцев”… и одновременно беспощадной критикой “сталинщины”…»[59].
В лагере Б.А. Грязных нашел единомышленников, которых привлекли вместе с ним по «Горному делу». Под названием «Горное дело» с июня 1941 г. распространялась составленная Грязных программа борьбы с неправильной политикой партии. За это в 1942 г. Грязных был приговорен к расстрелу, но высшую меру наказания заменили на десять лет лишения свободы.
Яроцкий мог знать о Б. А. Грязных, потому что с брошюрой Грязных «Горное дело» был знаком его друг Добровольский.
А.З. Добровольский входил в группу заключенных, собиравших материал для книги «Колымская каторга», которую они планировали переслать на материк. Осенью 1944 г. в больнице УСВИТЛ было возбуждено дело против участников этой группы, и они получили новые сроки.
Яроцкий в 1960-х гг. приезжал к Добровольскому и Ореховой в Киев, а Елена Евгеньевна в Киеве встречалась с Б. А. Грязных, о чем могла рассказать Яроцкому. Поэтому в тексте «Золотой Колымы» отразилось созвучие с политическими взглядами Грязных.
Яроцкий цитировал открытое письмо Сталину «невозвращенца» Ф. Раскольникова: «…Ваш “социализм”, при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол Вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата»[60].
В книге «Лицом к прошлому» Яроцкий вновь упоминал о нем: «…в 1939 году Раскольников написал открытое письмо Сталину, обвиняя его в избиении ленинской партии, поэтому имя его и было предано забвению, а какая была колоритная фигура – большевик, окончивший военно-морское училище, участник Октябрьской революции, заместитель наркома по военно-морским делам…» (ЛП. С. 254–255).
Известно, что Шаламов посвятил «красноречивому» солдату революции документальный очерк «Федор Раскольников» (1973): «Чуткое перо Джона Рида уловило в “Десяти днях, которые потрясли мир” символическую фигуру красноречивого солдата». Шаламов начал работать над очерком в 1960-х гг., надеялся его опубликовать, но после окончания оттепели имя Ф. Раскольникова вновь было запрещено.
Круг чтения Яроцкого
Яроцкий в «Послесловии» к «Золотой Колыме» писал, что толчком к осуществлению замысла воспоминаний о пережитом стала для него в 1962 г. публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»[61]. Его привлек «…метод писателя – это нанизывание фактов и фактиков», который он использовал позже в «Золотой Колыме». Яроцкий отбирал материалы по тем же принципам, что Солженицын, прежде всего пытаясь выяснить: «Каков же был масштаб репрессий в тридцатые годы?»
И. С. Исаев заметил, что повесть Солженицына «…была первой ласточкой, за которой так и не наступила весна».[62]
В «Золотой Колыме» Яроцкий не упоминал о Шаламове, вероятно потому, что проза Шаламова еще не была издана на родине автора.
Современного читателя может удивить совпадение круга чтения Яроцкого и Шаламова. Оно объясняется особым характером советской культуры: современники читали одни и те же книги, новые журнальные публикации становились достоянием читающих слоев общества. В среде образованных людей считалось дурным тоном не знать журнальных и книжных новинок.
Сходство литературных интересов Яроцкого и Шаламова определялось тем, что они знали советскую литературу 1920-х гг. Шаламов принимал участие в литературной жизни Москвы тех лет[63] и встречался с одним из ее ведущих организаторов – главным редактором журнала «Красная новь», талантливым критиком и прозаиком А. К. Воронским[64]. В 1933 г. Шаламов присутствовал на «чистке», проходившей в Государственном издательстве художественной литературы 21 октября 1933 г.[65]
Особое внимание Шаламова к А. К. Воронскому определялось его идеализированием ленинской партии и общей принадлежностью к троцкистской оппозиции. Шаламов воспринимал Воронского как профессионального революционера, старого большевика, настоящего марксиста и близкого соратника Ленина.
По воспоминаниям Г. А. Воронской, теплое отношение к ней Шаламова объяснялось его преклонением перед памятью ее отца А. К. Воронского.
Галина с детства общалась с писательским окружением отца. К Воронскому приходили Сергей Есенин, Борис Пильняк, Исаак Бабель, Вячеслав Полонский, Артем Веселый, пролетарские поэты из группы «Кузница» и крестьянские прозаики. Летом 1927 г. Воронские жили на даче в Сергиевом Посаде рядом с Бабелем, в 1928-м они отдыхали по соседству с Пильняком в Кисловодске. Об этих писателях Г. А. Воронская оставила воспоминания. Интерес к ним сближал Шаламова и Яроцкого с Воронской.
Яроцкий проявлял интерес к Воронскому, потому что возвращение его наследия было делом жизни его друзей И. С. Исаева и Г. А. Воронской.
7 сентября 1966 г. он писал И. С. Исаеву, что прочитал воспоминания А.К. Воронского о Горьком. Его волновал вопрос: «…почему такое охлаждение и даже перерыв в отношениях с 1931 года»?[66] Он видел причину разрыва Воронского и Горького в расхождении их взглядов: «Я не могу простить Горькому его позиции. В 1918 году он подписывал петиции против “красного террора” (вместе с Ролланом и Короленко), а в тридцатые годы восторгался Беломорканалом и написал “Если враг не сдается, его уничтожают”. А кто был “враг”, мы знаем хорошо, уже в 31 году было видно, куда дело идет, а в 34 стало совсем ясно, а вот ему не было видно»[67]. Это суждение Яроцкого совпадает с высказыванием Шаламова в эссе «Письмо старому другу», где тоже процитирована известная формула Горького: «Если враг не сдается…». Причем совпадает время написания письма Яроцкого и эссе Шаламова, которое было откликом на процесс Синявского и Даниэля. Создается впечатление, что Яроцкому был известен текст эссе.
14 октября 1970 года Яроцкий писал Исаеву, что прочитал книгу Воронского «За живой и мертвой водой»: «Читал ее и раньше, но, мне кажется, без третьей части. Впечатление противоречивое, но некоторые места просто терзают душу. Особенно мне запомнилось место, где говорится о марксисте, объясняющемся в любви, и о том, как мать Г<алины> А<лександровны> заплакала, видимо, предчувствуя то, что ей уготовано судьбой и до и после революции. Хороши цитаты из Протопопа Аввакума «…до самыя смерти», так и получилось, А<лександр> К<онстантинович> стоял за правду до смерти. Вообще, много пророческого о грядущем поколении, о равнодушии и примазавшихся. У него есть отдельный рассказ, где эта тема раскрыта глубже. Чудная книга, теперь ее читают мои друзья…
Привет Галине Александровне, от души поздравляю ее с книгой»[68].
В письме 15 января 1972 года, откликаясь на смерть А. Т. Твардовского, Яроцкий писал Исаеву, что Твардовский «…был тем, чем был Александр Константинович в двадцатые годы»[69].
Мнение Яроцкого о повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»: «Конечно, Солженицын не видел и малой части того, что пало на мою долю, он был в рабочем лагере, а я был в лагере уничтожения. Он был после войны, а я в руках Н. И. Ежова, так сказать, на самой свадьбе, а это разные эпохи и разная степень ужаса», – совпадало с впечатлением Шаламова.
Шаламов в письме Б. Н. Лесняку от 5 августа 1964 г. заметил, что современники не могут себе представить, какие страдания довелось испытать колымским лагерникам в конце 1930 гг. Читатели воспринимают повесть «Один день Ивана Денисовича» как «…изображение картины “ужасов” – а до подлинного ужаса там очень, очень далеко…»[70].
А. И. Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» называл Шаламова летописцем Колымы и по этой причине собирался исключить Колыму «из охвата этой книги»[71]. Солженицын соглашался, что лагерное испытание Шаламова «…горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт»[72].
В этих высказываниях обозначен сквозной мотив творчества бывших колымских заключенных: они всегда помнили, что, несмотря на общую лагерную судьбу, им достались испытания разной степени тяжести. Проникнута особым драматизмом переписка В. Шаламова и Г. Демидова[73]. Демидов, обиженный на Шаламова за «безапелляционность в наставлениях и разносный тон», 27 июля 1965 года писал ему: «…за кого ты принимаешь меня самого? За придурка, прохлябавшего по поверхности колымской лагерной жизни где-нибудь в Дебине или подобном злачном месте?»[74]
Смысл упреков лагерного товарища в облегченном варианте лагерного режима был понятен тем, кто прошел через Колыму: в его подтексте скрывались подозрения по поводу того, какой ценой были куплены эти поблажки.
У Яроцкого особый интерес вызывала литература о Колыме. В письме И. С. Исаеву 10 июля 1981 г. он перечислил, какие книги о Колыме ему удалось собрать в своей библиотеке: «“Прописан на Колыме” Гарающенко, “Человек рождается дважды” Вяткина[75], “Территория” Куваева, “На севере дальнем” – альманахи 1962 и 1959 г., “По колымской трассе” Ульриха, “Дальстрой” – сборник, “За линией Габерландта” Пальмана, “Магадан” Цвика, “По таежным тропам” Костерина[76]. Из этих книг заслуживают глубокого интереса “На Севере Дальнем” 1962, “Территория” и “Таежными тропами”»[77].
Яроцкий обратил внимание на книгу А. И. Алдан-Семенова «Барельеф на скале»[78] и воспоминания Горбатова «Годы и войны». Об Алдан-Семенове Шаламов писал Лесняку 5 августа 1964 г.[79], 26 апреля 1964 г. Шаламов советовал ему прочитать публикацию А. В. Горбатова «Годы и войны»[80]: «…воспоминания о Колыме одного из колымских доходяг – генерала армии Горбатова… Речь идет о 1939 годе, о Мальдяке и о больнице 23-го километра. Обязательно найди и прочти. Это первая вещь о Колыме, в которой есть дыхание лагеря (и истина), хотя в уменьшенном “масштабе”»[81].
Выполняя просьбу Шаламова присылать книги магаданского издательства, Б. Н. Лесняк отправил ему книгу Виктора Вяткина: «В ней кое-что рассказано о заключенных. Книга не раскрывает всей правды о Колыме, ее трагедийном облике, о цене, заплаченной за освоение края»[82].
Шаламов был разочарован книгой Вяткина, он хотел получить из Магадана «…описания географические, исторические работы, документы, дневники, мемуары, исследования, все, что угодно, но не бессовестную болтовню господина Вяткина. …Эту “книгу” написал подлец»[83], – с возмущением выговаривал он Борису Лесняку 14 января 1965 г., извещая о получении посылки.
Яроцкий внимательно прочитал книгу В. Вяткина «Человек рождается дважды»[84], цитировал его описание облика Гаранина: «Рядом с Павловым (начальник Дальстроя, сменивший Берзина) шел Гаранин. Он был среднего роста, плотный, кругленький, с короткой шеей и пухлым лицом. Если бы не мутный взгляд, то его можно было бы принять за добродушного человека».
Яроцкий привел свидетельство Вяткина о том, какой ужас охватывал заключенных и администрацию, когда появлялся Гаранин, и как на каждом прииске он просматривал личные дела заключенных, выбирая, кого отправить в штрафные отделения, кого оставить жить, а кого послать умирать. Гаранин не видел людей, а изучал их личные дела, и на основании дел определял судьбы заключенных.
А.М. Бирюков приводил свидетельство Вяткина о сменившем Берзина начальнике «Дальстроя» К. А. Павлове: «Любая встреча с ним не сулила ничего хорошего… Павлов никогда не повышал голоса, но его слова заставляли бледнеть и теряться. Каждое его распоряжение воспринималось как закон и немедленно выполнялось…»[85].
Очевидно, сходство литературных интересов колымчан было обусловлено их общим лагерным прошлым. Кроме того, они состояли в переписке и делились друг с другом сведениями об интересных книгах и журнальных публикациях.
Яроцкий живо откликнулся на сообщение Исаева о том, что он читал книгу Пильняка: «…Пильняка читал старого или есть новое издание? Кстати, как называется и где была опубликована повесть Б. Пильняка о Фрунзе? Я ее… в 1925–26 гг. читал в толстом журнале, а в каком – не помню. Говорили, что эта повесть была изъята»[86], – писал он 10 июля 1981 г.
Вопросы А. С. Яроцкого подтверждают его репутацию знатока советской литературы 1920 гг.: он точно называет основные сведения о публикации «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка в № 5 «Нового мира» в 1926 г., из-за которой возник громкий политический скандал, повлиявший на судьбу редактора «Нового мира» В. П. Полонского и на А. К. Воронского, обвиненного в том, что он рассказал Пильняку о причинах гибели М. В. Фрунзе.
Интерес А. С. Яроцкого к «Повести непогашенной луны» имел личные причины. В семейной хронике Яроцкий более подробно написал о причастности его дяди, А. И. Яроцкого, работавшего до 1925 г. в санитарном управлении Кремля, к истории болезни М. В. Фрунзе. Со смертью командарма был связан уход А. И. Яроцкого с этой должности.
По воспоминаниям Яроцкого, в один из приездов в Ленинград Александр Иванович рассказал его матери: «…Фрунзе нуждался в операции в области желудка, но его сердечная деятельность была настолько ослаблена, что он не мог выдержать наркоза» (ЛП. С.24).
По словам дяди, на консилиуме он сказал, что без операции больной имеет шанс выжить, а операция убьет его наверняка.
Про своих коллег он говорил – это не врачи, а византийские царедворцы, намекая на решение высокой партийной инстанции о необходимости операции (ЛП. С. 25).
Яроцкий помнил, что номер журнала с этой повестью был сразу же изъят, но ему удалось взять повесть у знакомых и прочитать. Он знал, что Б. Пильняк был одним из популярных писателей 1920-х гг., погиб в 1937 г., был реабилитирован, но его произведения не переизданы.
Эти факты подтверждают выводы современного исследователя творчества Б. А. Пильняка Л. Н. Анпиловой о широкой известности этой повести: «Сразу после выхода в свет повесть вызвала бурю негодующих откликов: современники увидели в ней злобный памфлет на советскую действительность, связывая сюжет повести с обстоятельствами гибели Фрунзе…»[87]. Воспоминания Яроцкого свидетельствуют о том, что повесть Пильняка он запомнил в середине 1920 гг. именно потому, что она была связана с тайной смерти Фрунзе.
Лучшими писателями 1920 гг. Яроцкий считал репрессированных Б. Пильняка, И. Бабеля, Б. Ясенского. Его взволновало известие о том, что установлено имя литератора[88], по доносу которого был арестован И. Бабель: «Недавно я узнал, что живет и здравствует человек, оговоривший Бабеля. Когда началась эпоха реабилитаций, то узнали фамилию автора доноса… с ним перестали разговаривать, даже исключили из сою за писателей, а потом снова забыли, и сейчас все у него в порядке…».
Интерес Яроцкого к Бабелю тоже имел личные причины: автор «Конармии» писал о польском походе Буденного 1920 г. Об этом походе Яроцкому рассказывал его друг, Н. Е. Бреус, который воевал на польском фронте в составе 27-й Омской дивизии под командованием героя гражданской войны Путны. По свидетельству Бреуса, «…армия рассматривала поход на Варшаву как возможность “подать руку германскому пролетариату”, все были уверены, что появление Красной армии в Германии вызовет немедленно пролетарскую революцию и установление советской власти не только в Польше и Германии, но и во всей средней Европе» (ЛП. С. 243–244). Но когда 27-я дивизия подошла вплотную к Варшаве и Путна готовил приказ о ее взятии, Красная армия встретила сопротивление и была отброшена назад: «Для Троцкого польская война была этапом, даже эпизодом перманентной революции, а получилось так, что это был ее конец» (Там же).
В «Золотой Колымы» упоминается хороший знакомый Бабеля первый секретарь обкома партии Кабардино-Балкарии Бетал Калмыков. Яроцкий вспоминал, что во время повторного следствия в минуту отчаяния он хотел повторить поступок Бетала Калмыкова: «…сесть на табуретку, а потом выхватить ее из-под себя и ударить уполномоченного по голове, добраться до пистолета, застрелить пару надзирателей, а потом и себя». Лагерники считали, что такое удалось заключенному Калмыкову.
С 1937 г. Калмыков участвовал в сталинских репрессиях, входил в состав тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30 июля 1937 г. Но в ноябре 1938 г. был арестован по обвинению в создании контрреволюционной организации и терроризме. 27 февраля 1940 г. бывший полновластный хозяин Кабардино-Балкарии Бетал Калмыков был расстрелян. Бабель собирал материал для очерка о нем, издание которого планировалось в коллективной книге «Две пятилетки»[89].
Яроцкий откликнулся на известный эпизод литературной биографии Шаламова, указав в завещании: «Ни при каких обстоятельствах не публиковать ее («Золотую Колыму». – Н. М.) за рубежом».
Когда «Колымские рассказы» были опубликованы в журнале «Посев» в Германии и «Новом журнале» в Нью-Йорке, Шаламов был вынужден выступить с отречением от этих публикаций. В февральском номере «Литературной газеты» за 1972 г. печаталось письмо, датированное 15 февраля. Шаламов писал: «Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветским журналом “Посев” или “Новым журналом”, а также с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность»[90].
О том, что Шаламов в этом письме был искренним, свидетельствует его признание Воронской в том, что «…разумеется, только в Советском Союзе» он хотел бы издать свою книгу, написанную в традициях воспоминаний Воронского «За живой и мертвой водой»[91]. Это признание сделано вслед за публикацией в «Литературной газете» его протеста против публикации за границей «Колымских рассказов» без согласия автора.
Яроцкий запретил публикацию «Золотой Колымы» за границей, и, таким способом, не называя имени Шаламова, высказал отношение не только к зарубежным публикациям «Колымских рассказов», но и несогласие с позицией Солженицына, издававшего «Архипелаг ГУЛАГ» за границей.
Между тем в Советском Союзе книги бывших заключенных при их жизни оставались под запретом. Единственный рассказ Шаламова «Стланик» был напечатан в журнале «Сельская молодежь» в 1965 г.
В письме Я. Ямпольского лагерному товарищу И. Исаеву есть свидетельство о том, как ему отказали в публикации его воспоминаний, мотивируя тем, что их могут прочитать за границей: «Меня потом вызвали в редакцию “Правды”, где редколлегия много со мной беседовала, расспрашивала о методах следствия и последующих событиях на каторге. Мне тогда сообщили: “Мы вам сочувствуем, но исполнить вашу просьбу – напечатать в газете ваши воспоминания не можем, так как газета читается во всех зарубежных странах”»[92].
Галина Воронская не дожила до выхода в свет первого сборника рассказов «На далеком прииске»[93] в альманахе, составителем и редактором которой был А. М. Бирюков.
Герои «Золотой Колымы» – исторические деятели
Общими героями лагерной прозы становились известные исторические деятели советской эпохи. Одним из них в «Золотой Колыме» Яроцкого является Л. М. Каганович. Он сыграл в судьбе Яроцкого роковую роль. О личной встрече с наркомом он написал в книге «Лицом к прошлому»:
«Пришлось мне увидеть и Л. М. Кагановича. В те времена я считал себя крупным специалистом и, когда назначили Кагановича, то подумал – очередная политическая фигура, железнодорожного дела не знает, будет море пустозвонных фраз и только…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Яроцкий Алексей Самойлович (1908–1983) – инженер Научно-исследовательского института эксплуатации железнодорожного транспорта, начальник сектора оперативного учета и планирования Центрального управления вагонного хозяйства НКПС. Родился в Санкт-Петербурге, в семье государственного служащего. С 1917 по 1923 г. Алексей Яроцкий с матерью и братьями жил на Украине у родственников, с 12 лет работал пастухом и сельскохозяйственным рабочим. В Петрограде закончил советскую трудовую школу № 192 на Петроградской стороне. В 1926 г. поступил на экономический факультет Петроградского политехнического института. В институте познакомился с Бреусом и Арнольдовым, которые предложили ему должность начальника сводно-аналитической группы отдела статистики в управлении Московской Белорусско-Балтийской железной дороги. В 1931 г. устроился старшим экономистом в управление Московско-Курской железной дороги, одновременно преподавал в Транспортно-экономическом институте, а после его слияния с Московским институтом инженеров транспорта продолжил работать и там. С 1933 г. трудился старшим инженером сектора оперативного учета центрального вагонного управления наркомата путей сообщения. Был арестован в ноябре 1935 г. Провел около полугода в одиночной камере внутренней тюрьмы Лубянки и после приговора еще месяц в Бутырской тюрьме, был приговорен Особым совещанием к пяти годам лагерей по статьям 58-7 и 58–11.
С февраля 1937 г. работал старшим экономистом на прииске Нижне-Берзинский, а в апреле был вызван на повторное следствие. Вернулся обратно в лагерь на прииск Утиный в июне 1938 г. Освободился в 1940 г., когда находился в лагере на прииске Утиный на участке Дарьял.
После освобождения работал вольнонаемным главным бухгалтер ом в больнице УСВИТЛ, жил с семьей в поселке Левый берег (Дебин). Реабилитирован в 1956 г. В 1958 г. перевез семью из Магадана в Кишинев, а сам переехал в Кишинев в 1959 г., поступил на должность корректора в Институт экономики АН МССР. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал в институте до 1976 г. Последние годы жил в Симферополе.
2
Исаева Татьяна Ивановна (р. 1951) – младшая дочь Г. А. Воронской и И. С. Исаева.
3
Яроцкий А. С. Золотая Колыма / А. С. Яроцкий; подг. текста, прим. Т. И. Исаевой. Железнодорожный: РуПаб+, 2003. 168 с.; М.: РуПаб+, 2010. 268 с. Источником текста этого издания была журнальная публикация воспоминаний (Горизонт. 1989. № 1–4), в которой сделаны многочисленные сокращения авторской машинописи. Цитируется с указанием страниц в тексте в скобках – ЗК.
4
Яроцкий А. С. Лицом к прошлому / Подг. текста Т. И. Исаевой; предисл. Я. Б. Шпунта; коммент. Т. И. Исаевой, Я. Б. Шпунта. М.: ОнтоПринт, 2018. Текст книги «Лицом к прошлому» сверен с авторизованной машинописью. Цитируется с указанием страниц в тексте в скобках – ЛП.
5
Яроцкий Александр Иванович (1868–1944) – брат отца А. С. Яроцкого. Врач-терапевт. В 1889 г. окончил ВМА, работал земским врачом, с 1894 г. врач Обуховской городской больницы, затем Петропавловской больницы в Петербурге. В 1898 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Об изменениях величины и строения клеток поджелудочной железы при некоторых видах голодания». В 1899–1901 гг. ассистент клиники Женского медицинского института. В 1901–1902 гг. работал у И. И. Мечникова в Париже. В 1904–1918 гг. профессор Юрьевского университета, в 1919–1924 гг. профессор Крымского университета, с 1924 г. профессор терапии 1-го МГУ, затем профессор терапии Московского областного клинического института. В научной работе опирался на исследования И. П. Павлова. Занимался литературой, сотрудничал в журналах «Новое слово», «Начало», «Северный курьер» (Коммент. Т. И. Исаевой//ЛП. С.16–17).



