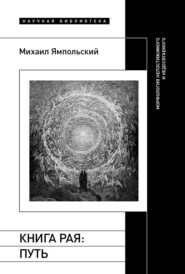скачать книгу бесплатно
–XIII
si?cle). Р. 24.]. В «Сумме теологии» Фомы Аквинского порядок репрезентируется законом, и сама эта репрезентирующая функция требует от него упорядоченности:
…ветхий закон, как уже сказано <…>, был установлен для образного представления таинства Христа. Однако то, что образно представляет нечто другое, должно быть определенным, дабы являть собой некое подобие такового[171 - Фома Аквинский. Сумма теологии. Т. IV: Первая часть второй части. Вопросы 68–114 (102, 4). М.: КД «Либроком», 2012. С. 452.].
Закон самой системой правил позволяет подобию обрести некую внятность. Но, как пишет святой Фома, ветхозаветный закон был дан народу, который не имел места, но «странствовал в пустыне, не имея постоянного поселения». Когда же народ осел на земле в эпоху Давида и Соломона, божественный порядок получил новое выражение: был построен храм. При этом место для жертвоприношений было указано Аврааму Богом, но храм не был построен сразу после указания этого места. Фома так объясняет этот разрыв между указанием места и возведением храма:
Однако до указанного времени не следовало обозначать это место посредством строительства храма – по трем основаниям, которые указывает рабби Моисей. Первая причина заключалась в том, что язычники могли присвоить себе это место. Вторая – в том, что они могли его разрушить. Третья – в том, что каждое из племен могло претендовать на это место, и результатом стали бы распри и междоусобица. И потому храм был построен только после появления царя, который мог бы пресечь эти распри. А до того для отправления божественного культа использовалась скиния, которая устанавливалась в различных местах, как бы указывая на то, что для почитания Бога еще не установлено определенное место. И в этом буквальный смысл различия между скинией и храмом.
А образный смысл может заключаться в том, что скиния и храм обозначали два разных состояния. В самом деле, скиния, чье местоположение изменялось, обозначала состояние изменчивой земной жизни. А храм, чье местоположение было постоянным и неизменным, обозначал состояние будущей жизни, которое никогда не изменится. И потому сказано, что при строительстве храма не было слышно звуков топоров и пил: чтобы обозначить то, что состояние будущей жизни будет свободно от любого движения беспокойства[172 - Там же. С. 453.].
Таким образом, возникают два места специальной манифестации Бога. Одно долгое время держится в секрете и обнаруживает себя при строительстве храма, который отсылает к будущему порядку неизменности. Состоянию же мирского существования соответствует постоянно меняющая свое место скиния. Скиния – это символ неопределенности места и блуждания. Блуждающее место при этом парадоксально, оно отрицает внятную локализацию божественного и одновременно символизирует стабильную локализацию устойчивого порядка, которая еще не состоялась. Между мирским и трансцендентным таким образом устанавливается причудливая связь, похожая на связь «времени» как такового и «некоего времени», о которой говорит Кароцци.
Максимально полно эта неопределенность проявляет себя в практике монашества. Монах – это тот, кто уходит из мира и встает на путь приближения к Богу. Между тем монастырская жизнь в принципе исключала передвижения и должна была разворачиваться внутри замкнутого пространства и установленного уставного порядка. В монастырских правилах святого Бенедикта, послуживших образцом монастырским порядкам, свобода в принципе отрицается, в том числе и свобода передвижения в пространстве:
Тесным шествуют они путем, но Господь говорит о нем: «…тесен путь, вводяй в живот» (Мф. 7: 14)[173 - В Евангелии от Матфея содержится различение двух путей, узкого и широкого, и различение это сыграет большую роль в истории монашества и спасения: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7: 13–14).]. Не по своему произволу живут они, не своим желаниям следуют и не самоугодия ищут, но, пребывая в киновии, действуют по присуждению и повелению другого, желанием желая, да начальствует над ними авва[174 - Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы, собранные епископом Феофаном. М.: Тип. И. Ефимова, 1892. С. 602–603.].
Бенедикт в предисловии к своим правилам различал четыре типа монахов: киновиты, живущие в монастыре, анахореты, ушедшие из стен монастыря в пустыню, сарабанты – монахи, не подчиняющиеся правилам и закону: «…вместо всякого закона имеют свои самоугодливые пожелания»[175 - Там же. С. 595.]. И последний, самый неприемлемый тип монахов —
гироваги (шатайки), которые всю жизнь блуждают туда и сюда по три и четыре дня, гостя по разным кельям; все шатаются и никогда не сидят на одном месте, – это самоугодливые рабы чрева; они гораздо хуже сарабантов, и о поведении их лучше молчать, чем говорить[176 - Там же.].
Гироваги (gyrovagi) – это люди бесконтрольного блуждания, подрывающие тем самым всякий порядок мира – stabilitas, который Бенедикт считал основой монашеского существования. Отсюда парадоксальное требование упорядоченного блуждания, которое он называет вслед за Христом «узким путем». Бенедикт неоднократно говорит об узком пути, но умалчивает о другом пути – «широком». Идея двух путей яснее разработана в ином своде монастырских правил – Regula Magistri («Правила мастера», или «Правила учителя») – анонимном тексте, повлиявшем на Бенедикта. Здесь обсуждается поиск правильного пути к Богу, следуя которому верующий подходит к перекрестку:
Исследуем, по какому из этих путей мы можем достигнуть Бога. Если мы пойдем налево, нам следует опасаться – дело в том, что путь широк, – что он, скорее всего, приведет нас к погибели. Если же мы повернем направо, то окажемся на верном пути, так как путь этот узок, и именно он ведет усердных служителей к их истинному Господину[177 - La R?gle du Ma?tre, v. 1. Introduction, texte et notes par Adalbert Vog?е. Paris: Cerf, 1964. Р. 291.].
Сама идея двух путей имеет универсальное хождение[178 - См. об этом: Элиаде М. Священное и мирское // Элиаде М. Избр. соч. М.: Ладомир, 2000. Элиаде описывает два главных атрибута узкого пути – узкий мост и тесные врата (С. 339–341).] на Западе, она формулируется уже Гесиодом[179 - На это указывает Франц Кюмон: Cumont F. Lux Perpetua. Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1949. Р. 278. Приведу соответствующий фрагмент Гесиода:Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко.Но добродетель от нас отделили бессмертные богиТягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога,И трудновата вначале. Но, если достигнешь вершины,Легкой и ровною станет дорога, тяжелая прежде(Гесиод. Труды и дни (288–292) // Гесиод. Полн. собр. текстов. М.: Лабиринт, 2001. С. 60).], но получила наиболее полную разработку в притче о молодом Геркулесе, выбирающем, по какому пути пойти – порока или добродетели, рассказанной софистом Продиком у Ксенофонта. Любопытно, что у Продика Геркулес выбирает правильный путь, покинув мир: «Геракл ушел в пустынное место и сидел в раздумье, по которому пути ему идти»[180 - Ксенофонт. Воспоминания о Сократе (II, 1, 22). М.: Наука, 1993. С. 43.]. Этот сюжет затем был связан с псевдоаристотелевской символикой буквы Y, чьи ветви якобы представляют развилку двух путей[181 - См.: Panofsky E. Hercules am Scheidewege. Leipzig; Berlin: Studien der Bibliothek Warburg, xviii, 1930. Р. 42ff. Панофский считал, что этот сюжет возродился в основном только в эпоху Возрождения, начиная с трактата Колюччо Салютати «О трудах Геркулеса» (De laboribus Herculis, ок. 1400).]. Эрвин Панофский, исследовавший историю этого сюжета, считал, что его забвение в Средние века среди прочего было связано с тем, что он приписывал Геркулесу полную свободу выбора двух путей, в то время как христианство не признавало этой индивидуальной свободы относительно основного направления жизни. Этот выбор предопределял Христос[182 - См. также: Mommsen T. E. Petrarch and the Story of the Choice of Hercules // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1953. Vol. 16. № ?. Р. 179.]. Иными словами, уже сам выбор был подозрительной принадлежностью гибельного широкого пути.
Гибельность шатаек-гироваг заключается не просто в бессмысленности их движения, но и в том, что они всюду находят себе приют и пищу (они «гостят по разным кельям»), в то время как узкий путь спасения предполагает путь одинокого изгнанника и чужака, который не может вписаться ни в какую среду. Апостол Павел говорил в этой связи об Аврааме:
Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, <…> ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог (Евр. 11: 8–10).
Узость пути всегда предполагает отчуждение от мира, неспособность в нем обустроиться и раствориться. Речь шла об особом режиме движения, который по-гречески назывался xeniteia, предполагавшем отчуждение даже от родных и семьи. Такого рода отчужденное движение не противоречило монашеству[183 - Constable G. Monachisme et p?lerinage au Moyen Age // Revue Historique. Juillet-septembre 1977. Vol. 258. Fasc. 1 (523). Р. 3–27. Лев Карсавин подчеркивает радикализм монашеского отвержения всего мирского: «Монах без разрешения аббата не может видеться даже со своими родителями; дозволение аббата требуется и для письменных сношений с ними. Если монаху что-нибудь пришлют или принесут, он не может прикоснуться к этому, не спросив аббата, и должен поступить так, как тот ему укажет» (Карсавин Л. Монашество в Средние века. М.: Ломоносов, 2012. С. 42).].
В апокрифических «Деяниях Иуды Фомы апостола», чрезвычайно влиятельном тексте раннего монашеского аскетизма, это отчуждение провозглашается способом слияния с Христом:
…дай нам свободу, что в Тебе. Смотри, Господь мой, Тебя, только Тебя любим мы, и смотри, Господь мой, мы покинули дома наши и дома близких наших и ради Тебя стали странниками без принуждения. Смотри, Господь мой, мы оставили имения наши ради Тебя, чтобы у Тебя приобрести имение жизни, которое не может быть отнято. Смотри, Господь наш, мы покинули всех наших близких ради Тебя, дабы в родстве Твоем соединиться. Смотри, Господь наш, мы покинули отцов наших, и матерей наших, и питомцев наших, дабы Отца Твоего Возвышенного увидеть и вкусить пищи его Божественной. Смотри, Господь наш, мы оставили жен наших плотских и плоды земные, дабы соединиться в единстве Твоем истинном и получить плодов небесных, которые никто не отберет у нас, но которые с нами будут и с ними мы будем[184 - Новозаветные апокрифы / Сост. С. Ершова. СПб.: Амфора, 2001. С. 215.].
Дэниэл Канер подчеркивает, что аскетическая нищета бродячего монаха была в раннем христианстве имитацией Христа, который сам понимался как отчужденный от мира и одновременно снизошедший до мира во имя дарования людям спасения. В Евангелии Христос говорит: «…лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8: 20). Апостол Павел писал: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал (ptocheusen) ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою (ptocheia)» (2Кор. 8: 9). Канер замечает, что Павел использует слово ptochos, которым обозначался человек, достигший абсолютной бедности, в отличие от penes – бедняка, зависимого от других или добывающего себе на пропитание трудом[185 - Caner D. Wandering, Begging Monks: Spiritual Authority and the Promotion of Monasticism in Late Antiquity. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2002. Р. 59–60.]. Нищета здесь – не просто знак чистой человечности, не прикрытой никакой видимостью, но форма тотального отчуждения от социума.
Само отчужденное движение оказывалось парадоксально связанным с установлением порядка, который мог возникнуть только через уход от мира. Герхарт Ладнер, посвятивший содержательное эссе «диалектике» отчуждения и порядка в режиме движения у средневековых паломников и монахов, замечает по этому поводу:
…средневековый человек постоянно возобновлял утверждение порядка мира, который бы утратил духовную жизнь, если бы он не трансцендировался с помощью различных видов отчуждения по отношению к привычной схеме вещей[186 - Gerhart B. Ladner. Homo Viator: Mediaeval Ideas on Alienation and Order // Speculum. Apr. 1967. Vol. 42. № 2. Р. 244–245.].
Монастырь в этой системе воплощал отгороженность от мира и своеобразную stabilitas loci – привязанность к месту. Closter, clo?tre – происходили от латинского claustrum (замок, преграда, закрытое место) и в конечном счете от глагола claudere (закрывать). Жак Ле Гофф поясняет:
Имагинарный смысл обители и заключается в образе монастырской ограды, в христианском имагинарном связанной с образом сада. Средневековый сад – преимущественно сад огороженный, и эта его замкнутость так же хорошо способна <…> выступать духовным пространством, с которым начиная с XI–XII веков очень тесно связан образ Святой Девы. Покончив с превратностями земной жизни, Святая Дева после Успения оказывается либо на небесах, либо в закрытом саду. Основополагающее свойство обители как закрытого сада – это качество, которым обладает рай, и символическая средневековая мысль действительно зачастую говорит о внутренней части монастыря как о райских кущах[187 - Ле Гофф Ж. Герои и чудеса Средних веков. М.: Текст, 2011. С. 103.].
Эта отгороженность превращала монастырь в метафору человека,
ушедшего в собственные глубины; это часть христианской идеологии, которая, развиваясь, провозглашала приоритет внутреннего мира и покоя перед лицом мирских треволнений – по контрасту и взаимно дополняя скитания homo viator, человека странствующего[188 - Там же.].
Мне, однако, кажется, что речь тут идет не только о контрасте, но о трансцендировании, о котором говорит Ладнер. Странствующий монах – homo viator – воплощает выход за пределы ограды крайней степени огражденности и отчужденности от мира. По существу, мы имеем трансцендирование отделенности от мира, через которое эта отчужденность являет себя вовне. Одновременно этот выход за пределы усиливает внутреннюю закрытость монастыря как институции, придает ей более отчетливый упорядоченный смысл. Но блуждания способны парадоксально устанавливать порядок, только если в них самих отражается некий порядок. И это, в сущности, и есть узкий путь.
12. Святое и священное. Хора
У Филона Александрийского есть трактат «О бегстве и нахождении», где он рассуждает о причинах, которые толкают персонажей Ветхого Завета бежать из дому, от отцов или от мужей. Филон называет три причины – ненависть, страх и стыд. В центре трактата оказывается бегство Иакова из дома Лавана, тестя Иакова, у которого тот нашел приют, когда спасался от преследований своего брата Исава. Он прожил у Лавана двадцать лет и женился на двух его дочерях и вдруг «ушел со всем, что у него было; и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад» (Быт. 31: 21). В чем причина ненависти, испытываемой Иаковом к Лавану? Филон объясняет:
Существуют люди, делающие для себя богов из субстанции, лишенной всяких отличительных качеств, и родов и формы, не ведая причину, которая приводит вещи в движение, не испытывающие тревоги по этому поводу и не желающие узнать о тех, кто знает, но довольные собственным невежеством и непониманием самого важного знания, того, что первично и является единственной и абсолютной необходимостью для понимания. Лаван относится к такого рода людям, так как Священное Писание приписывает ему стадо, совершенно лишенное отличительных знаков. А материя без отличительных знаков не отмечена в мироздании, подобно человеческой душе, лишенной знания и учителей[189 - Philo of Alexandria. On Flight and Finding (II, 7–9) // The Works of Philo Complete and Unabridged. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1993. Р. 321.].
Филон настаивает на том, что Иаков отличается от тех, кто поклоняется недифференцированной субстанции, хотя бы потому, что его стада имеют скот с отметинами и «частично цветной». В Книге Бытия Бог отмечает Иакова именно крапленым скотом: «Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал: пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых» (31: 8). Эти знаки на овцах – символы, так как «роды в мире отмечены знаками и разным цветом, как и разум людей, которые были научены и любят учение»[190 - Ibid (II, 10). Р. 322.]. Отмеченность скота у Иакова существенна, потому что всякое творение, согласно Филону, обладает формой и несет на себе «отпечаток образа совершенного мира»[191 - Ibid (II, 12).]. Этого различия достаточно, чтобы оправдать бегство Иакова от Лавана как бегство артикулированного сознания и носителя божественного порядка и различий из области полной недифференцированности.
Таким образом, бегство, уход, скитания неожиданным образом не просто устанавливают различия и дифференциации, но вносят порядок в неопределенность исходного места. Джорджо Агамбен специально остановился на учении Филона о fuga saeculi – бегстве от мира – как процессе, по его выражению, «конституирующем для общин верующих», то есть учреждающих порядок их творения и существования. По мнению Агамбена, сам маршрут, который избирает Иаков в своем бегстве от Лавана, согласно Филону, иерархичен: он артикулирует организацию социума и веры. Дело в том, что в мидраше, использованном Филоном, говорится о различных местах убежища и изгнания для бегущего от преследований. Эти места —
самые настоящие города, каждый из которых, однако, символизирует ту или иную божественную силу. Их шесть: первый, город-мать (metropolis), – это божественное слово (logos), он также является первым из тех, где имеет смысл искать убежище. Остальные пять, являющиеся «колониями» (apoikiai) первого, описываются таким образом: «Первой является творческая сила (poietike), посредством которой Бог сотворил мир Своим словом; вторая – царская сила (basilike), посредством которой Творец правит (archei) тем, что Он сотворил; третья – это сила милосердия (hileos), посредством которой Создатель заботится и сочувствует Своему созданию; четвертая – это законодательная сила, посредством которой Он упорядочивает то, что сделал; пятая – это часть законодательной силы, которая запрещает то, что не должно быть сделано». Иными словами, бегство понимается как процесс, ведущий беглеца или изгнанника через шесть городов, также являющихся учреждающими «политическими» силами: это божественное слово (отождествляемое с первосвященником), творение, царствие, управление, позитивное и негативное законодательство[192 - Агамбен Дж. Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни. М.; СПб.: Изд-во Ин-та Гайдара; ф-т свободных искусств и наук СПбГУ, 2020. С. 77.].
Упорядоченность бегства и изгнания позволяет Агамбену установить связь между изгнанием и порядком литургии – связь, проявляющуюся в учении о церковном аскетизме Амвросия Медиоланского, который, как известно, испытал сильное влияние Филона. Процитирую Агамбена:
Тема бегства от мира, сущностно конститутивная для монашества, здесь смыкается с церковной практикой, в которой беглец предстает как самый настоящий служитель общины: «следовательно, сбежавший от своих является служителем Его алтаря» (fugitans igitur est suorum sacri altaris eius minister). Именно на этой основе монашеское изгнанничество из мира может быть помыслено как основание нового сообщества и новой публичной сферы[193 - Там же. С. 79.].
В свете сказанного можно предположить, что странствия скинии находятся в сложном отношении с возведением храма, который возникает позже, как предельно дифференцированное и неизменное пространство, воплощенное в камне. Чтобы лучше понять связь движения с установлением священного пространства храма, следует, вероятно, начать с различения «священного» (то есть области, связанной с трансцендентным усилиями людей) и «святого» (то есть субстанциально относящегося к Богу). Прояснение этого различия провел Эмиль Бенвенист. Ему соответствуют разные термины, их обозначающие. В латыни есть два слова – sacer и sanctus. Sacer определяет область святого (трансцендентного), совершенно недоступного человеку, исключенного из человеческого сообщества (проблематику такого исключенного из сообщества homo sacer в последние годы развивал Джорджо Агамбен). Sanctus – это священное, возникающее в результате ритуальных или магических действий человека:
Различие между sacer и sanctus проявляется во многих обстоятельствах. Существует не только разница между sacer (естественное состояние) и sanctus (результат произведенного действия); говорят via sacra, mons sacer, dies sacra, но всегда murus sanctus, lex sancta. Стена может быть sanctus, но не область, которую она охватывает и про которую говорят sacer; sanctum – это то, что запрещено определенными санкциями. Но само вхождение в контакт со священным не вызывает состояния sanctus; недостает санкции, чтобы соприкасающийся со священным (sacer) становился и сам sacer <…> Можно сказать, что sanctum – это то, что находится на периферии sacrum, что служит для полной изоляции от контакта с ним[194 - Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс – Универс, 1995. С. 349.].
Бенвенист говорит о святом как об определенной области, которая не может быть установлена и которая принадлежит богам в силу «естественного состояния». Святое в латинском употреблении определяется отделенностью от профанного – profanes, то есть находящегося за пределами fanum’a – местонахождения святилища или храма в древнем Риме.
В греческой культуре, однако, различие святого и священного определяется совершенно иначе. Здесь существует другая пара – hieros (hieron) и hagios (hagion). Hieros применяется «к вещам и существам, которые не кажутся проявлением священного». В некоторых случаях он может пониматься как «сильный», «живой». Первичным значением оказывается «исполненный силы благодаря влиянию божества»[195 - Там же. С. 351.], а производным от него – «священный». Так, hieros у Гомера относится к колеснице, которую кони отказывались везти, но которых Зевс подвиг к движению. Самое странное употребление этого слова в «Илиаде» относится к рыбе, которая определяется как hieron, хотя это слово здесь «как будто явно обозначает „бьющуюся, дергающуюся“»[196 - Там же. С. 352.]. Тут отчетливо видно отличие от латыни. Если sacer – это область, принадлежащая Богу по естеству, и в нее ничто не проникает, она отделена стеной, то hieros – это область проникновения божественной силы, а hagios – само по себе субстанциально святое, нечто аналогичное sacer.
Мари-Жозе Мондзен использовала эту оппозицию для анализа икон и, шире, греческой христианской традиции ранних отцов церкви. В основу ее исследования легла полемика вокруг иконоборчества в Византии и, в частности, «Антирретики» («Возражения» или «Опровержения», 818–820) патриарха Никифора и его полемика c императором иконоборцем Константином V. По наблюдению Мондзен, в христианской традиции упомянутые понятия связаны с идеей воплощения, когда тело каждого верующего становится для тела Христа «жилищем благодаря евхаристическому таинству. Как мы увидим, священному, hieron, предназначено стать вместилищем, сосудом святого, hagion»[197 - Мондзен М.?Ж. Образ, икона, экономия: Византийские истоки современного воображаемого. М.: V-A-C Press, 2022. С. 182.].
Никифор критикует Константина за то, что для него священный образ может проникнуть в hieros только с помощью таинства евхаристии, он в силу этого не может мыслить священное вне единосущности. Никифор же считает, что само подобие устанавливает особую связь между образом и иконой и наполняет иконное пространство святостью с помощью некой энергии:
Икона же, напротив, получает свою сакральность от пневматического веяния, преображающего подобие, и не нуждается в институции, ведающей таинствами. Святость (hagion) сообщается иконе действием ее образца, который, отсутствуя в самой своей святости, остается неосязаемым и невидимым. Священное (hieron) присутствие иконы среди других священных символов (hiera sumbola) – результат действия, которое ей свойственно внутренне. Именно икона своим заразительным присутствием порождает сакральность общественного пространства, внутри которого она излучает святость образца. Как изображение она не более чем священный символ, hiera, то есть ей подобает лишь честь и уважение (time), но как производная от образного образца, который свят, она имеет право на «проскинесис», почтительное коленопреклонение, радикально отличное от «латрии» – поклонения, адресуемого единственно образцу[198 - Мондзен М.?Ж. Образ, икона, экономия. С. 185.].
Икона не поддается, по мнению Мондзен, описанию в категориях sacer, sanctus, то есть чего-то, отграниченного от профанного «стеной» непостижимого трансцендентного. Икона – это место энергий, перехода святости от образца к изображению. Место активности. Именно этот элемент движения, противоречащий статике сакрального, позволяет иконе распространять hagios в мир. Мондзен говорит о возможности «контаминирующего распространения за пределами любых оград, границ и государственной иерархии»[199 - Там же. С. 186.]. В сущности, в иконе происходит нечто, выталкивающее ее за стены и открывающее путь к движению, блужданию и даже изгнанию. Сама икона может стать странницей. Но прежде всего она находится в лиминальном состоянии перехода, расположенного между внутренним и внешним, святым (сакральным) и священным. Икона для Никифора – это символ. Символ же
везде неотделим от вселенной профанных знаков, сакрализованных либо освящением, либо через смежность и общность с миром сакрального[200 - Никифор пишет: «И как при слушании слова значение возглашаемого не ограничивается слухом, ибо смысл говоримого переносится на вещи, так и созерцаемые на изображениях истории не останавливаются на одной только зрительной способности глаз, но созерцание видимых (образов) тотчас же переводит или возводит ум зрителя к высшему и главнейшему, не дозволяя священному действию останавливаться на символах, но от этого чувственного, близкого нам и обычного увлекая или вознося к духовному и к тому, что ими обозначается. Посему, созерцая как бы самые (обозначаемые образами) предметы, каждый увлекается ими, оказывается благодаря символам как бы в присутствии их» (Никифор, патриарх Константинопольский. Слово в защиту непорочной, чистой и истинной нашей христианской веры и против думающих, что мы поклоняемся идолам (62) // Творения святого отца нашего Никифора архиепископа Константинопольского, ч. 1. Свято-Троицкая Сергеева лавра, 1904. С. 311–312).]. Для sumbolon характерна прежде всего неединосущность. Среди символов, таким образом, Никифору придется установить различия, ибо его новая цель – позволить священному методично присваивать пространство благодаря активному контаминирующему принципу[201 - Мондзен М.?Ж. Указ. соч. С. 190.].
Понимаемый так символ вполне соответствует символу Фегелина, маркирующему переход от вещи к трансцендентному в промежутке метаксиса.
Наблюдения Мондзен дали толчок целому ряду исследований установления сакральных пространств в культуре. Российский медиевист Алексей Лидов дал разработке данной проблематики название иеротопии[202 - «Реликвии и особо почитавшиеся иконы становились конституирующей основой, своеобразным стержнем в формировании определенной пространственной среды. Она включала как постоянно видимые архитектурные формы и разного рода изображения, так и регулярно менявшиеся элементы (литургические ткани и драгоценная утварь, световые эффекты и запахи, обрядовые жесты и молитвословия), каждый раз создававшие уникальный пространственный комплекс. <…> Суть понятия [иеротопии] может быть сформулирована следующим образом: иеротопия – это создание сакральных пространств, рассмотренное как особый вид творчества» (Лидов А. Иеротопия: Пространственные иконы и образы парадигмы в византийской культуре. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2009. С. 9).]. Созвучной моим размышлениям оказалась разработка этого направления датской исследовательницей Николеттой Изар. Никифор в интерпретации Мондзен увидел в святости иконы не статику отгороженного сакрального пространства, но энергию и активность. Изар сосредоточилась на связи пространства и движения. Эту связь она определила в терминах хорографии (chorography). Ch?ra (хора) – понятие, привлекшее в последние десятилетия особое внимание, – часто переводится как «пространство», в отличие от другого понятия – topos, обычно переводимого как «место». Слово ch?ra связано со глаголом ch?rе?, означающим «отодвигаться, освобождать пространство», или же наоборот – «выступать вперед, продвигаться». Родственное с ch?ra слово chorоs выражает идею упорядоченного коллективного движения. Chor?s аstr?n значит – танец звезд, а chor?s melit?n – танец пчел. Существенно то, что chorоs обычно организован в виде кругового движения, и это понятие может быть даже переведено как «круговой танец». Отсюда и слово «хореография».
Эта связь с движением фундаментальна. Если topos – это место, приемлющее вещи и замыкающее их в себе, то пространство, не связанное с вещами, а как бы отдельное от них, организуется не как вместилище, но как развернутость движением. В сущности, речь тут идет о способности ch?ra производить вещи из себя в некоем динамическом режиме. Наиболее развернутое рассуждение о хоре содержится в «Тимее» Платона, где она определяется как некий «третий вид» (?????? ?????), связанный с генезисом вещей[203 - «Прежде достаточно было говорить о двух вещах: во-первых, об основополагающем первообразе, который обладает мыслимым и тождественным бытием, а во-вторых, о подражании этому первообразу, которое имеет рождение и зримо. В то время мы не выделяли третьего вида, найдя, что достанет и двух; однако теперь мне сдается, что сам ход наших рассуждений принуждает нас попытаться пролить свет на тот вид, который темен и труден для понимания» (Платон. Тимей (48е – 49а) // Платон. Соч.: В 4 т. Т. 3, ч. 1. СПб.: Изд-во СПбГУ; Изд-во Олега Абышко, 2007. С. 532).]. Хайдеггер так определил фундаментальный смысл хоры у Платона:
Толкование, задающее меру всему западному мышлению, дал Платон. Он говорит, что между сущим и бытием существует ????????; ? ???? означает место. Платон хочет сказать: у сущего и бытия разные места, сущее и бытие по-разному раз-мещены. Когда Платон, таким образом, осмысляет ????????, разное размещение сущего и бытия, он вопрошает о совсем ином месте бытия в сравнении с местом сущего[204 - Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Территория будущего, 2006. С. 247.].
Согласно Хайдеггеру, хора – это принцип различия между бытием и существованием, вечными идеями и изменяющимися земными реалиями. Это настоящее выражение платоновского метаксиса.
Серж Маржель, подчеркивая, что хора не является ни воспринимаемой чувствами, ни умопостижимой, называет ее «бесконечным промежуточным пространством, в котором стихии мира упорядочиваются, собираются вместе и превращаются в образ Идей»[205 - Margel S. The Tomb of the Artisan God: on Plato’s Timaeus. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019. Р. 66.]. Но этот переход от невнятности к артикулированности и порядку и есть, по существу, движение. Платон по этому поводу разъясняет:
Природа эта по сути своей такова, что принимает любые оттиски, находясь в движении и меняя формы под действием того, что в нее входит, и потому кажется, будто она в разное время бывает разной; а входящие в нее и выходящие из нее вещи – это подражания вечносущему, отпечатки по его образцам…[206 - Платон. Тимей (50с). С. 534.]
Следы, отпечатки, о которых говорит Платон, – это единственное, что делает видимой невидимую хору.
Согласно Никифору в интерпретации Мондзен, линии, прочерчивания в иконах – это и есть следы, в которых являет себя хора, обеспечивающая встречу трансцендентного с мирским. Сложность осмысления божественного в категориях хоры заключается в том, что у Платона хора производит дифференциацию безвидного и его организацию в порядки, позволяющие вещам в конечном счете обрести форму и место, которое их в себе заключает. Хора производит генезис различимых вещей. Но эти категории неприменимы к Богу. Иоанн Дамаскин так формулировал эту проблему:
Телесное место есть граница объемлющего, которою замыкается то, что объемлется; как, например, воздух объемлет данное тело. Но не весь объемлющий воздух есть место тела, которое объемлется, а граница объемлющего воздуха, прикасающаяся к объемлемому телу. И, конечно, то, что объемлет, не находится в том, что объемлется. Есть же и умопостигаемое место, где мыслится и находится умная и бестелесная природа; где она пребывает и действует, и не телесным образом объемлется, но умопостигаемым – ведь у нее нет облика, чтобы быть объятою телесно. Посему Бог, будучи невещественным и неописуемым, не находится в месте. Ибо Он Сам – место Себя Самого, все наполняя и будучи выше всего, и Сам содержа все. Однако говорится, что и Он находится в месте. Говорится и о месте Божием, где обнаруживается Его действие. Ибо Сам Он через все проникает без смешения и всему уделяет Свое действие сообразно со свойством каждой вещи и ее способностью к восприятию…[207 - Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры (кн. I, 13) // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М.: Индрик, 2002. С. 180–181.]
Неспособность Бога быть заключенным в некое место, но одновременно Его способность быть в некоем месте (и всюду, во всех местах) предполагает динамическую концепцию священного пространства. Изар заявляет, что хочет выйти за рамки понимания священного пространства как «невозможного вместилища», и предлагает мыслить это пространство «как сакральное движение», как «пересечение, перекрещивание (Х) бытия и становления». Это перекрещивание соответствует греческой букве ? (хи), как в словах ch?ra и chorоs. Это перекрещивание связывается и с крестом (разумеется, Христовым) как неким маркером центра мироздания, организовывающим его вокруг себя. Именно это перекрещивание создает тут центр, вокруг которого возможен круговой хоровод мировой гармонии. Изар пишет:
С сотворением мира появляется и танец, который означает соединение стихий. Круговой танец (???о?) светил, созвездий, планет в связи с неподвижными звездами, прекрасный порядок и гармония всех движений, это зеркало первичного танца времени сотворения мира[208 - Isar N. The Dance of Adam: Reconstructing the Byzantine ???о? // Byzantinoslavica. 2003. Vol. LXI. Р. 183.].
Изар приводит множество свидетельств того, что и воскрешение мертвых после Страшного суда многими отцами церкви описывалось как такой круговой ???о? воскресших[209 - Ibid. Р. 192–195.]. А возвращение к этому гармоническому круговому движению – как апокатастасис.
На связь такого «хорового» воскрешения душ с раем может указывать и форма стены воображаемого Эдема. Изар сообщает, в частности, что
согласно некоторым ученым, ???о? произошел при участии слова ?????? («замкнутое пространство», ср. с латинским hortus, то есть «сад», благодаря глагольному корню (*gher-), означающему «содержать/держать»)[210 - Ibid. Р. 184.].
Но hortus conclusus – замкнутый сад – традиционно понимался именно как рай. Конечно, установить прямую связь рая и движения на основе этимологии не представляется возможным, но я бы не стал исходно отрицать такую возможность.
13. Установление сакрального пространства
Изар видит динамику хоры в нескольких экфрасисах, посвященных константинопольской Айя Софии, и сосредотачивается в основном на двух классических текстах – описаниях храма, сделанных известным историком Прокопием Кесарийским и поэтом Павлом Силенциарием в VI веке. Экфрасис – описание произведение искусства – обычно разворачивал сюжет (например, картины или скульптуры), таким образом проецируя временное измерение на статичную композицию. В силу этого архитектура почти никогда не подвергалась такого рода переводу в слова и «осюжетиванию». Самый ранний образец архитектурного экфрасиса[211 - Некоторые исследователи считают архитектурный экфрасис очень важным для византийской традиции: «В византийской традиции описание храма – одна из самых важных жанровых разновидностей экфрасиса. Описания церквей – как отдельные тексты или в составе других произведений (хроник, гомилий или энкомиев) – активно пишутся на протяжении всей византийской эры: от Евсевия Кесарийского, описавшего храм в Тире, возведенный епископом Павлином, и тем самым положившего начало истории жанра, до Сильвестра Сиропула, описавшего венецианский собор Св. Марка в 1439 г.» (Черноглазов Д. А., Захарова А. В. Экфрасисы храмов в византийской литературе: эволюция композиционных приемов // Византийский временник = ????????? ???????. Т. 101. 2017. С. 249). Авторы видят два пика этой традиции – в VI веке и после IX века.] – «Панегирик церкви в Тире» Евсевия Кесарийского – в основном касался символического аспекта церковного здания. В тех же экфрасисах Айя Софии, о которых идет речь, временное измерение вносилось риторическим жанром periegesis’a (?????????? буквально «ведущий вокруг»), то есть описания маршрута странствования, иногда называвшегося periodos – путешествие вокруг[212 - См.: Webb R. The Aesthetics of Sacred Space: Narrative, Metaphor, and Motion in «Ekphraseis» of Church Buildings // Dumbarton Oaks Papers. 1999. Vol. 53. Р. 66–70.]. Это круговое путешествие внутри здания отражается в системе кругов и полукружий, составляющих структуру его интерьера. По мнению Изар, в самом этом движении виден неоплатонический принцип исхождения (излияния) и возвращения (prohodos и epistroph?, processio и reditus), в частности в том виде, в каком он сформулирован Дионисием Ареопагитом[213 - Isar N. Chorography (Ch?ra, Chorоs) – a performative paradigm of creation of sacred space in Byzantium // Иеротопия: Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Сост. А. М. Лидов. М.: Индрик, 2006. С. 71. Речь идет об исхождении материи из Бога, которая, умножаясь в мире, сохраняет неразделимое единство в виде света, исходящего от Всевышнего. Свет исходит и как бы возвращается назад в свой исток: «Всякое даяние благое и всякий дар совершенный свыше есть, сходя от Отца светов» (Иак. 1: 17). Но и всякое исхождение движимого Отцом светосвечения, благодатно в нас приходящее, вновь как единотворящая сила, возвышая, нас наполняет и обращает к единству и боготворящей простоте Собирателя Отца (ср. Мих. 2: 12; Ин. 17: 21). Ибо «из Него все и в Него», как сказало священное Слово (ср. Рим. 11: 36) (Дионисий Ареопагит. О Небесной Иерархии (I, 1) // Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. СПб.: Алетейя; Изд-во Олега Абышко, 2002. С. 37).]. В трактате «О божественных именах» Дионисий видит в исхождении и возвращении принцип установления вечности: они
дают возможность существовать вечности; поступательными движениями разделяют круговорот времени, а возвратом в прежнее состояние соединяют; дают огню силу не угасать, а течению воды не истощаться; массе воздуха сообщают границы; землю основывают ни на чем; ее живые порождения сохраняют неиспорченными; стихии во взаимной гармонии и неслиянном и нераздельном взаимопроникновении сберегают; союз души и тела поддерживают, питательные и растительные силы растений приводят в действие; управляют все осуществляющими силами; неразрушаемость пребывания всего обеспечивают…[214 - Дионисий Ареопагит. О божественных именах (VIII, 5) // Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 477.]
Эта неразделимость исхождения и возвращения чаще всего принимала форму кругового движения. Periegesis мог начинаться с описания приближения к церкви, которая поражала своим видом идущего. Но главный момент был связан с пересечением порога храма, который, как замечает Шибилле, был «переходом от материального к нематериальному, от человеческого к божественному»[215 - Schibille N. Hagia Sophia and the Byzantine Aesthetic Experience. Fanham; Burlington: Ashgate, 2014. Р. 49.], которое передавалось светом и движением. Само же движение было структурировано зданием как система кругов, которые постоянно возвращали исходящее к своему истоку.
Прокопий подчеркивает, что внутреннее пространство храма предстает как источник божественного света: «Можно было бы сказать, что место это не извне освещается солнцем, но что блеск рождается в нем самом: такое количество света распространяется в этом храме»[216 - Прокопий Кесарийский. О постройках (I, 30) // Вестник древней истории. 1939. № 4. С. 209.]. Храм предстает не только как источник света, но и как обитель Бога – рай, что подчеркивает, что экфрасис переходит из описания здания в область невыразимого трансцендентного:
Можно было бы подумать, что находишься на роскошном лугу, покрытом цветами. В самом деле, как не удивляться то пурпурному их цвету, то изумрудному; одни показывают багряный цвет, у других, как солнце, сияет белый; а некоторые из них, сразу являясь разноцветными, показывают различные окраски, как будто бы природа была их художником. И всякий раз, как кто-нибудь входит в этот храм, чтобы молиться, он сразу понимает, что не человеческим могуществом или искусством, но Божьим соизволением завершено такое дело; его разум, устремляясь к Богу, витает в небесах, полагая, что Он находится недалеко и что Он пребывает особенно там, где Он Сам выбрал. И это случается не только с тем, кто в первый раз увидал этот храм, но такое впечатление возникает постоянно у каждого, как будто с этого начинается у всякого его обозрение[217 - Там же (I, 59–62). С. 211.].
Описание божественного света начинает экфрасис, а тема луга с цветами завершает его, придавая всему описанию круговую форму periegesis’a. Первым образчиком такого кругового описания здания был эпизод в седьмой песни «Одиссеи» Гомера[218 - На этот прототип описания Айя Софии Павлом Силенциарием указывает Эмили ван Опсталл: Opstall E. van. The Works of the Emperor and the Works of the Poet. Paul the Silentiary’s Ekphrasis of Hagia Sophia // Byzantion. 2017. Vol. 87. Р. 389.], в котором описывается, как Одиссей подходит к дворцу Алкиноя и останавливается на пороге («Сердцем тревожился, стоя в дверях перед медным порогом»[219 - Гомер. Одиссея (VII, 83). М.: Наука, 2000. С. 76.]). И пока Одиссей стоит на пороге, не решаясь войти, повествователь входит в здание и дает его подробное описание, переходя из комнаты в комнату[220 - Медные стены во внутренность шли от порога и былиСверху увенчаны светлым карнизом лазоревой стали;Вход затворен был дверями, литыми из чистого злата;Притолки их из сребра утверждались на медном пороге…(Там же (VII, 86–89). С. 76).], а из комнат в сад, «обведенный отовсюду высокой оградой»[221 - Там же (VII, 113).]. По мнению Ирен де Йонг, этот сад Алкиноя – типичный locus amoenus – прототип рая[222 - Jong I. J. F. de. A Narratological Commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Р. 176.]. Дом Алкиноя представляется Гомером как некое пристанище богов, лежащее за порогом, на котором стоит Одиссей. Но самое любопытное, что рассказчик свое описание дворца завершает на пороге, где ждет Одиссей, сделав буквальный круг внутри здания. И Одиссей рискует вступить во дворец, только обозрев его глазами повествователя:
Долго, дивяся, стоял перед ним Одиссей богоравный;
Но, поглядевши на все с изумленьем великим, ступил он
Смелой ногой на порог и во внутренность дома проникнул[223 - Гомер. Одиссея (VII, 133–135). С. 77.].
Человек, перешагивающий порог храма, оказывается подобен бестелесному рассказчику, проникающему в обитель божию и движущемуся в ней кругами, заключенными в структуру здания. Прокопий как бы поднимается с этими кругами к куполу-небесам:
Строение поднимается с земли не по прямой линии, но несколько отступает назад от боковых стен небольшим изгибом; а с середины оно вновь поворачивает назад и, идя в виде полукруга, что сведущие в этих делах люди называют полуцилиндром, поднимается отвесно вверх. Крыша этого сооружения разрешается как четвертая часть шара; возвышаясь над ней, на прилегающих частях здания поднимается другое, более мощное сооружение, в виде полумесяца, удивительное по красоте, но в общем вызывающее страх вследствие кажущейся опасности такого соединения. Ведь кажется, что оно держится не на твердом основании, но возносится в небо не без опасности для тех, кто находится в храме. <…> По обе стороны этого сооружения с самого основания идут колонны; они тоже стоят не прямыми рядами, но, как в хоре, стоя друг против друга, загибаются внутрь в виде полукруга, и сверху на них покоится это лунообразное сооружение[224 - Прокопий Кесарийский. О постройках (I, 32–35). С. 209.].
Но, пожалуй, самой виртуозной сложности описание внутренних пространств Айя Софии достигает в поэме Павла Силенциария «Экфрасис Святой Софии» (562 г.)[225 - О месте этой поэмы в позднеантичной поэтической традиции см.: Александрова Т. Л. «Экфрасис Св. Софии» Павла Силенциария и предшествующая поэтическая традиция // Studia Litterarum. 2019. Т. 4. № 1. С. 72–85.]. Поэма была написана по заказу императора Юстиниана на повторное освящение храма, возведенного в 537 году на месте разрушенного во время восстания Ника в 532 году. В 558 году землетрясение уничтожило часть купола, который был возведен вновь. Поэма описывает разрушение купола, роль Юстиниана в восстановлении Софии, а затем сосредоточивается на описании его внутреннего пространства. Недавно Т. Л. Александрова опубликовала прекрасный перевод этого сложного текста, позволяющий лучше почувствовать, каким образом описание архитектурной структуры соединяется с мотивом кругового движения. Перевод этот, на мой взгляд, заслуживает обильного цитирования. В начале экфрасиса это движение направлено вверх, по направлению к куполу, то есть небесам:
Три рассеченные сферы с востока там распростерты,
Выше над ними, над крепкой опорой стен прямозданных
Сферы четвертая часть возвышается, все их объемля.
Будто бы гордый павлин в торжестве над крепкой спиною
Многоочитый свой хвост раскрывает и пестрые крылья.
Эти возглавья зовут мужи, искусные в деле,
«Конхами», ибо подобие им найдется средь влажных
Раковин моря, и все мастера их так называют
На языке на своем. Посреди же конхи срединной
Есть для священников троны; ступени идут полукругом
По возвышенью. Последние – уже других и теснее,
И завершая собою сей круг, смыкаются к центру.
Те же, что выше, до самых серебряных тронов доходят,
И полукружьем своим расходятся шире и шире,
И окружают шатер, возвышающийся посредине.
Прямо за ним углубленье в стене, сначала прямое,
Вверх поднимаясь, оно полукруглым кончается сводом.
Напоминает в разрезе цилиндр, а вовсе не сферу.
Но полукружьем кончается свод, подпертый столпами.
Две еще конхи там есть: они отходят на запад,
Словно широких ладоней охват, простертых к входящим…[226 - Павел Силенциарий. Экфрасис Святой Софии (354–374). Экфрасис амвона / Введение, перевод с древнегреческого и комментарии Т. Л. Александровой // Вестник древней истории. 2019. Т. 79. № 2. С. 515.]
Чем больше поэт приближается к куполу, тем больше здание становится частью воздушных потоков и буквально проникает в небо:
…поверх остальных апсид возвышается сверху
Воздухоплавная твердь, на крепких лежащая сводах.
В воздух стремится она, до самой главы дорастая.
Вплоть до самого верха восходит она, опираясь
На основанья столпов посреди бессмертного храма.
Так углубленьем огромнейшим в воздух возносится конха,
Сверху одна, но спускается вниз, на три разделяясь
И раздробляясь еще по задней стене соразмерно…[227 - Там же (400–407). С. 516.]
Это восхождение к небу в какой-то момент описывается Павлом как небесное мореплавание, в котором утрачивается ясная цель:
Да, но куда я стремлюсь? Что за ветер нестойкое слово,
Будто бы в море корабль, несет в блужданье бесцельном
Прочь от родимой земли? Вернись же, песнь моя, к цели![228 - Там же (444–446). С. 517.]
Этот момент – момент остановки движения, паузы, но и момент прерывания, в котором periegesis утрачивает связь с кругом и становится частью «широкого пути». Возвращение к круговому (хотя и очень сложному) маршруту дается как переход от неба назад к камню купола, в котором небо получает ясность и определенность «узкого пути» – отчужденной (в камне) xeniteia:
Каменным сделан и свод, что на крепкие стены посажен,
Он закруглен отовсюду. Где ж, словно корнями, крепится
Полусферический купол, и дуги встали изгибом,
И полукружья сомкнулись на стенах задних апсиды, —
Словно венец утвердили мужи. Каймой нависает
Каменный выступ, – на нем тропа проложена сверху:
Узко очерченный путь, где муж-свещеносец проходит,
В неколебимой руке неся святые лампады.
Купол возносится ввысь, повиснув на воздухе зыбком,
Круглый, как будто вращается он и видом подобен
Светлому небу, – вот так небосвод покрывает всю землю.
Там, на вершине его, искусно крест живописан.
Дивное чудо – узреть, как мало-помалу сужаясь,
Купол идет в вышину: чем выше – тем меньше и уже,