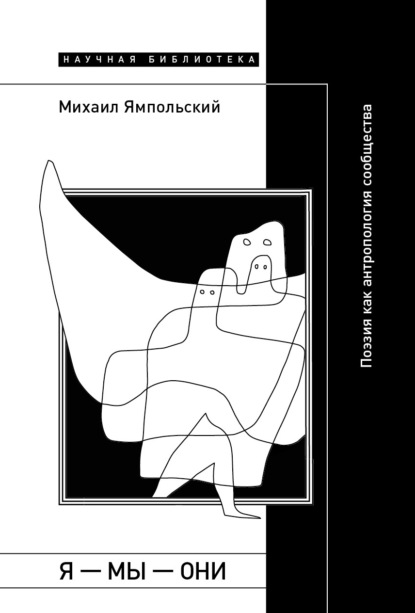
Полная версия:
Я – мы – они. Поэзия как антропология сообщества
…каждый из нас имеет свой жизненный мир, который мыслится как мир для всех. У каждого он наделен смыслом полюсного единства миров, мыслимых в соотнесенности с субъектами, миров, которые в ходе корректировки превращаются всего лишь в явления этого [der] мира, жизненного мира для всех, этого постоянно удерживающегося интенционального единства, которое само есть универсум отдельного, универсум вещей. Это и есть мир, другой же вообще не имеет для нас никакого смысла… есть не множество отделенных друг от друга душ, каждая из которых редуцирована к своему чисто внутреннему, но, подобно тому как существует одна-единственная универсальная природа как замкнутая в себе единая взаимосвязь, так же существует и только одна-единственная психическая взаимосвязь, всеобщая взаимосвязь всех душ, где все они едины не внешне, а внутренне, именно благодаря интенциональному взаимопроникновению в ходе формирования общности их жизни[25].
Глубокое понимание этой проблематики едва ли не впервые в истории западной мысли можно найти в удивительном эссе Вильгельма фон Гумбольдта «О двойственном числе» (1827). Речь шла о крайне редком явлении существования в языке наряду с единственным и множественным числом двойственного числа, которому Гумбольдт отводит парадоксальную «коллективно-единственную функцию». По мнению Гумбольдта, двойственное число не столько маркирует наличие двух предметов, сколько выражает идею двоичности, то есть такого «закрытого целого», которое «совмещает в себе природу множественного и единственного чисел»[26]. Это связано с тем, что изначально сознание человека выделяет некую группу из двух предметов, которые противостоят миру и одновременно индивидуируются по отношению друг к другу[27]. Таким образом, двоичность – это способ и помещения себя в мир, и, одновременно, детерминации себя по отношению к этому миру. Но самое существенное тут заключается в том, что она дана нам прежде всего (если не исключительно) в языке. Таким образом, язык предлагает нам матрицу осознания себя в мире. Язык, как замечает Гумбольдт, «основывается на двоичности чередующейся речи»[28], то есть на присущей ему диалогичности (двойственности). «Я» говорящего само конституируется «только отразившись от чужой мыслительной способности»[29]. Уже в наши дни идею двоичности перенесет на бюлеровское origo Харальд Вайнрич, который будет писать о двойном мерцающем origo говорящего и слушающего[30]. О двойничестве и эхе речь будет идти в первой части настоящей книги.
Гумбольдт набрасывает те формы субъектности, которые возникают благодаря языку:
Слово обретает свою сущность, а язык – полноту только при наличии слушающего и отвечающего. Этот прототип всех языков местоимение выражает посредством различения второго и третьего лица. «Я» и «он» суть действительно различные объекты, и они в сущности исчерпывают все, поскольку, другими словами, их можно обозначить как «я» и «не-я». Но «ты» – это «он», противопоставленный «я». В то время как «я» и «он» основываются на внутреннем и внешнем восприятии, в «ты» заключена спонтанность выбора. Это также «не-я», но в отличие от «он» не в сфере всего сущего, а в сфере действия, обобществленного взаимным участием. В самом понятии «он», таким образом, заключена не только идея «не-я», но и «не-ты», и оно противопоставлено не только одной из этих идей, но им обеим[31].
Origo тут становится эпицентром бесконечно меняющихся конфигураций отношения с миром и другими. Пространство также трансформируется при переходе от «я» к «ты» и «он»[32].
Мартин Бубер, вероятно, испытавший влияние Гумбольдта, построил свою философию на радикальном различении двух отношений: «я – ты» и «я – он». При этом, по его мнению, эти отношения непостоянны, но могут переходить одно в другое, трансформируя всю картину мира:
Если я обращен к человеку, как к своему Ты, если я говорю ему основное слово Я-Ты, то он не вещь среди вещей и не состоит из вещей. Он уже есть Он или Она, отграниченный от других Он и Она; он не есть точка, отнесенная к пространственно-временной сетке мира, и не структура, которую можно изучать и описать, – непрочное объединение обозначенных словами свойств. Нет: лишенный всяких соседств и соединительных нитей, он есть Ты и заполняет собою небосвод. Не то чтобы не было ничего другого, кроме него, но все другое живет в его свете[33].
Такого рода представления помогают преодолеть тот культ субъективности, который сложился после Канта. Субъект в такой перспективе перестает быть некой трансцендентальностью, но возникает благодаря языку и в стихии языка. К тому же субъект тут утрачивает абсолютность и становится производным от той стихии речи, которой он принадлежит. Недаром Витгенштейн, по мере нарастания своего интереса к языку, приходит к выводу о необходимости полного отказа от идеи «я», обитающего в некоем теле. Сама идея локализации «я» и даже существования этого «я», по мнению Витгенштейна, – чисто языковая иллюзия:
Вопрос о том, какого же рода деятельностью является мышление, аналогичен вопросу: «Где локализуется мышление?» Мы можем ответить: на бумаге, в нашей голове, в сознании. Ни одно из этих утверждений о локализации не дает нам локализацию мышления. Употребления всех этих уточнений верны, но мы не должны вводить себя в заблуждение простотой их лингвистической формы, делая из этого ложное заключение об их грамматике[34].
Сходная, но сформулированная совсем в иных терминах попытка избавиться от «я» и производящего его языка чуть раньше была предпринята Хайдеггером в «Бытии и времени». Хайдеггер задается вопросом об онтологическом бытийном аспекте личности, то есть «я», и сейчас же обнаруживает, что субъект, личность не имеют никакого позитивного бытия и возникают только из словоупотребления. Например, познающий субъект оказывается чистой словесной фикцией:
Если оно (познающее сущее. – М. Я.) вообще «есть», то принадлежит единственно тому сущему, которое познает. Но и в этом сущем, человеческой вещи, познание тоже не налично. Во всяком случае оно не констатируемо извне так, как, скажем, телесные свойства. И вот, поскольку познание принадлежит этому сущему, но не есть внешнее свойство, ему остается быть «внутри»[35].
Соответственно Хайдеггер исключает понятие личности («я») из своего лексикона, заменяя его термином Dasein – вот-бытие. И Витгенштейн, и Хайдеггер стремятся выйти за рамки языка и перешагнуть через них в область бытия, «самих вещей». Но, как мне представляется, эти попытки имеют лишь ограниченный успех, потому что язык – это не просто генератор иллюзий, но генератор origo и конфигурации мира, в который мы включены.
Хайдеггер посвящает несколько разделов своей книги проблематике пустого говорения, производимого некой безличной инстанцией Man («оно»). Но в целом язык у него, по меткому выражению Жильбера Оттуа, трактуется как «удаленный феномен, производный от исходных структур Dasein»[36]. Но язык не просто отражает структуру вот-бытия или наличного бытия. Он конструирует мир и порождает ту инстанцию личности, чье онтологическое измерение постоянно (и оправданно) ускользает от Хайдеггера.
Я сделал этот небольшой философский экскурс, чтобы яснее очертить горизонты поэзии. В эссе о Гельдерлине Хайдеггер повторяет свое знаменитое определение поэтического языка:
Задача языка – обнаруживать (делать явным) в произведении сущее как таковое и хранить его. В нем обретают речь чистейшее и самое потаенное, равно как сумбурно-запутанное и пошло-обыденное[37].
Существует некое бытие, смысл которого язык обнаруживает. Но поэзия не просто отражает мир (или вскрывает его бытие, как у Хайдеггера), она конструирует мир в терминах языка, например в терминах той двоичности, о которой писал Гумбольдт. Отношения общества и поэзии, как мне кажется, определяются возможностью языка конструировать сообщества или их отменять, вводить origo в мир вещей или помещать его в мир абстрактных и пустых пространств, соотносить человека с двойниками, куклами, автоматами или видеть в другом – в «ты». Удвоение, двойственность сознания, движущегося от «я» к «он», от «мы» к «они», – это не просто языковые игры, это языковое производство жизни. У Владимира Гандельсмана есть стихотворение «Сороковины», в котором он обращается к умершему «ты» и где описываются попытки возродить исчезнувшее «ты» изнутри, поскольку в мире его больше нет:
сквозь ночь в себя смотри,подсчитывай убытки.что значат – изнутритебя вернуть – попытки?[38]Попытка впустить в себя умершего, однако, кончается прямым видением смерти, в котором отношение «я – ты» исчезает, а смерть определяется как исчезновение двойственности и воцарение единства:
вот крепость смерти. стой.пока осада длится,двужильный разум твойв едином не двоится[39].Эта двойственность, неизбежно привносимая языком, ставит целый ряд фундаментальных вопросов. Прежде всего удвоение того типа, о котором говорит Гумбольдт, ставит под сомнение такие фундаментальные понятия, как «истина», «реальность» и «бытие». Французский философ Клеман Россе писал:
Я буду здесь называть реальным (как я это всегда, пусть и имплицитно, делал) все, что существует применительно к принципу идентичности, гласящему, что А равно А[40].
Иллюзией в глазах Россе является все то, что не поддается строгому приложению этого принципа, а потому всегда маркировано двойственностью. А в ней не равно А. Эти формулировки Россе совпадают с принципами западной онтологии, восходящими еще к Пармениду. Есть то, что адекватно себе. Бытие – это область неподвижности и повторения, в которых проступает идентичность.
Однако, как известно, Витгенштейн в своем «Трактате» подверг сомнению сам принцип идентичности, который он определил как простую тавтологию, не вносящую ничего истинного, так как она изначально предполагает свою истинность:
Тавтология не имеет условий Истинности, ибо она является безусловно истинной; а Противоречие не является истинным ни при каких условиях. Тавтология и Противоречие являются бессмысленными…[41]
Жизнь, экзистенция же основаны на нарушении принципа идентичности. Ex-istere означает «находиться вне», то есть не совпадать с собой. Жить – означает не совпадать с собой. Греки различали два вида жизни: биос (βίος) – добродетельную, этическую и политическую жизнь и зое (ζωή) – биологическую жизнь, связанную с оживлением, дыханием, духом (psyche, ψυχή), движением. Зое пронизана витальностью, чрезмерностью, бурлением. Франсуа Жюльен пишет о способности зое выйти за рамки psyche. Для этого сверхпроявления витальности жизнь должна перестать совпадать с собой, в каком-то смысле даже отказаться от себя. Этот отказ от совпадения Жюльен называет de-coincidence[42]. Он видит его примеры в христианстве, когда Бог в образе Сына воплощается в смертном теле и умирает во имя утверждения вечной и еще более витальной жизни: «Нужно, чтобы Бог отстранился от себя ради подлинного достижения себя живого»[43]. Этот выход за пределы «я» осмыслен Целаном (о котором речь будет идти в книге). В такой перспективе жизнь, как и поэзия, – всегда несовпадение с собой, и это состояние поэзия может передать благодаря безостановочной игре «я – ты – мы – они».
Утрата устойчивости origo, разрушение внятной субъектности, сопровождаемое крушением истины и «бытия» и столь выразительно передаваемое поэзией, однако, несет в себе отражение не только жизни, но и теневого двойника такого «несоответствия» – смерти. Потеря origo к тому же оказывается парадоксально адекватной ситуации кризиса сознания и общества. Когда мир входит в темную полосу и все устойчивое рушится, идентичности трещат по швам, эта игра удвоений, эха и двойников получает особую смысловую нагрузку. В какой-то мере сама жизнь есть непрекращающийся кризис. Недаром самые апокалиптические моменты истории постоянно описывались в категориях, связанных со старением, распадом и смертью, как если бы речь шла об угасании жизни некоего организма.
Речь тут, конечно, идет не столько о картине общества и ее отражении в языке (прав был Бенвенист, считавший, что такое отражение невозможно), но лишь о соотнесенности себя с другими, благодаря которой возникает неустойчивая идентичность. В последнее время я все больше убеждаюсь в том, что именно поэзия позволяет в какой-то мере фиксировать origo, место установления личности в ее отношении с миром. И то, как это место фиксируется или оказывается неуловимым, – важный симптом состояния общества, человека и культуры.
Три поэта – герои этой книги – являются для меня «вергилиями», позволяющими заглянуть через оптику поэзии в социум и природу. Поэтому в книге существенное место отведено персонажам и мотивам, казалось бы, не имеющим прямой с ними связи. Например, я много пишу о романтизме – эпохе и сопровождающей ее поэтике, где проблема «я» (субъектности) и «они» (объекта) впервые возникла с такой силой в западной культуре. Автоматы Гофмана или Вилье де Лиль-Адана помогают мне понять странную двойственность языка. Патефоны Степановой прямо следуют за гофмановскими говорящими автоматами, а ирония и фрагментарность Рубинштейна логически ведут к обсуждению романтической поэтики фрагмента и иронии. Я сознательно позволял себе уходить далеко от творчества того или иного поэта, стараясь поместить его в гораздо более, чем принято, широкий контекст. Надеюсь, читатель простит мне эту вольность.
Часть 1. По ту сторону «я» (Дашевский и не только)
1. «Я» в поэзии
Поэтом, яснее других сформулировавшим сущность кризиса поэтического «я», был Григорий Дашевский. В 2012 году он опубликовал ставший важным манифестом текст о современной поэзии. Согласно Дашевскому, последние двести лет в русской поэзии господствовало романтическое сознание. В его рамках, о чем бы ни говорило стихотворение, оно говорит «про меня»:
На уровне слов это выражено у поэта, казалось бы, антиромантического, но на самом деле существующего абсолютно внутри этой традиции – Бориса Пастернака: «Меж мокрых веток с ветром бледным / Шел спор. Я замер. Про меня!» Это кажется абсолютно новым и его собственным открытием, но еще за полтораста лет до того, как он это написал в 1917 году, сентименталисты и романтики нас научили, что любой пейзаж – это про тебя[44].
Речь шла о сведении всего многообразия мира к некой жизни «внутреннего человека», его «душевным глубинам».
Странность этой ситуации усугублялась тем, что уникальная субъектность поэта почти не отличалась от уникальной субъектности читателя и, таким образом, сама эта раздутая уникальность «я» практически стиралась:
…это «я» понимается как общее для всех людей, и тогда, казалось бы, романтизм не говорит ничего, чего не говорили бы людям все мистики: внутри у каждого живет бездонная, единая для всех сущность[45].
Дашевский назвал такую ситуацию «соединением заурядности и исключительности» и видел максимально полное ее воплощение в Бродском, чьи англоязычные эссе он переводил и творчество которого хорошо знал:
…на поверхностном уровне у него собственное «я» тождественно всем остальным, а на уровне структуры – оно остается исключением[46].
Речь шла о комбинации заурядности и исключительности, когда непомерно раздутое романтическое «я» поэта оказывалось отражением «я» любого заурядного читателя-интеллигента. Дашевский не объясняет, каким образом банальное поверхностное «я» прикрывает собой уникальную глубину[47]. Дашевскому такая раздвоенность была нужна для описания социальной роли поэзии. Дело в том, что, по его мнению, романтическое гипертрофированное «я» было необходимым условием складывания некоего сообщества, в котором все «я» участников были нивелированы и стерты. Литература в своей поэтике так или иначе, по мнению критика, отражает социальную ситуацию, которая прежде всего выражается в соединении людей или в их дисперсии. Дашевский писал свой текст в 2012 году, сразу после Болотной, и говорил о тогдашнем состоянии социума как о «межеумочном времени, когда мы не можем сказать, что происходит с читательской душой»:
Это не был затвор советских времен с вынужденным или добровольным уходом от мира к себе, но не было и полноценное существование в мире. Они, эти «мы», существовали в полумраке, на каких-то детских, вторых ролях – они двигались по промежуточному маршруту между двумя пределами: с одной стороны, есть абсолютные требования одинокой души, с другой – есть требования человека деятельного, который сталкивается с внешним миром с той же абсолютностью, с какой душа существует в своем внутреннем мире[48].
Бродский и оказывался воплощением этого смутного «мы», в котором абсолютное одиночество сочеталось с деятельным пребыванием в мире.
В этом краеугольном тексте Дашевский атаковал не только романтический индивидуализм, но и сопровождавшее его ощущение тесного и даже удушающего сообщества, в котором парадоксально пребывают эти романтические индивиды с раздувшимся «я». Он писал о цитатности общинного сознания нулевых:
Цепляние за узнаваемые цитаты, размеры, образы в популярных стихах происходит во многом от страха реальности, от страха оказаться среди чужих, от страха признать, что уже оказался среди чужих. Нет уже никаких цитат: никто не читал того же, что ты; а если и читал, то это вас не сближает. Время общего набора прочитанного кончилось, апеллировать к нему нельзя[49].
«Сверхплотную цитатность» в перестроечных стихах Кибирова он связывал с присущей тому времени необходимостью «хоронить общих мертвецов – всех сразу, и советских, и русских классических – и в последний раз их собрать…»[50] Сохранение же избыточной цитатности он называл «гальванизацией трупов». По его мнению, новое время выдвигает требование не цитатного сообщества, собирающегося вокруг романтического «я» поэта, но «перехода от семейного тепла к публичному свету», разработки речи «для чужих», «на холоде и на свету»[51].
Недавно Игорь Гулин опубликовал свой программный текст о поэзии в ознаменование десятилетия манифеста Дашевского. В нем он продолжил линию рассуждений своего предшественника, обогатив словарь последнего таким понятием, как постмодернизм. Гулин также попытался примирить нарциссизм поэтического «я» с исчезновением лирического «я» поэта. У него тоже возникает некое гибридное образование, правда, гораздо менее радикальное, чем Бродский у Дашевского. Это нарцисс, не верящий в силу собственного «я»[52]. Сообщество, создаваемое такими ослабленными «я», согласно Гулину, «некрепкое»:
…такие «я» способны образовывать сцепку, к которой особенно располагает существование в субкультуре. Поэтому в поэзии рубежа 1990-х и 2000-х было много речи от лица «мы». Это «мы» – не социальная идентичность и даже не интимная общность дружеского круга, а шаткая попытка усиления слабых голосов, как бы агломерация недостаточных «я» в некрепкое сообщество, отделенное от непредставимого общества[53].
Тексты Дашевского и Гулина интересны тем, что ставят на материале поэзии редко возникающий в ее контексте вопрос о сообществе, о читательском «мы». Любопытно в этих текстах и то, что они не в состоянии мыслить это «мы» без авторского «я». Все происходит так, как если бы «я» поэта было необходимо для установления «мы-сообщества». Слабое «я» – слабое сообщество. У Дашевского, разумеется, ситуация осложнена тем, что у его Бродского сильное «я» прикрывает некое второе слабое «я». Но в любом случае лирическое «я» и сообщество оказываются коррелятами. Когда романтическое «я» подавляется, поэт оказывается среди чужих на холоде. Сообщество исчезает.
2. Романтики и синтез «я»
В этом контексте приобретает все свое значение Рубинштейн – иронист, полностью исключающий романтическое «я» из своего кругозора. Место авторского голоса тут полностью занимают чужие голоса и цитаты – подлинные и мнимые. Но и само понятие романтического поэтического субъекта тут подвергается решительному пересмотру. В очерке о Рубинштейне я останавливаюсь на его иронии в связи с романтической иронией и, в частности, с пониманием Witz у Фридриха Шлегеля. Шлегель, как известно, видел проявление иронии в «сборке» (термин Делёза и Гваттари) несоединимых фрагментов, чья несовместимость и была основанием Witz
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Якобсон Р. Ретроспективный обзор работ по теории стиха // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 241.
2
Якобсон Р. Вопросы поэтики // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 81.
3
Мне кажется симптоматичным, что Поль Гоген написал свою знаменитую картину «Откуда мы пришли? Кто мы такие? Куда мы идем?» в 1897–1898 годах, на самом пороге XX века.
4
Бланшо М. Неописуемое сообщество. М., 1998. С. 19.
5
Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1994. Т. 5. С. 53. Об эстетическом сообществе Канта и его влиянии см.: Schutjer K. Narrating Community After Kant: Schiller, Goethe, and Hölderlin. Detroit, 2001.
6
Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Mass., 1984. P. 3. Критику всеобщности эстетического суждения как основания сообщества см.: Kneller J. Aesthetic Reflection and Community // Kant and the Concept of Community / Ed. by C. Payne, L. Thorpe. Rochester, 2011. P. 260–283.
7
Плеснер X. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию. М., 2004. C. 252.
8
Там же. C. 253–254.
9
Бенвенист Э. Природа местоимений // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 288.
10
Гандельсман В. Тихое пальто. СПб., 2000. С. 31.
11
Плеснер Х. Указ. соч. С. 254.
12
Фрейд считал сознание сферой, где возможно отрицание содержания бессознательного, через которое обнаруживается само его существование: «…при анализе мы не находим „нет“ в бессознательном и… признание бессознательного со стороны Я выражается в негативной формулировке. Нет более веского доказательства удавшегося раскрытия бессознательного, чем реакция на него анализируемого в виде фразы: „Этого я не думал“ или „Об этом я (никогда) не думал“» (Фрейд З. Отрицание // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 2006. С. 404).
13
Tugendhat E. Egocentricity and Mysticism: An Anthropological Study. New York, 2016. P. 15.
14
Серль Д. Природа интенциональных состояний // Философия, логика, язык / Сост. В. В. Петрова. М., 1987. С. 101. Серль определял интенциональность как «свойство многих ментальных состояний и событий, посредством которых они направлены на объекты и положения дел внешнего мира» (Там же. С. 96).
15
Фрейд З. Указ. соч. С. 401–402.
16
Рубинштейн Л. Памяти Григория Дашевского // Грани. ру. 2013. 17 декабря.
17
Цит. по: Курциус Э. Р. Европейская литература и латинское Средневековье. М., 2021. Т. II. С. 217–218.
18
Дашевский Г. Как читать современную поэзию // Дашевский Г. Стихотворения и переводы. М., 2015. С. 153–154.
19
Там же. С. 153.
20
Дашевский Г. Как читать современную поэзию. С. 153.
21
«Мы действительно вынуждены задать себе вопрос: не представляют ли собой различные стороны социальной жизни (включая искусство и религию), при изучении которых, как нам уже известно, можно пользоваться методами и понятиями, заимствованными у лингвистики, явления, чья природа аналогична природе языка?» (Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001. С. 68).
22
«Я сказал об этом Бенвенисту, который признал, что так оно и есть, но он считает этот параллелизм лишенным значения, потому что, говорит он, структурирование в языке существует лишь на уровне дифференциальных элементов, но оно не обнаружимо на уровне грамматики и словаря. Соответственно он не думает, что существуют формальные структуры, распространяющиеся на все поле бессознательного мышления» (Roman Jakobson/Claude Lévi-Strauss. Correspondance 1942–1982. Paris, 2018). Цитирую по цифровому изданию без указания страниц. См. также: Laplantine С. Émile Benveniste on the Relation Between Linguistic and Social Structures // The Limits of Structuralism / Ed. by J. McElvenny. Oxford, 2023. P. 267–287.

