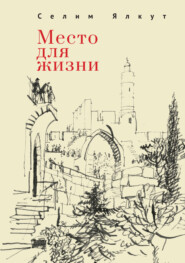
Полная версия:
Место для жизни

Селим Ялкут
Место для жизни
Осень в Израиле
В Израиле время течет по-особому. Конечно, суждения досужего наблюдателя не выглядят достаточно весомыми, но, нельзя не заметить, здешняя история и современность затасованы в одну колоду так плотно, что не знаешь заранее, какую карту из нее вытянешь. Не иначе, как сам Всевышний позаботился и затасовал. От Египта остались пирамиды, от Рима – Колизей, а где древнее население? Атлантиду до сих пор ищут, примерно там, где история вытекает из Всемирного Потопа. С Ноя что спрашивать, когда он сам чуть не утонул? Cпасибо, что слонов перевез. А с крокодилами поспешил, хоть в Израиле их до сих пор разводят на специальных фермах. И с Араратом непонятно, с какой стороны на него смотреть. В общем, есть проблемы…
Можете не верить, но время в Израиле не укладывается кругами, примерно, как причальный канат, а огибает Конец Света и движется дальше, присовокупив к старому, Ветхому Завету еще и Новый. Вечность подождет, в мире все так устроено. Савланут, савланут… что в переводе с иврита – терпение, терпение…
Израиль живет с понимающей и грустной улыбкой. Здесь, сейчас, и не иначе, как свыше. Пока есть, кому молиться и кому воевать. А там увидим. Почему нет, когда – да!
В центре Иерусалима, на улице Кинг Джорджа (Короля Джорджа) держится остаток стены старого дома с надписью Талифа куми. Встань и иди. Рядом скверик в несколько маслин с завлекающим Добро пожаловать, вход в магазин с модной одеждой, лестница, столики кафе – городской коктейль из сутолоки, архаики, азарта и коммерции. Здесь неплохо проповедовать, возвестить о близком конце света, потревожить спешащую на переходе толпу. Ей и так достается. Гремят взрывы. Рыжая красотка с забрызганным кровью лицом. Парень на носилках, ноги в джинсах мелко подергиваются. Растерянный чернокожий солдатик в еврейской молельной шапочке на проволочных кудрях. Ослепительные девушки, туристы, одежные манекены, ортодоксы-датишники – черный сюртук, шляпа, легкий наклон головы, плавные мягкие движения.
Небольшой оркестрик зарабатывает на жизнь. Аккордеон, скрипка, кларнет. Иногда кларнетист берется за саксофон. Блестящие чешуйки монеток, утренний улов в скрипичном футляре. Рио-Рита. Еврейские мелодии. Вальс парижских бульваров. Дорогой длинною. В Архангельском порту, стояла на шварту… Жанетта поправляла такелаж…
Перекресток старого Иерусалима.
Сердце города.
Лестница в небо
Гило – линия холмов, отделяющая Иерусалим от знаменитого предместья Бейт-Лехем или Вифлеем. Гило, как гребень волны, с двух сторон обрывается в арабский мир. С наружной – россыпь вечерних огней Вифлеема, с внутренней – усаженные туей, маслинами и низкорослым кустарником, выцветшие от солнца террасы, стекающие к арабским деревням, отделяющим Гило от самого Иерусалима.
Удивительнее всего на самой горе. Удивительнее тем, что мы не привыкли замечать днем. Небо. Вот что интересно именно здесь. Оно рядом и даже вокруг, горизонт во все стороны аккуратно заправлен под красную черепицу, накрыт ею для устойчивости. Горы ведут себя крайне деликатно, они не заслоняют горизонт. Купол будто поддут снизу, и сам наблюдатель сейчас не на земле, а внутри него – этого купола и пребывает в странном возбуждении, готов совершить нечто неожиданное. Можно прокричать небу, задрав голову и приставив руки ко рту, а еще вернее – попытаться залезть. Удивительное и вовсе невероятное где-нибудь в другом месте, кажется здесь вполне реальным. Если пытаться, то именно здесь. Особенно в сумеречный осенний день. Облака зависают над головой – пепельные, розовые, с белой подкладкой, движутся непрерывно, одно над другим. Так смешивают карты после очередной игры, прежде чем собрать их в колоду и продолжить партию. Наблюдая за этим движением, почти невозможно отказаться от мысли, что делает это кто-то там наверху, уже чуть заметный в кружении калейдоскопа. Вот она проступает холеная кисть игрока в случайном солнечном луче, блеснет дорогим камнем и скроется. Нет ничего достовернее иллюзии. Она не обманет, есть еще нечто там внутри, в акварельных многослойных просветах, выдох-вдох, опять выдох, движение расправленных легких, грудной клетки. Вот приоткрылась ослепительная синева, вновь меркнет, потом, как на экране, видишь биение сердца, темную пульсирующую тень в окружении прозрачной дымки, таинственной, как сбросивший листву лес. Вечер. Мерный шум небесной раковины, приставленной к самому уху. И наблюдатель, захваченный игрой воображения, внутри этого движения. И готов действовать. Разве этого недостаточно, чтобы увидеть сон, который когда-то приснился Иакову? Лестница, ведущая в небо, буднично приставленная к просвету в облаках, как к лазу на чердак. По лестнице снуют ангелы, вверх-вниз. Ангелы заняты делом, так рабочие готовят сцену, меняют декорации, так внимательные официанты готовят праздник, угощение. Иаков, как бывает с первым гостем, пришел слишком рано, застал последние приготовления. Вот они деловито копошатся – небесные жители. Странно, конечно, что ангелы пользуются лестницей, как простые смертные, а не летают. Возможно, наяву Иаков увидел бы их именно летающими. Но знаки редко даются озабоченному дневному сознанию. Доктор Фрейд додумался до того, что было давно известно. Иаков первым опустил свой сон в мировую копилку знаменитых сновидений. Потом к приходу доктора их были там уже тысячи – сны перед битвой, перед болезнью, изменой, любовным свиданием, роковой встречей, внезапным богатством, предательством, насильственной смертью – перед каждым из предчувствий, предсказаний, надежд, страстей, и внезапным окриком судьбы. Иаков был первым в бесконечной череде. Камнем, на который клал голову во время сна, он отметил место и назвал его Вефиль – Дом Божий. Как можно было назвать его иначе, после того, что он видел? Он встал со сна другим. Стало ясно, куда возвращаться, скитания обрели смысл. Прежде чем провести линию, нужно поставить кончик карандаша в исходную точку. Определить место.
Лестница – хорошее нужное приспособление, особенно если один ее конец упирается в облака. Ясно, что не заведет в гнилое, гиблое место. Наверху лучше и чище. Под горой, в месте, где заканчивается мусульманская деревушка, и автобус въезжает в город, стоит малопонятное, на первый взгляд, сооружение. Это она. Лестница Иакова. Настоящая лестница, скелет, с ребрами на просвет. Стремянка, как положено, постепенно сужающаяся к верхушке и напряженно изогнутая, как трап к самолету, только круче. Указатель – Вефиль. Мы его как раз проезжаем. Сегодня лестница не достает до облаков, они чуть выше. Ангелов не видно. Вокруг осенняя явь, сумеречный пейзаж, начало большого города.
Самые знаменитые восхождения в небо совершались именно отсюда. Не в Непале, не с космодромов, без многотонного альпинистского снаряжения и огнедышащих ракет. Первая ступень, вторая ступень… Ничего нет этого. Мохаммед подъехал, слез, привязал коня, тоже, кстати, за камень, их здесь так много, что без камней нигде не обходится, хоть строить, хоть побивать, и полез сквозь семь небесных сфер, пока не добрался до самого Аллаха. Конь остался ждать хозяина, тоже ангельского происхождения с павлиньим хвостом. Таким его запомнили очевидцы. А до него еще один вознесся. Ангел отвалил камень от входа в пещеру, где лежало тело. И еще сидел, дожидался, пока подойдут люди. Убедился и только тогда исчез. И все они, кто поднялся отсюда, возвращались. Оставим сомнения сомневающимся, их не переубедить. И не нужно. Сомнения можно скрыть под иронией, отправив на небо самого барона Мюнхаузена. Но кто оставит камень здесь на земле и назовет его Вефиль – Дом Божий? Оставит, чтобы вернуться.
Дорога на Бершеву
На юге осень приходит незаметно, мелкими шажками, чуть потревожит и отступает. Медлит, тянет время, дает привыкнуть прежде, чем утвердится окончательно. Дождик прошел, тучку занесло. Небо побелело и выцвело. Постепенно подступает это настроение и смиряешься с ним легкомысленно, без огорчения северян – что было и прошло. Этого нет. Тут ничего не запасаешь впрок – ни загара, ни дров, ни банок с вареньем. Зачем? Осень – не сезон, а, пожалуй, передышка от бесконечного знойного лета. Только станет надоедать, и вот уже Иудейская пустыня пылает буйным весенним цветом.
И все же самые сильные ощущения дает именно осень. Страна проступает в ней загадочно и размыто, как проступают абрисы и силуэты из-под плывущего над землей тумана. И пытаешься угадать, что там, в этом сумраке, и сам туман кажется растекшимся беспокойным временем, в которое вглядываешься почти наугад, что там за завесой. Осенний сумрак сродни тревоге, поселившейся в беспокойной еврейской душе. Она там, и, кажется, навсегда.
В такое бессветное осеннее утро, еще до шести, я вышел на дорогу и стал ждать автобус на Бершеву. Предстояло совершить междугородний переезд длиной в два часа. Расстояние здесь измеряют временем, ровно через половину страны. Сами можете судить. Автобус подкатил мягко, я вошел, и сразу окунулся в сосредоточенное молчание рано вставших людей. Впереди еще сидели, а дальше сонные запрокинутые головы торчали, ни одна прямо, а сломленные сном. Мест сзади казалось много, но я решил остаться при входе и уселся наискось от водителя. Не оборачиваясь, он сказал резко, я не понял – кому и что, но сзади, от молчаливых мужчин объяснили на русском. – Это он вам. Пересядьте. Вы закрываете обзор. – Родной язык забывается так, как подступает глухота, человек перестает его слышать и говорит от того громко и будто спотыкаясь. Впереди сидели офицеры или старослужащие, больно серьезны были их лица. Я взял сумку и послушно отправился вглубь автобуса, ощущая себя в некоторой степени изгоем. И удивился, потому что с виду полупустой автобус оказался полон. Везде спали, не заметные из-за высоких спинок, и везде погромыхивало, позвякивало в такт убаюкивающему плавному движению. Повсюду в проходах были свалены мешки и, небрежно растыканное между сиденьями, стояло и лежало оружие. Все выглядело на редкость буднично, даже полудетские белесые в утреннем свете лица парней и девочек, которые явно не хотели терять времени и старались удержать единственное, что еще осталось от воскресенья – несколько минут беспокойного дорожного сна. Cтранный мир подростков с оружием, без радостного ожидания игры, мир без приключения, кипучей романтики, мир работы и обязанностей. Это было ощущение войны. Мое поколение не испытало его, оно лишь присутствует, как растворенная в крови углекислота, и отзывается, не узнанное и не пережитое, слабым напоминанием прошлого. А здесь все наоборот – известное до последнего закоулка сознания, перетекающее из недели в неделю, изо дня в день предчувствие хрупкости и неизбежных потрясений. Взрывов, крови, расставаний и потерь, и в этой будничности – изнанка жизни этой страны, ее выбор и стойкость в каждодневном и привычном утреннем разъезде.
Остановились на окраине Иерусалима. Девочка в хаки, в очках, с золотой цепочкой в распахнутом вороте армейской формы – удивительно узнаваемая еврейская девочка-подросток садилась в автобус. Она догнала нас на мотоцикле и теперь стояла под окном, прощаясь со своим парнем. Она еще о чем-то договаривалась, явно рассчитывая на близкое будущее, и в этом тоже была особая надежда войны. Она целовала, взяв в руки голову возлюбленного и притягивала ее, будто пила, запрокидывая к своему лицу пластмассовую луковицу шлема. Прощались у нас на глазах, вернее, на глазах тех, кто не спал, потому что кроме водителя и меня, никому до этой сцены не было никакого дела. Прощались безоглядно и жадно, но водитель не торопил, будто понимание этих минут входило в его прямые обязанности. Мотоциклист развернулся назад к Иерусалиму, она вошла, измученная прощанием и всей ночью, последние хлопья которой расплывались и гасли, открывая время бессолнечному дню. Она опустилась напротив, на единственное незанятое место и тут же уснула. Мы скатились с горы, буднично проехали деревню Вифлеем, и все так же, погруженные в дремоту, покатили сквозь арабские деревни вглубь страны.
Лавки были еще закрыты. Они выходили прямо к дороге, сплошь расписанные причудливой арабской вязью, ее изящном плетением, с острыми зазубринами, мягкими полуокружиями, и темными точками поверх взволнованной глади письма, знаки непонятного алфавита всматривались в нас своими зрачками. Надписи звали к восстанию. Все стены были сплошь заполнены чернью и сочащимся алым, в подтеках, в избытке ярости и гнева. Целыми кусками было закрашено, будто цензурой. Так, впрочем, и есть. Легко догадаться, большой фантазии не требовалось.
Арабские городки плотно заставлены, будто слеплены из цельного куска, и ползут, растекаясь по холмам, перебивают соты жилищ столбиками минаретов и скупыми пятнами зелени, а поверх слитой воедино массы, выступая навстречу небу, свободно расставлены среди пальм просторные белые особняки и дворцы. Городок на холмах, как книга, распахивался сразу весь с его вбитой в камень безнадежной заурядностью и убожеством и выставленной напоказ кичливой завершенностью богатства. Тяготы бытия и опоры миропорядка над ними, за окнами автобуса – молитва и авторитет.
Остановка. Базарчик у дороги, стол, раннее чаепитие стариков в черных одеждах и белых головных накидках, перехваченных шнурками. И тут же высокая насыпь с колючей, накрученной мотками проволокой, вышка, обычная вышка лагеря, наверху два солдатика с оружием, досужие и настороженные, полулежат, навалившись на ограждение. Устроились прямо над этим базарчиком, над составленными вдоль дороги ящиками, с шлейфом рассыпанных фруктов, над ощутимой даже издали неопрятностью, над этими стариками, городком из глины и камня, неохотно встречающим бессолнечное ноябрьское утро. В автобусе проснулись, засобирались. Стали выходить, забрасывают оружие за спину и бредут гурьбой к посту, над которым свисает недвижно полинялый, выцветший и, пожалуй, рваный флаг со звездой Давида. На всех военных постах, мимо которых пришлось проезжать, они были точно такими – затрепанными, и нигде не новыми, молодцеватыми, обещающими праздник и скорую победу. Нигде не было флагов столь далеких от парада и торжества. Врытый в землю танк, ряды проволоки, насыпь вокруг лагеря, брезент огромных палаток.
И так вдоль всего пути. Деревни лениво просыпаются, открылись лавки, стайки подростков бездельно толпятся возле авторемонта. Мягкая волнующаяся линия гор сопровождает движение. Чахлые сосны, ржавые потеки осыпи, каменные изгороди, рассекающие склоны, терраса за террасой, ряды олив, тусклые слюдяные отсветы, серая, затертая в пыль земля, виноградники, укрытые от птиц многометровыми полотнищами. И вновь террасы, набегающие на дорогу, будто поворотом циркуля выхваченные из первозданной неопределенности, плоские, уложенные кругами холмы, ничто не задерживает взгляд, одинокие, затерянные под низким небом фигуры. Бедуин гонит корову, поперек безжизненного косогора, среди бесцветной выгоревшей земли, отчего сам его поход кажется загадочным и бесцельным. Арабка, тянет ослика, еще две, перебирают камни на распаханном поле, земля усыпана этими камнями, будто только их она рождает с завидным и отупляющим постоянством. Горелые остовы машин, брошенные на обочине, как раньше бросали павших лошадей, оставляя гиенам, ветру и солнцу довершить остальное. И еще пост, и еще флаги с упрямой звездой, выбеленные солнцем, изодранные яростным ветром пустыни, брезент бесконечных палаток, руки часовых на винтовках.
Автобус пустеет, выходят все, офицеры и старослужащие, ребята и девочки. Идут без строя, гурьбой, только молодежь кажется немного потерянной. Привычка к войне и оружию не дается просто, солдатами нигде не рождаются. Как и местные подростки, казалось бы, безразличные к нашему автобусу и его пассажирам. Обруч мира, стягивающий эти деревушки и городки, кажется таким непрочным. Только насыпь, проволока, стволы во все стороны, изодранный флаг. Здесь нет передовой и нет тыла, здесь нельзя словчить и выгадать, здесь все равны. Тут, на оплавленном солнцем плоскогорье, среди этих городков, среди камня и металла, среди нетерпимости, подозрительности и вражды тянутся линии судеб. Здесь крайние сразу все, кто не стал прятаться, кто готов принять эту участь и ответить перед своим Г-подом.
А вот, даже удивительно, затесался ортодокс в сюртуке и шляпе, черных туфлях, будто списанный с персонажей Дж. Свифта. И с неизбежной духоподъемной книгой. И тоже спешит куда-то.

Танец
Бершева (Беер-Шева) двадцать пять лет назад, быстро растущий израильский город, прилепившийся к Иудейской пустыне, знаменит бедуинским базаром. Шуг – базар, и репатрианты, быстро освоившие торговое пространство нового языка, так и говорят – сходить на шуг. Сюда заворачивают кочевые племена бедуинов, свободно пересекающие границу между Израилем и Иорданией. Это несомненная примета Востока: война – войной, но торговля – торговлей. Поскольку к бедуинскому племени не приставишь таможню, здешняя толкучка славится низкими ценами. Более всего знаменита коммерция украшений – бесчисленные сережки, броши, цепочки из серебра, втрое ниже, чем в любом другом месте Израиля. Пока караван идет, в оазисах стучат бойкие молоточки, плавится металл в тигельках, тянется серебрянная нить. Среди бедуинов немало русскоязычных, вполне узнаваемых, часть грузинских евреев вернулась к кочевому образу жизни. К чертям земледелие, тучные нивы и тощие пастбища, да здравствует коммерция и бог ее Меркурий. да здравствует изобилие кочевых шатров до отказа забитых футболками, джинсами, платьями, юбками, рубашками, бельем и прочим ширпотребом. Пригород Бершевы с разглаженной грунтовой дорогой в ухабах, с кучами сбитого в камень песка незаметно переходит в пустыню и растекается в мареве, не оставляя даже чахлого кустика равнодушному взгляду, только пыльный жар, за которым дальний берег Мертвого моря, где нет ничего израильского, где Иордания, и тяжелый от зноя восток, утыканный нефтяными вышками.
С городской окраины пустыня представляется безликой и неинтересной. Уже за полдень оттуда к базару выходит группа молодых людей. С виду американцев, может быть, европейцев. Высокий красавец в бурнусе, слегка небритый, устраивается, лежа на боку, на базарный прилавок, выкладывает на себя длинную трубу, поддерживает ее снизу голой пяткой. Труба исторгает хриплый звук гoлодного мычания. Или страстного, так лучше. Под мычащим прямо под рундук усаживается его приятель, одетый вполне цивилизованно – в черную майку и шорты, он с парочкой небольших барабанов, похожих на половинки арбуза. Есть еще третий, тоже с трубой современного вида. Они хорошо сыграны, быстро начинают восточную мелодию, задают монотонный ритм. Играют профессионально, не иначе, как джаз ориентального, так называется все, что связано с востоком, направления.
Суть зрелища в девушках, взявшихся танцевать тут же на выбитом в камень проходе базарного ряда. Их двое. Привлекательная рыжая, одетая в сари/ она работает только руками, раскачиваясь в ритме музыки. Погоду делает ее напарница. В прозрачных шароварах, в платке, повязанном наискось, оставляя открытыми плечо и живот, грациозная, с красивым сосредоточенным лицом, застывшим, как маска, она заполняет пространство, очертив круг плавным циркульным движением вытянутого вперед носка. Выверен каждый шаг, жест. Танец однообразный, мерный, волнующий, сладострастный. Тянется долго. Руки не стихают, не останавливаются ни на мгновение, будто водоросли шевелятся под невидимым течением в глубине вод. Каждый всхлип трубы, постоянный рокот барабана, призывный рев восточного инструмента – все переплавлено в танец. Круг за кругом, страстные конвульсии живота, луч солнца, скользящий по лицу, застывшая маска царственной куклы, озноб тела. Труба уступает пространство звука барабану, выжидает, вновь вступает, рвется бешеный вой. Танцовщица движется, нанизывая, наматывая круги невидимой нитью, блестящая птица в огромной клетке из золота и жара предвечернего солнца, потом замирает, начинает опадать, ниже, распластывая тело, уходит, как в пучину, в твердь базарного пятачка, под ногами вялых от жара зрителей, тянется уже по земле, еще и еще, замирает в шпагате, уронив голову, застывает между базарных рядов. Глаза толпы. Покупателей немного. Последний удар раздается над ней, уже неподвижной, визгливо мычит труба и взбрыкивает барабан. Наступает тишина. Она держит ее долгую минуту, никак не меньше, вокруг молчат, народ застыл, только поодаль в овощном ряду перекликаются мальчишки, собирают нераспроданный товар. Тут из базарной харчевни вываливают толстяки – оплывшие щеки, масляный блеск, золото во рту, мелкая угольная щетина. Смотрят на распростертую с сытым интересом, оценивают. Она сейчас встает, медленно, будто со сна, загипнотизированная собственным движением и его внезапным обрывом, финальным рывком в тишину, берет с прилавка сброшенную туда большую черную шляпу и идет с ней по кругу. В глазах нет ничего, ни выражения, ни отклика, они остановлены, взгляд ее видит сейчас только себя, и тот мир, в который она покинула буквально вот-вот. Если подают, она благодарит полупоклоном, легко, по балетному, чуть присев и отведя назад ногу. Руки движутся. Лицо скрыто оцепенелой улыбкой. Что за ней – благодарность или презрение? Что заслужили мы – зрители? Что смотреть ходили вы в пустыню? Как клялся когда-то Ирод обольстительной танцовщице – чего не попросишь у меня, дам, вплоть до половины моего царства. Голова – вот достойное вознаграждение, легенда, голова с потухшими глазами, голова на мраморном прилавке мясных рядов в небрежно затертых подтеках крови… Шум далекого пира доносится, кажется, не исчезая вовсе, искусство требует жертвоприношения – буквально и немедленно на наших глазах. Мир застывает на мгновение, и, гася магию предания, откликается трезвым голосом века. Те, кто мог быть укрощен ее гневом, чувствуют. У них свое оружие, своя сила. Толстяк с презрительным выражением достает бумажку, танцовщица подходит, замирает в привычном полупоклоне, тянет шляпу, облегчая встречное движение, а он теперь медлит, деньги липнут к руке. Вот его власть, его месть. Почти не меняя линии благодарного поклона, она чуть распрямляет спину, поднимает голову и глядит. Та же улыбка, ничего не меняет. Он держит деньги, даже оглядывается на приятелей и только потом стряхивает деньги щелчком и презрительно, именно как подачку, в шляпу. Возьми. Таков его ответ, вызов на равных. Вот цена ее красоты, ее танца, вот приговор презирающего cытого высокомерия. Она идет дальше, ничем не выдав себя. А музыканты, не обращая внимания на сборщицу, заняты своим, подхватывают инструменты и идут прочь. За базаром. Там дорога раздваивается, одна – в город, другая – к близкой пустыне.
Страна изобилия
Вениамина М. я раньше не знал, хоть среди общих знакомых знать его полагалось. Про него – еще до отъезда человека вполне взрослого и самостоятельного – так и говорили: – Как вы не знаете? Этот тот самый М. – сын доцента М. Считалось, что не знать доцента М. совсем невозможно. Другие корни генеалогического древа Вениамина М. были для меня неизвестны, но доцент в тогдашнее советское время звучало почти как титул. Тем более, что титул, как известно, можно было купить за деньги (Ротшильд когда-то так и поступил), а доцента так просто не купишь. Раньше так было. Сейчас в подземных переходах запросто продают Трудовые книжки и всякие Дипломы. Но зачем теперь покупать доцента, когда почти за ту же цену можно купить профессора или академика? Сам Вениамин дело доцента М. продолжать не стал и отбыл в Израиль. Тогда это было связано с трудностями, но теперь времена переменились, и сын доцента появился у нас, как скворец из пионерской песни, возвестивший приход весны. Конечно, сравнение натянуто и может быть использовано лишь с одной целью, показать, что, вернувшись, Вениамин попал как бы в другую страну. И потому знакомые, пережившие эти годы безвыездно в наших краях, говорили с волнением: – Вы знаете, приехал Веня М. – сын доцента М. (вы его должны помнить). Совсем другой человек. Сами увидите.
Свести нас обещал общий приятель. Меня интересовала судьба израильских друзей, разделивших в те давние годы Вениаминову участь первопроходца. Да и сам я, признаюсь, задумывался, наступает время, когда хочется перемен. Встреча с М. назрела. Приятель сообщил, что М. заедет к нему на работу, и по пути домой они могут быть у меня. Бывших земляков передавали друг другу, как драгоценные сосуды, исполненные, если не мудрости, то полезной информации. И еще неизвестно, что важнее.
Давно это было, теперь молодежь не поверит. Время для организации застолья было не простое, но бутылка водки и банка рыбных консервов у меня имелись. Я сходил за редиской и стал дожидаться гостей, надеясь, что М. окажется не слишком привередливым. Но не дождался. Оказалось, с утра он отправился в недальнюю провинцию к родителям жены. Его представления о пригородном сообщении явно устарели, автобусы не ходили по причине отсутствия бензина, и наш иностранец вернулся домой лишь к ночи. Состояние счастья определяется ценой усилий, затраченных на его достижение, так что странник вернулся очень счастливым.

