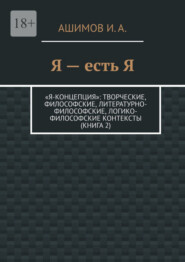
Полная версия:
Я – есть Я. «Я-концепция»: творческие, философские, литературно-философские, логико-философские контексты (Книга 2)
Действительно, внутреннюю борьбу за равновесие и цельность у меня была непростой. Сначала грузом детской застенчивости и комплекса недостаточности, а затем постоянным внушениями себе самому о том, что тебе то или это не дано, которая постепенно переросла в глубокое сомнение и страх. Тот самый комплекс неполноценности, который когда-то помогло выжить и встать на ноги, потом стало мешать, тормозить мое же развитие. Но тот же комплекс неполноценности, потому уже трансформированный в комплекс превосходства, постепенно освободил, хотя и не полностью, меня от неуверенности и излишней закрытости. Можно ли говорить о союзе вышеприведенных комплексов или же о комбинированной их диктатуре надо мною? В этом аспекте, я до сих пор сомневаюсь в том, что являюсь ли человеком творческим или же мое творчество – это не столько призвание и потребность, сколько подходящий для меня способ уйти от растерянности, неуверенности, страха в поиске своего равновесия и цельности. Джим Керри (2012) высказал такой афоризм: «Если вы уходите и вас никто не зовёт обратно – вы идете в верном направлении».
Само по себе интересным является уяснение связи жизни и мысли философа, с одной стороны, и места его обитания, с другой. Речь идёт о прецедентах создания автобиографии места через автобиографию философа. «Для философа нет большей угрозы, чем биография, любая, и его собственная в первую очередь. Реальный философ, начав философствовать, отбрасывает и свою, и чью бы то ни было биографию. Биография нейтрализует самые интересные точки в мышлении», – писал А.М.Пятигорский (1929—2009). «Ты являешься в мир вообще, как никто, как вещь среди вещей. Тебе ещё предстоит создать то, чего не было, приподняться, что, собственно, и есть дополнительный смысл феномена мысли: мысль как зрение, умозрение, видение», – писал М.К.Мамардашвили (1930—1990). Получается следующее: смотреть, прозревать, подмечать, мыслить, размышлять, выстраиваясь в долгую вертикаль, ища себе место, подыскивая, подстраивая его под себя. Я долгое время работал в Национальном хирургическом центре, потому не имел никакого отношения к академической философии. Между тем, я долгое время пытался выстроить свою концепцию методологии науки, опираясь на достижения клинической и экспериментальной хирургии рубежа ХХ-ХХI вв., стремясь построить логику и эпистемологию на конкретном материале.
Собрать молодых исследователей, как единое сообщество с концептуальным ядром единомышленников и последователей физиологического направления в хирургии. Помнится, первичный коллектив создан, начались семинары, как особая «организационная ячейка», как место мысли. Сейчас я с удовлетворением вспоминаю эти семинары. Остались сборники научных работ, доклады, статьи, то есть в виде диссеминации наших идей и концепций не только в области хирургии, физиологии, методологии, но и социологии и философии медицины. Методология, а также философия через нее, как живое мыследействие, а не академическая дисциплина, медленно и робко укоренялась в Национальном хирургическом центре. Постепенно, это место загоралась новым светом – светом уже не медицинской, а философской мысли. Хотя первые попытки мыслить на новом уровне у сотрудников были неуклюжими и робкими. Это было необычным явлением для самого коллектива, который всегда выступал убежденными сторонниками анатомического направления в хирургии. И вот на такой тонкой событийной линии выстраивается весьма хрупкая духовная эстафета, которая в любой момент могла в одночасье прерваться. К сожалению, такое случилось, когда «всю науку» в данном центре передали в ведении новоявленного доктора наук, далекого от науки, вообще. Я же в знак глухого протеста принял приглашение занять должность проректора по научно-учебной работе Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, хотя знал и понимал, что это не мое. Точно также я некогда уже уходил из центра на должность начальника медико-биологических, химических, ветеринарных, сельскохозяйственных наук Национальной аттестационной комиссии Кыргызской Республики. По сути, они были для меня площадками, чтобы переждать, сделать паузу, одуматься, осмыслить ситуацию и вновь ринутся в новое направление. Однако, каждый раз возвращаясь в клинику, мне думалось, что это весна, а оказывалось, что это оттепель, когда вновь мои устремления маялись в темноте. Я понимаю, что такие решения были результатами неадекватности моей логики здравому смыслу.
Помнится, в 2003 году произнес «Актовую речь» в Национальном хирургическом центре на тему «Философско-методологическое измерение пределов допустимости пересадки жизненно важных органов». По сути, я подвел итоги своего пятидесятилетия жизни и двадцатипятилетия хирургической и научной деятельности. Я заметил, что после пятидесяти лет, когда я занял некий социальный и профессиональный статус, для меня более значимыми становились семейные отношения. Оказывается, согласно психологии, именно в таком возрасте проявляются особенности «Я-концепции». Человек реально оценивает себя как личность, самооценка становится обобщенной. С высоты прожитых лет, становится понятным, что наши родители, воспитывали нас по так называемой властной модели. Мы выросли с заниженной самооценкой, стали в меру замкнутыми и с малым доверием к людям. В то же время, стараясь не повторять ошибки своих родителей, оказывается, я как родитель принимал участие в воспитании детей по так называемой снисходительной модели. Я не предъявлял к детям больших требований, был с ними снисходительным на грани почти равнодушия к их делам, устремлениям, интересам. В результате, такой вот потворствующей протекции у них сложился индивидуализм особой модели. Объявив в своей актовой речи мысль о том, что «после пятидесяти лет жизни человек продолжает идти вперед, но задом наперед» я, почему-то с каким-то нетерпением ждал своего пенсионного возраста. Я не боялся потерять свой прежний социальный статус, свою самооценку, самоуважение, так как уже начинал понимать и осознавать, что нужно постепенно отходить от активной деятельности. Понимал, что на быстрый и безболезненный процесс адаптации к пенсионному образу жизни влияют выбор нового и интересного занятия.
Было время, когда я, став пенсионером, но продолжая работать в системе Национальной академии наук Кыргызской Республики, почувствовал, что вокруг меня «свое» пространство, в котором мне легко, и непринужденно. Я теперь был не так скован и узок, не так прямолинеен к истине, более терпим его вариантам и версиям. Разумеется, выстроенная мной система взглядов в отношении результатов научных исследований, оценки правоты и состоятельности новых данных и их концептуальных значений, была более гибкой, разносторонней, многоаспектной. Я уже не раз говорил о том, что во мне с детства было мало здравого смысла и практической сметки. С детства привык, что хорошее всегда дается трудно, требуя всего тебя. В этом аспекте, любые исследования в области медицинской и физиологической науки пытался выполнить, выбирая сложный путь, обязательно включая методологический компонент соответствующей науки. Такая высокая плата за научную истину успокаивала меня, а большие усилия только подчеркивали высоту задачи. Вместе с тем, что странно, меня всегда раздражало то, что некоторые исследователи ухитрялись получать какие-то неплохие научные результаты, стоя на скользкой льдине, с глубиной под ногами. В отличие от них я хотел чувствовать почву под ногами. Я постоянно чувствовал, что работаю на границе своих возможностей, много читал, вникал, в поиске основания не только полученных результатов, а всей своей науки. Вот-так, постепенно я начал терять интерес к частным клиническим научным исследованиям, постепенно смещая свои интересы в сторону методологии и философии, совершенно не теряя при этом связи с физиологией и медициной.
Однажды я понял, что для меня начинается новая эра – эра приобщения к философии. Я был в растерянности, а чтобы посоветоваться и поговорить у меня не было ни одного знакомого философа. В один из дней оперировал одного человека, который оказался кандидатом философских наук. Познакомились, поговорили на счет того, к чему приложить свои силы вначале. Разумеется, этот человек скептично отнесся к моему желанию всерьез заниматься философией, но из-за своей корректности, виду не подал и попытался направить мое внимание на чтение философских трудов. Я принялся усердно читать философскую литературу, вникал в свою, по сути, предполагаемую задачу в области философских исследований, с тревогой следил за тем, как мировая философская наука лихим галопом удаляется от меня. А я даже еще и не начал. В тот период жизни во мне преобладала страсть к философскому знанию, к ясности сути многих явлений и не только в сфере науки. Многие отнеслись к моему новому увлечению с непониманием.
Приобщаясь к философии понимал, что в сущности медицину, а затем и физиологию, мне пришлось познавать во всей их глубине, а не перескакивая через них. Причем, делал это из понимания того, что познавать философское основание современной медицинской и физиологической науки с ее новыми постулатами и парадигмами – веление времени и обстоятельств. На этом пути никто мне не сделает уступок и поблажек, наоборот, вызовет у многих ученых, в особенности, философов, раздражение, злость, негодование, вплоть до открытого противостояния. Между тем, я хотел «внедриться» в философию, и в то же время вести себя тихо и мирно, то есть никому не мешать, не досаждать своим незрелыми философскими рассуждениями. Помнится, я добросовестно избегал встречи с философской общественностью, вплоть до официального предзащитного рассмотрения моей диссертационной работы «Анализ и синтез философско-методологического основания хирургии рубежа ХХ-ХХI веков». Вот тут-то я почувствовал все предубеждения нашего философского сообщества о том, что нечего делать непрофессиональным философам в их поле деятельности. Естественно, была критика – жесткая, но предметная, конструктивная. Пришлось еще года два поработать над диссертацией. Защита прошла удачно и лишь тогда заговорил о «феномене Ашимова».
Вот-так, вытерпел, исправился, набрался определенной философской культуры, наконец, вырвался и попал в совершенно на другой уровень осмысления и обобщения. Для человека, который страстно хотел переделать себя, усовершенствовать, кем-то стать, и в то же время, никогда не видевшего себя со стороны – это было большой личной победой, сродни полной свободы. Сейчас, с высоты своего возраста, понимаю, что экспериментировал по жизни, насиловал самого себя, свои мозги, но это тогда воспринимал с готовностью и пониманием. Было такое ощущение – редкое для меня и моего характера, отягощенного комплексом неполноценности, – я зауважал себя! Хотя, в каждый из жизненных периодов я считал, совершенно искренно, что теперь живу правильно, а раньше. Здесь хотелось бы процитировать самого Чингисхана: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся, а сделал – не сожалей». Однако, я часто поступал довольно опрометчиво, в какой-то мере идеализируя высказывание Марка Аврелия (180—121 г. до н.э.): «Проблема в том, что, не рискуя, мы рискуем в сто раз больше».
Так было с переходом на работу в должности проректора по научной и лечебной работе Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, так было с переходом на работу в Национальную аттестационную комиссию в должности начальника сразу двух отделов медико-биологических, аграрных науке и гуманитарных наук. Скажу откровенно, оба перехода были из разряда своеобразного моего демарша против Национального хирургического центра, на базе которого функционировала моя кафедра хирургии для усовершенствования врачей. В тот момент у меня был страх неустойчивости, инстинктивный, почти подсознательный, что, начавшейся претензии к кафедре повлияет на наши отношения с шефом – директором центра. Позже мне пришлось добровольно передать кафедру моему профессору – Ниязову Б. С. А с другой стороны, я сам уже давно тяготился преподавательской работой на кафедре. В этом плане, мой переход на должность проректора было вообще опрометчивой, необдуманной. То же самое могу сказать и о переходе в экспертный орган. С другой стороны, и науку я хотел другую, уже понял, что в медицинской науке в сфере хирургической деятельности мы на задворках. Так что я не бежал, я пытался ухватится за возможности, которые казались мне светом в конце туннели. Мне казалось, что у меня не было других, равноценных этим предложениям. Хотя, именно в это время поступило предложение, причем, дважды, из подмосковного Института криобиологии занять должность заведующего лабораторией. Помнится в этот период отмечался массовый отъезд российских ученых на Запад. Сейчас я сожалею, что тогда оттолкнул такую привлекательную возможность. Нужно сказать, что занимаясь вопросами трансплантологии у нас в Проблемной лаборатории клинической и экспериментальной хирургии, нами были проведены серьезные научные исследования по криоконсервации почечного аллографта и семенников. Видимо, менеджеры по кадрам того самого подмосковного Института вышли на меня по нашим публикациям.
Итак, приглашение в Подмосковье. Почему я не уехал? Ведь несколько раз был близок к этому решению, и возможность была… Наверное, сказалось мое недоверие к тому, что изменив условия жизни, я добьюсь какого-то перелома в судьбе. Опять мой комплекс неполноценности сыграла свою негативную роль. У меня не было таких интересов в жизни, как заработать денег, заполучить комфорт, ради которых стоило бы уехать. Что же касается науки… Я уже знал, что там перспектива, там будущее, но боялся, что не смогу оправдать доверие руководства приглашающего Института. Ведь речь идет о Российском Институте с устоявшейся традицией. А здесь же я уже получил кое-какое признание, я был уже доктором двух наук – медицинской и философской, и главное, привык распоряжаться собой, никому не подчиняться, делать то, что интересно мне. Понимал, что там мне придется из кожи лезть, чтобы «завоевать свое место под солнцем». Страх, сомнения и какая-то иллюзия о том, что и здесь, когда-либо что-то изменится в лучшую сторону. Не знаю, может, это было неразумно, но я не решился. Нищета отечественной науки, конечно же, усиливала ощущение тупика, о котором все чаще начали говорить на исходе уже первого десятилетия нынешнего века.
Нашим ученым, в силу разных обстоятельств, главным образом, в силу недостаточного финансирования, оттока научных кадров, устаревания парка научного оборудования, приходилось довольствоваться узкими вопросами, отдельными аспектами научных проблем. Не скрою, что несколько раз я приступал к выполнению важных научных проблем, но внимательный обзор литературы показывал, что мы никогда не сможем решить их нашим собственным потенциалом. Естественно, опускались руки, приходили к разочарованию, страдали от того депрессией, апатией. Редко кому из наших ученых, даже в стенах Институтов Академии наук ухитрялись делать что-то значительное, соответствующего мировому уровню. Наверняка, надежда на то, что «когда-нибудь у нас все будет хорошо» стало болезнью, неосуществимым желанием.
Известен афоризм Гераклита (544—482 г. до н.э.): «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, ибо другие воды прибывают постоянно» [Гераклит. Фрагменты, VI в. до н.э.]. Вот и с моим выбором – хирургия или философия. Оказывается, с возрастом для меня, как всегда противоречивого человека, нелегко было сделать решительный выбор философии. Казалось бы, зачем менять свою практически полезную, жизнеутверждающую профессию врача на другую профессию, носящий печать абстрактности и неочевидной полезности. Признаться, в тот момент я действительно находился в затруднении – вновь окунуться в клиническую практику или же уйти в философию навсегда? Мысленно представил себя на месте Юлий Цезаря (100—44 г. до н.э.), который долго находился в раздумье перед переправой – переходить или не переходить реку Рубикон? Наверняка, его генералы, стоящие позади, удивлялись его необычной нерешительности, но в следующее мгновение они уже услышали его «Вперед!». Вот-так был перейден Рубикон. В этом смысле, еще Гераклит (544—482 г. до н.э.) признавался в том, что он всегда приходил в отчаяние при мысли о человеческом жребии: «Мы сознательные существа, наделенные чувствами, однако, мы существуем в мире, сама природа которого заключена в противоречия».
Я уже упомянул о том, что на моем личном счету примерно три тысяча спасенных жизней за свыше тридцатилетнюю хирургическую деятельность. Разумеется, это покажется «каплей в море» если соотнести в республиканский и тем более мировой масштаб хирургии. Однако, суть моего утешения заключается в том, важно не общее количество спасенных жизней, а личный вклад в спасение, как утверждает П. Сингер (2006) [Сингер П. Жизнь, которую вы сможете спасти, 2009]. «Человек является причиной другого человека, хотя не его сущности», – пишет Б. Спиноза (1632—1677) [Спиноза Б. Этика, 1677].
По прошествии много лет я часто задаюсь вопросом: что мне дали эти переходы? Я, каждый, каждый чертов раз пытался представить себе мысль о том, что переключаясь на следующую новую стезю, делаю почти непоправимую ошибку, оставляя за собой накопленный и осознанный опыт предыдущей деятельности. Я снова оказывался в потоке новых познаний. Приносили ли они утешение? Пока не видя горизонты этого нового, я годами томился ожиданиями. А ведь у океана нет границ. Однозначно, изменился масштаб моих представлений о многом – об образовательной стратегии, о стратегии подготовки и аттестации научных кадров страны. Я узнал интересных, крупных, выдающихся людей, у которых было, чему поучиться. Можно посмотреть на вещи и по-другому: я с такой бездумной легкостью, с таким увлечением в течение двадцати пяти лет своей жизни занимался последипломной подготовкой хирургических кадров, пройдя последовательно путь ассистента, доцента, профессора, заведующего кафедрой и, наконец, проректора Института переподготовки и повышения квалификации.
С такой же легкостью, с таким же увлечением в течение двадцати пяти лет своей жизни занимался медицинской наукой, пройдя путь аспиранта, завлаба, ученого секретаря, замдиректора по науке. Кто знает, может быть мне нужен был именно такой путь «созревания» для большой науки? Кто знает, возможно, так постепенно ученые созревают для своего следующего поворота? Так или иначе в своей лаборатории я забывал то, что вокруг нее кипит реальность. Для меня мир был самой нереальностью, так как мир – это то, каким мы его видим, представляем, воображаем, придумываем. И наукой я занимался по-своему, не взирая на традиции и характер самого занятия. Ведь ее я представлял только моим делом, приспособляя науку к себе, а не приспособляясь к ней. Благодарю судьбу, что меня в этой сфере деятельности не подмяли, не сломили. Более того, всегда предоставляли должное место под солнцем. С другой стороны ум и тщеславие говорили мне, что лишь наука и творчество определяют мое место. Вот почему, я так настойчиво добивался своей научной ниши, в которой, я, временами просто отсиживался, стараясь не обращать внимания на все остальное.
В каждом моем личном Рубиконе, скачке, крутом переходе от одного профиля деятельности в другую были так называемые «невозвратные издержки». Каждый раз меняя направление своей деятельности я задавался вопросами: «какое решение я бы принял, если бы мне пришлось вернутся к самому началу? Какой совет бы я дал другому человеку в соответствующей ситуации? Все должно иметь смысл, так почему бы и не в этом случае?». Я знал отдельных ученых, которые при встрече высказывали свои мысли заняться, как я, философскими вопросами своей научной специальности. Некоторые из них, действительно, могли бы это сделать и как я даже защитить вторую диссертацию по философии. Однако, я убедился в том, что «наблюдение за дорогой в зеркале заднего вида не поможет человеку добраться туда, куда он хочет». С одной стороны, таким ученым нужно примирится с неопределенности «нового» и отпустить от себя «старое». Однако, в жизни они продолжают навязчиво размышлять о смене научных интересов и сфер своей деятельности, потому что не может принять реальность такой, какая она есть. В этом отношении, они похожи на задумчивых коров, переживающих жвачку снова и снова. Чем меньше человек «пережевываете» ситуацию, тем хуже ему становится, тем меньше шансов у него остается на совершение позитивного перехода из одного качества в другую. Такова логика перехода из «старого» в «новое».
Помнится, работая в своей Проблемной лаборатории, занимаясь проблематикой физиологической хирургии и компенсационной медицины, я понял, что моя наука не так уж сильно изменяет меня, не поднимает, а только истощает, потому что недостаточно обширна и фундаментальна. А ведь в нее я вложил многое – время, серьезную увлеченность, большую концентрацию сил и внимания. Даже создав свою школу экспериментальной хирургии, все чаще стал ощущать страх оказаться в пустоте, без творческого содержания жизни. Я, таким образом, оказывается долго уходил от полной ясности, утешал себя, надеялся. Безусловно, постоянная моя чрезмерность позволяла мне кое-что в науке делать лучше многих, но зато, в такой же мере, она истощала и лишала радости достижения. Мучительно думал, с чего начать, с сомнением и напряжением сил строил планы на будущее. Естественно, был страх перед неизведанным. Малодушный и неуверенный с детства, долго прикидывал свои возможности, строил планы, прикидывал возможные риски и неудачи. Я нутром чувствовал, что впереди у меня тупик и если сожгу мосты, то будет зиять пропасть за спиной. Жан Рено (2004) эмоционально признавался: «Нельзя возвращаться к предателям! Нельзя! Локти кусайте, землю жуйте, но не возвращайтесь туда, где когда-то вас предали».
Я бывал в отчаянии много раз. Беспокойный мой характер способствовал тому, что я смог «заякорить» ряд новых хирургических методов и технологий. К их числу относятся гемосорбция, гемофильтрация, ксеносорбция, плазмоферез, лазерной и ультрафиолетовое облучение, лапароскопия, торакоскопия, ультразвуковая видеоконтрольная хирургия, стереоскопическая хирургия и другие. Сюда же можно отнести использование идейной базы ряда теоретических наук в хирургию – патофизилогия, патоморфология, патобиохимия, математика, биофизика. «Эффект заякоривания» можно проследить и в области философских исследований – биофилософия, биоэтика, социология и философия медицины, наконец, создание Виртуального Института Человека (2021). Но у меня никогда не было «эффекта гало», то есть рекламизации, ореолизации, сакрализации своих достижений. Т. Кун (1922—1996) писал: «Переход от познания одной парадигмы к познанию другой – есть акт „обращения“, в котором не может быть места принуждения» [Кун Т. Структура научных революций, 1962]. В этом аспекте, знание можно рассматривать не как линейное накопление фактов, а как замену одного мировоззрения другим. Таким образом, парадигмы существуют не только в науке, но являются естественным для человека способом постижения мира.
Я часто задаюсь вопросом: что меня побуждало к смене парадигм – от медицинских наук к физиологическим, а оттуда к философским? Что это было на самом деле? А ведь было последовательный переход по восходящей. Вначале сугубо эмпирическая прикладная наука (медицина), затем фундаментальная наука (физиологи) и лишь потом метатеоретическая наука (философия). Есть интересное выражение Т. Куна (1922—1996) «Когда на смену одной парадигмы приходит другая, революционно изменяется мировоззрение и тогда то, что в научном сообществе считалось утками до революции, становятся кроликами после революции» [Кун Т. Структура научных революций, 1962]. Известно, что парадигма начинает рушиться, когда она больше не может эффективно решать поставленные перед ней задачи. В этой ситуации ученые начинают получать «неправильные» ответы. Когда парадигма находится в кризисе, становится возможным прорыв к новой парадигме. Естественно, многим ученым легче работать в рамках одной парадигмы, но есть ученые, которые способны преодолеть такую замкнутость.
Я менял парадигму реальной жизни и деятельности ряда раз. Вначале поменял парадигму социализма, на парадигму капитализма, в чем совершенно не преуспел. Затем сменил парадигму клинической деятельности на теоретическую физиологию, а далее на парадигму философии. Кто они «возмутители» регламента обычной науки? Прежде всего, это настоящие исследователи, которые на свой страх и риск замахиваются на доказательство правоты новой парадигмы. Между тем, новая парадигма приспосабливает науку к объяснению реальности наилучшим образом, то есть служит линзой, через которую можно разглядеть истину по лучше. В этом отношении, таких ученых, как я можно рассматривать как «простых рабочих философов», занятого лишь расчисткой почвы и удаления части мусора, лежащего на пути к истине. Попытка такого исследователя строить систему ради желания определить пределы знания для одного человека всегда привлекательна. Я уходил, а не оставался, вот в чем вопрос. Если бы оставался, что было бы со мною, с моими делами, устремлениями?



