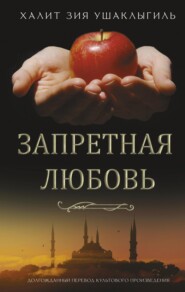
Полная версия:
Запретная любовь
Каждый день, закончив до обеда занятия, она брала девочку, они шли в комнату больной матери, и, пока непоседливая Нихаль все переворачивала вверх дном, она, улыбаясь, сидела рядом с больной. Этим двум женщинам было достаточно посмотреть друг другу в глаза, чтобы излить душу. В молчании, понятном для обеих, даже без слов, они слышали, понимали друг друга и были подругами.
Когда родился Бюлент, больная настолько сдала, что для всех, включая мадемуазель де Куртон, стало очевидно, что дети обречены лишиться матери. Два года больная женщина провела, как нежный росток, потихоньку сохнущий за стеклом оранжереи, жизнь уходила из нее словно по капле. И вот однажды Нихаль в сопровождении мадемуазель де Куртон отправили на Бююкада[37] к старой тетке Аднан-бея. За пятнадцать дней, которые они там провели, девочка ни разу не вспомнила про дом и не спросила о матери. Но в тот день, когда они вернулись, заметив заплаканные глаза встречающих, она тут же все поняла и закричала:
– Мама! Я хочу видеть маму!
Увидев, как растерянные обитатели дома молча прячут от нее глаза, она бросилась на пол в нервном припадке, выкручивающем ей руки и ноги, раздирающем горло, разрыдалась, взывая: «Мама! Мама!», но увы, эти призывы остались без ответа.
Тогда старая дева поняла, что настал час выполнить святую миссию, возложенную на нее: сделать так, чтобы эта сирота забыла о том, что лишилась матери…
Некоторые черты в характере Нихаль настораживали гувернантку. В поведении Нихаль была странная, не поддающаяся анализу противоречивость. В любви, которую к ней проявляли все обитатели дома, начиная с отца, преобладало сострадание. И чувство, что любят ее из жалости, накладываясь на доставшиеся ей в наследство слабые нервы, делало девочку еще более ранимой. В результате ее окружала атмосфера всеобщей покорности, словно любое резкое движение или слово или даже вздох может если не убить этот нежный цветок, но надломить его, и он увянет и побледнеет. В Нихаль жила боль сиротства, и, глядя на нее, у всех, кто окружал ее, на глаза наворачивались слезы.
Возможно это бы не бросалось так в глаза, если бы поведение Нихаль не было таким противоречивым. Перепады в ее настроении и постоянное потакание им создавали вокруг нее порочный круг, в котором еще заметнее становилась ее хрупкость. У нее были такие капризы, что можно было подумать, что это совсем другой ребенок. Особенно ярко это проявлялось в том, как она вела себя с отцом: она вдруг становилась как будто на несколько лет младше, забиралась ему на колени, хотела целовать его в губы, там где их не царапали усы, становилась назойливым ребенком, постоянно требующим ласки. Она хотела, чтобы ее любили еще больше, будто ее потребность быть любимой не удовлетворялась настолько, насколько ей хотелось. Усидеть больше пяти минут на месте, заниматься чем-либо больше пяти минут – этого нельзя было ожидать от Нихаль, которая, казалось, пытается постоянно убежать от тревоги, от глубокой сердечной печали, тайно гложущей ей сердце.
Это беспокоило мадемуазель де Куртон больше всего. Ей никак не удавалось заставить Нихаль хотя бы в течение получаса писать прописи или играть упражнения на пианино; занятия постоянно прерывались и состояли из каких-то отрывочных кусков. Но потом, несмотря на то, что занятия шли кое-как, вдруг каким-то непостижимым образом оказывалось, что Нихаль все выучила.
Иногда у нее бывали долгие периоды раздражительности, дурного настроения, когда с ней не было никакого сладу, и, если они не прорывались потоком слез или не заканчивались нервным припадком, они могли растянуться на многие дни. После слез, конвульсий, истерик на ее лице появлялось выражение покоя, как будто она долго-долго спала, словно приступ измотал ее, но и позволил расслабиться. Причиной этих нервных срывов, которые возникали непредсказуемо по совершенно нелепым поводам и которым непременно нужно было выплеснуться, была ее душевная ранимость. Эти приступы сменялись периодами неудержимого веселья, и тогда просторные холлы ялы и огромный сад наполнялись шумом ее бесконечной беготни вместе Бюлентом, Джемиле и Беширом.
Мадемуазель де Куртон опасалась, как бы эти перепады настроения не сломили слабый организм Нихаль, как ветра, дующие в разных направлениях, столкнувшись в одной точке, переламывают нежную тонкую веточку, оказавшуюся у них на пути.
Чего только ни придумывали они с Аднан-беем, к каким только средствам ни прибегали, чтобы справиться с этими перепадами настроения и привести в равновесие характер ребенка. Но все было напрасно, что бы они ни делали, им не удавалось решить эту загадку.
Особенно сложно оказалось наладить ее отношение к Бюленту. Узнав, что из животика мамы появится ребенок, она летала от радости и хлопала в ладошки, но когда он родился, эта радость стала проявляться иначе. Если раньше она заходила к матери один-два раза в день, то теперь она совсем не хотела выходить из комнаты, капризничала, блажила, никого не подпускала к ребенку, взбиралась на постель к матери и постоянно требовала, чтобы ей дали его поцеловать. Когда ребенок однажды целую неделю пробыл рядом с матерью, казалось, Нихаль сойдет с ума от ревности. Пришлось забрать ребенка у матери и передать его Шакире-ханым в другой конец ялы. Казалось, Нихаль забыла о Бюленте. Ребенка приносили матери редко и тайком, на ялы Бюлента можно было увидеть только случайно.
Позже, прежде чем забрать ребенка у Шакире-ханым и передать на руки мадемуазель де Куртон, с Нихаль посоветовались: «Мы хотим поручить Бюлента тебе, ты его будешь воспитывать, будешь укладывать его спать в своей комнате, раздевать и одевать. Теперь Бюлент твой». Нихаль попалась в эту ловушку. Она согласилась на это с сумасшедшей радостью, и с того дня Бюлент целиком и полностью принадлежал только Нихаль.
В ревности Нихаль, еще с тех пор, как она была совсем маленькой, не было подленького коварства, свойственного ревности почти всех детей: она не кусала ребенка тайком за палец, не щипала за руку. Ее ревность была другого рода. Складывалось впечатление, что она ревновала не всех к Бюленту, а Бюлента ко всем, это она должна быть ближе всех к Бюленту, и путь к сердцу Бюлента должен лежать через ее сердце.
В доме стало обычаем – началось это как шутка, но потом постепенно приобрело силу закона: если с Бюлентом что-то происходило, обращались к Нихаль, если нужно было Бюленту дать выговор или совет, поручали это Нихаль; мало того, если Бюлент плохо себя вел, то грозили тем, что расскажут Нихаль.
Когда умерла их мать, повинуясь неосознанному велению души, Нихаль еще больше сблизилась с Бюлентом. Природное чутье словно направляло эту маленькую девочку стать матерью Бюлента, но такой матерью, что ревнует своего ребенка ко всем, и каждый раз, когда кто-то дотрагивается до него, в ее душе что-то рвется.
Однажды Аднан-бей подбрасывал Бюлента на коленях. Нихаль смотрела в другую сторону, лишь бы не видеть этого. В какой-то момент, когда отец не удержался и стал целовать пухлые щечки хохочущего Бюлента, Нихаль повернула голову, не выдержала, и подойдя к ним, втиснулась между ними так, словно хотела стать препятствием на пути этих поцелуев. Когда отец остановился и посмотрел на нее, она покраснела, но призналась: «Ох, ну хватит, папа… Мне это неприятно!» Все состояние легко уязвимой души Нихаль было заключено в этих словах. С того дня Аднан-бей старался не ласкать Бюлента при Нихаль. Однако теперь Нихаль взяла за правило: стоило ей понять каким-то шестым чувством, что человеку хочется поцеловать или погладить Бюлента по голове, боясь, что он сделает это без ее разрешения, она говорила что-то вроде: «Почему вы никогда не приласкаете Бюлента?»
И если кто в этом мире смог избежать подобных тревог и был освобожден от соблюдения этих правил, да и вообще ничего об этом не ведал, так это был Бюлент. Его интересовало только одно: смеяться… И лучше всех в мире его смешила Нихаль, она легко могла вызвать у него приступ самого безудержного хохота. Особенно когда брат и сестра оставались одни и никто третий не встревал между ними.
Их спальная комната была на самом верхнем этаже, окна смотрели в сад. Из большого холла сюда вел довольно широкий коридор. В первой комнате спал Аднан-бей, в третьей – мадемуазель де Куртон, а в комнате между ними – дети. Так они были вроде бы и одни, но с одной стороны был отец, с другой – гувернантка. Между обеим комнатами были двери, и по ночам их не закрывали, комнаты разделяли только занавески. В четвертой, последней комнате дальше по коридору для детей была оборудована комната для занятий. Эта комната, где проходили уроки, всегда была головной болью для мадемуазель де Куртон. Она клялась, что в мире нет другого такого места, где царил бы такой беспорядок, – это скорее было поле, где гулял ветрами ураган под именем Бюлент, чем комната для занятий.
Аднан-бей, который был помешан на порядке до того, что устраивал скандал из-за сдвинутого с места столика для сигар, не мог войти в эту комнату детей, он утверждал, что каждый раз, когда он туда заходит, у него начинается мигрень. Здесь Бюленту разрешалось творить абсолютно все при условии, что больше нигде в доме он ничего не будет трогать.
Бюлент же использовал это разрешение так, словно мстил за то, что нигде больше на ялы он не мог оставить свои следы. Здесь были низенькие парты: он однажды изрезал их на свой вкус и цвет ножами для резьбы, которые стянул у отца; из журналов «Фигаро», которые выписывала мадемуазель де Куртон, он делал кораблики, колпачки, корзинки, их развешивали на стены, на ручки окон, на край письменной доски. Из всех старых книг и обложек от нотных тетрадей сестры он вырезал картинки и приклеивал их на окна, на двери, а один бумажный зонтик он налепил на географическую карту, и теперь тот, подхваченный попутным ветром, плыл по океану из Европы в Америку. Тысячи сломанных игрушек, разорванных книжек убирали каждое утро и вечер, но стоило Бюленту сюда заглянуть, и все словно оживало и некуда было ни шагнуть, ни сеть от мелочей, разбросанных по всей комнате, словно здесь пошалили непослушные котята.
Сейчас у Бюлента появилось новое увлечение: он разрисовывал карандашом стены. Из его безудержной фантазии сегодня возникал корабль, завтра верблюд, постепенно весь низ стен заполнялся рисунками. Поскольку уже не осталось места там, куда он доставал, в голове у Бюлента вот уже два дня вертелась новая задумка. Он еще не уговорил Нихаль – пока она не разрешила, но она всегда так делала: сначала не разрешала, а потом, увидев, что ее послушались, не видела необходимости запрещать… Ох, вот было бы здорово! Бехлюль принес ему целую коробку красок. Каких только цветов там нет, он мог бы раскрасить все рисунки. Верблюда он сделал бы красным: «Ведь правда, сестра, ведь верблюд красный?» Нихаль пока не смягчилась. Она только говорила: «Ты с ума сошел?» – и не рассказывала, какого цвета верблюд.
Почти вся их жизнь проходила в этой комнате. По утрам они просыпались, умывались, одевались, вместе с мадемуазель де Куртон спускались в столовую, пили кофе с молоком, в хорошую погоду около часа гуляли в саду, Бюлент бегал с Беширом, Нихаль сидела с мадемуазель под высоким раскидистым каштаном, потом старая дева смотрела на часы, которые всегда висели у нее на груди, и говорила: «Пришло время уроков». Они шли в дом и поднимались в свою комнату.
Начинались уроки. Нихаль переводила отрывки о нравственных устоях, переписывала стихотворения в прозу, училась писать деловые письма, необходимые в повседневной жизни, вечером она покажет все это отцу, и он исправит. Пока мадемуазель де Куртон занималась с Нихаль, Бюлент сидел по другую сторону письменного стола и не вынимал перо из чернильницы, он никак не мог заполнить до конца тетрадь с глаголами. Иногда мадемуазель де Куртон бросала на него взгляд и призывала к порядку: «Бюлент!» Бюленту в конце концов надоедал глагол, который он со всей серьезностью мог написать лишь до формы второго лица единственного числа, между столбцами несколькими кривыми-косыми линиями он пристраивал дворец, а прямо посредине страницы рисовал горшок, в котором росло нечто, в чем, приложив некоторые усилия, можно было угадать цветок.
Паузы, которые возникали по вине Бюлента, для Нихаль были настоящим спасением. После того как она написала восемь строчек, ей непременно надо было передохнуть, она только и ждала, когда подвернется удачный момент, и, зацепившись за какое-либо трудное слово, попавшееся ей на уроке, затевала длинный разговор с мадемуазель де Куртон, а пока мадемуазель де Куртон, встав со своего места, расчищала страницу от дворцов и горшков в тетради Бюлента, она подбегала к окну и выглядывала в сад. В конце концов урок Нихаль кое-как, с перебоями, но заканчивался, после десятиминутного перерыва начинался урок Бюлента.
Было решено, что пока мадемуазель де Куртон занята с Бюлентом, Нихаль будет заниматься игрой на пианино, вышивкой за пяльцами, шитьем и ручной работой. Но так как она была не в состоянии заниматься чем-то более получаса, ей разрешалось переходить от пианино к пяльцам, а от пяльцев к шитью тогда, когда ей захочется. Старая дева не знала, как еще справиться с этой стрекозой.
Мадемуазель де Куртон уже так привыкла, что Нихаль, не сосредоточиваясь ни на чем и толком не занимаясь, все выучивала, что этому она уже не удивлялась, но она не могла сдержать восхищения от того, как быстро Нихаль делала успехи в игре на фортепьяно. То, что другим давалось с трудом и достигалось путем упорных упражнений для развития беглости пальцев, у Нихаль получалось само собой или ей хватало одного дня. Все этюды Черни[38] казались для нее детской забавой. Сейчас она разучивала Gradus ad Parnassum Клементи[39], за который боялась браться даже мадемуазель де Куртон. Она легко, повинуясь какой-то внутренней интуиции, словно видела или слышала их раньше, исполняла отрывки из итальянских опер Чимароза, Доницетти, Меркаданте, Россини, которые пачками приносил Аднан-бей. Мадемуазель де Куртон не переставала удивляться этому. Старая дева говорила Аднан-бею: «Вы знаете, на это уходит обычно не менее шести лет. Но тут нет ни моей, ни ее заслуги. Должно быть в пальцах этой девочки живет дух Рубинштейна»[40].
В глазах мадемуазель де Куртон только присутствием в пальцах Нихаль гениального таланта Рубинштейна можно было объяснить этот невероятный факт и разрешить эту музыкальную загадку. Отныне она не видела необходимости искать другое объяснение.
Среди опер, принесенных отцом, была опера «Тангейзер» Вагнера[41] – мадемуазель де Куртон решительно запрещала Нихаль ее играть. Нихаль же, напротив, каждый день, улучив момент, когда Бюлент очень сильно рассердит гувернантку, обязательно начинала играть именно эту, запрещенную, вещь. Тогда мадемуазель де Куртон отвлекалась, забывала про Бюлента, подбегала к пианино: «Но, дитя мое, сколько раз я вам говорила, чтобы сыграть эту пьесу, у человека должны быть пальцы немца. Вы переиграете себе руки, и если бы только это, вы разрушите ваше понимание, ваше восприятие музыки! Представьте себе: такая буря, что опрокидывает трубы, срывает черепицу, вырывает с корнем деревья, рушит скалы, представьте весь этот грохот, а потом воплотите это в музыку – это есть месье Вагнер!»
Для нее творчество Вагнера было абсолютно неприемлемым. Стоило произнести его имя, и, казалось, даже кровь в жилах этой аристократической девы с презрением освистывает немецкого гения.
После этого продолжать занятия становилось невозможно, старая дева удалялась в свою комнату и не покидала ее до обеда, а дети были предоставлены себе и могли делать что хотели.
Нихаль шла к отцу. На самом деле внизу в своем кабинете Аднан-бей с нетерпением, то и дело поглядывая на часы, ждал этих утренних визитов дочери.
О, как прекрасны были эти счастливые часы, которые они проводили вместе. Она так обожала, так страстно любила своего отца, что никогда не могла вдоволь насладиться этим временем. У нее в душе жила неутолимая потребность быть любимой, быть любимой с каждой секундой все больше и больше. Рядом с отцом она становилась еще более своевольной, щебечущей птичкой, порхающей с места на место бабочкой. Ей всегда было что рассказать: она цеплялась за что-то, что она видела или слышала на уроках, и это становилось поводом задать отцу кучу вопросов. А тот без устали, даже с удовольствием, отвечал на них, забавляясь этими беседами, хохотал над неожиданными выходками или меткими замечаниями Нихаль, дурачился рядом с ней как дитя, словно и разницы в возрасте между ними не было.
После обеда Аднан-бей отправлялся в Стамбул. Тогда, если не была запланирована долгая прогулка с мадемуазель де Куртон, дети весь день бродили из угла в угол по ялы, ожидая возвращения отца. Любимым местом Нихаль в такие дни была кухня Шакире-ханым.
Эта кухня на женской половине дома служила для всех отдушиной. Иногда Аднан-бею надоедали блюда его повара, который вот уже многие годы придерживался одного и того же определенного меню, и он просил Шакире-ханым приготовить ему фаршированные мидии, татарский пирог или курицу по-черкесски. Это делалось в строгом секрете от Хаджи Неджипа, и если случайно ему становилось об этом известно, он дулся и неделями избегал Аднан-бея.
Однажды он увидел раковины от мидий и, заявив, что со своим сорокалетним опытом смог бы нафаршировать мидии не хуже Шакире-ханым, чуть было не хлопнул дверью. Они постоянно пререкались с Шакире-ханым, он ругался, если та подавала еду через вращающийся шкафчик[42], он то и дело говорил: «Либо вынесите погреб наружу, либо пусть кухня полностью остается в доме».
Иногда конфликт достигал таких масштабов, что мужу Шакире-ханым, Сулейману-эфенди, выполнявшему в доме обязанности эконома, приходилось брать на себя роль посредника и мирить враждующие стороны. От этих стычек в доме больше всего удовольствия получали Бюлент и Бешир. Мало того, иногда они сами подливали масло в огонь и провоцировали ссору.
Когда Шакире-ханым просили что-то приготовить, Нихаль умоляла:
– Дорогая сестренка! Подожди меня, хорошо? Давай вместе приготовим!
Тогда Нихаль, Джемиле, Несрин и даже иногда Шайесте, которая заходила на кухню, чтобы дать нагоняй Несрин, и тоже застревала там, вертелись вокруг Шакире-ханым и устраивали в маленькой кухоньке светопреставление.
Кухонька находилась на втором этаже ялы, это была солнечная комнатка, окна которой, заросшие плющом, выходили в сад, пол был выложен белым мрамором, она всегда сияла чистотой, а свежими ароматными запахами у всякого вызывала аппетит. Кастрюли, сковородки, купленные на «Базаре Аллеманд»[43], были настолько красивы и элегантны, что ими можно было бы украсить гостиную; под лучами солнца, просачивающимися сквозь густую зелень плюща, они сверкали чистотой и отбрасывали блики по всей комнате. Здесь на этой милой кухоньке с людьми, которые, как она чувствовала, были привязаны к ней всем сердцем, с шутками, притворными ссорами, перепалками, хохотом, Нихаль проводила часы, купаясь в счастье, которое согревало ей душу.
Вечером она с нетерпением ждала возвращения отца и прямо с лестницы кричала ему:
– Папа! Сегодня я вам такое приготовила!.. Спросите Шакире-ханым, она мне совсем не помогала, я все делала сама.
В хорошую погоду они отправлялись на вечернюю прогулку с отцом. Мадемуазель де Куртон эти часы проводила в саду за чтением произведений месье Александра Дюма[44].
Молодым девушкам нельзя позволять читать романы – это правило мадемуазель де Куртон неукоснительно соблюдала в отношении Нихаль. Но сама она обожала романы, особенно Александра Дюма. Все свое время, когда была избавлена от необходимости отвечать на бесконечные пытливые вопросы Нихаль, она посвящала чтению. Ее любовь к романам была столь велика, что, казалось, ее жизни, ее чувствам передалось что-то от Александра Дюма и ему подобных. Романы будто бы надели на нее цветные очки и краски окружающего мира переменились. Она смотрела на жизнь, которая проходила мимо нее и в которой она была лишь созерцателем, через эти очки, и чтобы понять людей, которые ей попадались на жизненном пути, судить о каких-либо происшествиях своей небогатой на события жизни, она обращалась к совету этих книг, каждую из которых бережно хранила в своей памяти и, только найдя в них подобную ситуацию, делала выводы. События, о которых в этих романах не говорилось ни слова, она считала выдуманной чепухой, которой даже не стоит придавать значения.
В тот вечер, когда Нихаль передала ей, что ее хочет видеть Аднан-бей – а такое случилось в первый раз за шесть лет, она почувствовала неладное. Она тут же стала перебирать в памяти, на какой из романов она сможет опереться в поиске ответа.
Когда Аднан-бей в надежде, что старая дева догадается, о чем идет речь, начал разговор издалека, сказав, что так дальше не может продолжаться, она все так же пребывала в недоумении. И только тогда, когда он открыто заявил о намерении жениться, ее озарило – словно молния яркой вспышкой пробила темные тучи туманных фраз, и удивленная и потрясенная мадемуазель де Куртон замерла с открытым ртом. Нет, нигде в ее романах не было ничего подобного, там не говорилось, как следует поступить в такой ситуации, поэтому она не поверила своим ушам, и, несмотря на правила приличия, которые требовали соблюдать с Аднан-беем дистанцию, у нее вырвалось:
– Вы шутите!
Поняв, что это не шутка, а страшная правда, старая дева не удержалась и, встав с места, спросила:
– Но Нихаль, как же Нихаль?! Это убьет ее, вы понимаете? – Увидев, что Аднан-бей опустил глаза и не отвечает, она почувствовала, что головные боли Нихаль меньше всего заботят ее потерявшего голову отца. Наконец Аднан-бей ответил:
– Нет, вы ошибаетесь. Оказывается, вы не слишком хорошо изучили Нихаль, нужно только принять некоторые меры предосторожности. За этим я и обратился к вам.
Вот так на нее была возложена эта важная миссия. Она пыталась отказаться и даже сказала, что готова покинуть дом, лишь бы ей не пришлось брать на себя эту тяжелую обязанность. Потом вдруг подумала, что на самом деле именно сейчас она больше всего нужна Нихаль. Только близкая душа сможет облегчить удар, который это ужасное решение нанесет слабому организму, и это может быть только ее душа.
Выходя из комнаты Аднан-бея, мадемуазель де Куртон еле держалась на ногах. До ужина она избегала Нихаль, а за столом, глядя на нее, ей хотелось плакать.
Она получила строгое указание сегодня же вечером поговорить с Нихаль. После того как Бюлент уснул и разговор с Нихаль состоялся, она успокоилась. Она сказала себе: «Видимо, отец прав».
Она объяснила Нихаль, что в доме появится женщина, что женщина всегда будет сидеть с ними за одним столом, что у нее будет своя комната и что эта женщина будет очень сильно любить Нихаль. Нихаль выслушала все это очень хладнокровно и не выказала никаких признаков удивления, словно не услышала для себя ничего нового. Ее интересовали только некоторые детали. Где будет комната этой женщины? Красива ли она? Красивее, чем Нихаль? Как ее будет называть папа? В какой комнате она будет спать? Будет ли она заниматься Бюлентом? Будет ли Бешир по-прежнему принадлежать Нихаль? Кроме того – этот вопрос она задала последним – будет ли отец любить Нихаль так же, как любил раньше?
Получив утвердительный ответ на последний вопрос, Нихаль посмотрела на Бюлента: полог кровати был еще не опущен, было видно, как тот улыбался во сне, видимо, ему снилась их прогулка в экипаже, и думала, думала, думала. Наконец мадемуазель де Куртон сказала:
– Теперь отец ждет твоего согласия, если ты согласишься, она приедет. Завтра утром ты скажешь своему отцу, хорошо, детка?
Нихаль тихонько кивнула, и в ту ночь, оставшись одна, она склонилась над Бюлентом, к его счастливо улыбающемуся лицу, будто хотела прочно закрепить на его лице эту счастливую улыбку, запечатлела на нем долгий поцелуй, потом, повинуясь какому-то интуитивному чувству, словно поняла, что с этой ночи между нею и отцом должна быть преграда, впервые прикрыла дверь, ведущую в комнату отца.

– Бехлюль-бей!
– Нихаль-ханым?
– Почему вы не смотрите на меня?
Бехлюль стоял на скамейке и пытался подсунуть фотографию за рамку в углу картины на стене. Снова не поворачивая головы, ответил:
– Разве мы не в ссоре?
Нихаль хотела помириться, как ребенок, который не может долго на кого-то сердиться:
– А-а-а-а, я совсем забыла! Да, вчера мы были в ссоре, не так ли? Может мне уйти?
Бехлюль спрыгнул со скамеечки:
– В рамке совсем нет зазора. Еще немного – и стекло бы треснуло. Помахивая фотографией в руке, он смотрел на стены.
– Куда же ее пристроить? Нихаль, я тебе кое-что скажу. Знаешь, почему ты не можешь на меня долго обижаться? Потому что если ты будешь обижаться, ты не сможешь затеять ссору! Чтобы снова поссориться, нужно сначала помириться.
Нихаль, смеясь, подвинула скамеечку к себе и села.



