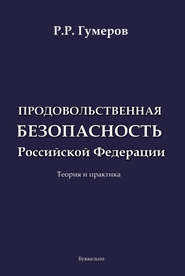
Полная версия:
Продовольственная безопасность Российской Федерации
По оценкам Минсельхоза России, доля иностранного капитала в пищевой промышленности продолжает устойчиво расти и уже составляет 60 %. В большинстве подотраслей российского рынка продуктов питания и напитков наибольшая доля рынка принадлежит иностранным корпорациям: почти 60 % рынка переработки молока, более 70 % рынка соковой продукции, порядка 80 % рынка замороженных овощей и фруктов, более 90 % рынка плодовоовощной консервации, более 80 % рынка пивоварения. Расхожий аргумент в пользу иностранных финансовых инвестиций: они поддерживают стабильность соответствующих товарных рынков, сохраняют (возможно, даже приумножают) рабочие места, участвуют в формировании доходной части бюджетов различного уровня. Тем не менее в долгосрочном плане иностранные компании не ощущают никакой социальной ответственности за поддержание стабильности и развитие товарных рынков. Захватив рынки, транснациональные корпорации приступают к ликвидации «неэффективных» производств и рабочих мест, фальсифицируют продукцию, идут на прямой шантаж, сопротивляясь введению мер государственного контроля и регулирования.
Продовольственный суверенитет реализуется через национальную продовольственную стратегию. В главе 4 «Национальная стратегия продовольственной безопасности Российской Федерации» дается оценка национальной стратегии продовольственной безопасности Российской Федерации и формулируются предложения по ее актуализации. В данном случае под национальной стратегией продовольственной безопасности понимается совокупность официально выраженных взглядов на проблему, сформулированных в различных законодательных актах и документах стратегического планирования федерального уровня.
Экономические отношения, касающиеся функционирования продовольственной системы, регулируются, с одной стороны, законодательством о развитии сельского хозяйства, с другой – законодательством о безопасности. В контексте обеспечения национальной продовольственной безопасности критическому анализу подвергается, в частности, Федеральный закон от 29 декабря 2006 года. «О развитии сельского хозяйства». В качестве «вертикали безопасности» рассматриваются Стратегия национальной безопасности Российской Федерации и Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года.
Документом, призванным каким-то образом консолидировать в едином правовом акте нормы, регулирующие вопросы продовольственной безопасности, является Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120. К сожалению, этой своей миссии Доктрина должным образом не выполняет. Главный вывод соответствующего раздела монографии: Доктрина нуждается не в дополнениях и изменениях, а в радикальной переработке в части понятийного аппарата, состава оценочных показателей, характеристики рисков и угроз, направлений и механизмов реализации. Даже если вынести за скобки неясность с правовым статусом Доктрины, приходится констатировать архаичность использованных подходов и непригодность этого морально устаревшего документа для предотвращения кризисных явлений в сфере продовольственного обеспечения и устойчивого развития сельских территорий. Основным концептуальным недостатком Доктрины, который проходит через все ее разделы, является уже критиковавшееся фактическое сведение понятия продовольственной безопасности до понятия самообеспеченности основными продуктами питания. Утрируя ситуацию, добиться роста «целевой» доли собственного производства можно простым сокращением совокупного внутреннего потребления, каковое мы и наблюдали в начале 90-х годов прошлого столетия. Само понятие самообеспеченности относительно, наше собственное сельскохозяйственное производство находится в глубокой зависимости от импортных поставок семенного и генетического материала, комплектующих товаров. Причем в первую очередь это касается тех видов продукции, по которым Россия формально обеспечивает свои потребности преимущественно за счет собственного производства (сахарная свекла, картофель, мясо птицы). При прочих равных условиях складывается парадоксальная ситуация: чем больше мы производим собственной конечной продукции, тем в большую зависимость от импортных поставок сырья и ресурсов мы попадаем!
Разделяя взгляды большинства отечественных экономистов по поводу высокого потенциала нашего сельского хозяйства и имеющихся значительных резервов его использования, полагаю, что в рамках национальной продовольственной стратегии должны и будут, безусловно, решаться задачи импортозамещения, равно как и наращивания экспорта – но как задачи производные, сопутствующие, а не самодостаточные и целеполагающие. Точно так же заявленная политика импортозамещения должна формулироваться и реализовываться более широко и системно, охватывать не только конечную продукцию агропромышленного комплекса, но и продукцию связанных с ним отраслей и производств, в первую очередь – определяющих технико-технологический прогресс сельского хозяйства.
Помимо концептуальных предложений по уточнению понятийного аппарата, актуализации перечня и состава угроз и оценочных показателей, направлений и механизмов обеспечения национальной продовольственной безопасности, для включения в обновленную Доктрину рекомендуется включить две новации относительно измерения и оценки показателей продовольственной безопасности. Предлагается, во-первых, использовать для целей мониторинга, анализа и оценки состояния экономической безопасности трехуровневую шкалу значений индикаторов (целевые, транзитивные, критические значения) и, во-вторых, использовать метод исторических аналогий для обоснования значений индикаторов второго и третьего уровней. Метод основан на выборе определенных периодов новейшей отечественной истории, которые соответствовали бы, согласно экспертной оценке, определенному состоянию экономики в контексте продовольственной безопасности. Преимуществом данного метода является то, что оценки основаны на фактических отчетных значениях взаимосвязанных показателей; критерием оценки являются не отдельные гипотетические значения индикаторов, а ситуации в целом «как есть». Эти новации не только повысят методологический уровень документа, но и сделают его более операциональным.
В заключительной пятой главе «Программный подход к обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации» исследуются истоки, современное состояние и перспективы использования технологий программного бюджетирования и стратегического планирования в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации.
Ретроспективный анализ освоения программных методов управления агропромышленным производством сопровождается критикой концептуальных основ и процедур проводившейся в начале 90-х годов земельной реформы.
Начиная с 2008 года, в связи с принятием Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», основным инструментом стратегического планирования в сфере агропромышленного комплекса является Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950-р Госпрограмма развития сельского хозяйства внесена в перечень государственных программ Российской Федерации. В главе последовательно анализируется логика, или замысел Государственной программы развития сельского хозяйства в контексте обеспечения продовольственной безопасности, основные результаты и механизмы ее реализации в 2008–2015 годах, перспективы формирования системы обеспечения продовольственной безопасности страны, отвечающей современным требованиям.
Формулировка целей программы является не только исходным, но и основополагающим моментом стратегического планирования и программного бюджетирования. Не боясь показаться банальным, повторю забытую мысль К. Маркса: «…самый плохой архитектор от самой лучшей пчелы отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове… Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю». Важность корректной постановки программных целей и задач хорошо иллюстрируется известным старым анекдотом: «В целях борьбы с вредителями Министерство сельского хозяйства Китая объявило, что за каждую сданную саранчу будет выдан один юань. Теперь все крестьяне разводят саранчу». По результатам исследования замысла и структуры госпрограммы развития сельского хозяйства в главе формулируются рекомендации по составу ее целей, задач и мероприятий исходя из важнейших приоритетов социально-экономического развития и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Предложения, изложенные в этом разделе, основаны на достаточно большом опыте автора в разработке проектов федеральных целевых программ, в первую очередь в качестве руководителя коллектива по подготовке проекта целевой программы «Развитие базы гарантированного зернового производства в Алтайском крае и создание рынка зерна Сибири и Дальнего Востока в 1996–2001 годах», которая разрабатывалась в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 1995 года N 260. Равным образом использован опыт подготовки методологических основ разработки и реализации государственных программ Российской Федерации, экспертизе проектов государственных программ Российской Федерации и результатов их реализации по заказам Министерства экономического развития Российской Федерации в 2012–2017 годы.
Предлагаемая монография – это не только одно из многочисленных научных исследований проблематики национальной продовольственной безопасности, но и попытка обоснования необходимых практических шагов по ее обеспечению – в надежде, что хотя бы незначительная часть их будет реализована и принесет положительные эффекты. В любом случае предлагаемый понятийный аппарат и рекомендации создают широкое поле для обсуждения и поиска рациональной и эффективной национальной продовольственной стратегии.
Благодарю мою жену Светлану Ивановну Гумерову за каждодневную поддержку и конкретную помощь в обработке статистических данных и проведении прогнозно-аналитических расчетов.
Буду признателен за любые критические научные суждения и конструктивные предложения.
Глава 1. Методологические и теоретические основы национальной продовольственной безопасности
В мире есть царь: этот царь беспощаден,Голод названье ему.Водит он армии; в море судамиПравит; в артели сгоняет людей,Ходит за плугом, стоит за плечамиКаменотесцев, ткачей.Н.А. НекрасовПродовольственная безопасность – сложный, многокомпонентный феномен, обладающий множественными характеристиками и потому достаточно сложно идентифицируемый. В одном из исследований 1999 года упомянуто примерно 200 определений продовольственной безопасности и 450 ее индикаторов[4]. Раннее определение Дж. Конуэя и Е. Барбера, ставшее классическим, характеризует продовольственную безопасность как обеспечение гарантированного «доступа всех жителей и в любое время к продовольствию в количестве, необходимом для активной здоровой жизни»[5], подчеркивая тем самым связь продовольственной безопасности с обеспечением первичных потребностей индивида.
1.1. Существо проблемы. Основные понятия
Отечественные источники содержат достаточно противоречивые трактовки продовольственной безопасности, акцентирующие внимание на том или ином ее атрибутивном признаке, который, в свою очередь, выступает критерием продовольственной безопасности. В качестве таковых выделяются: обеспечение равного доступа к продовольственным ресурсам необходимого объема и качества, устойчивость продовольственного обеспечения (при этом в понятие устойчивости может вкладываться разное содержание), конкурентоспособность отечественной продовольственной системы или продукции, способность национальной продовольственной системы нейтрализовать внешние шоки и функционировать в автономном режиме и другие. Так, Д.Ф. Вермель обращает особое внимание на устойчивость продовольственного обеспечения по отношению к факторам внешнего и внутреннего воздействия, при этом в качестве объекта возможного воздействия выступает продовольственное обеспечение: «Под продовольственной безопасностью в наиболее распространенной трактовке понимается устойчивое к отрицательным внутренним и внешним воздействиям обеспечение всех слоев населения страны продовольствием в необходимом количестве, ассортименте и качестве[6]». Авторы коллективного исследования «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-практические аспекты. Продовольственная безопасность. Раздел I» пишут: «Продовольственная безопасность Российской Федерации и ее регионов рассматривается как способность государства гарантировать удовлетворение потребностей в продовольствии на уровне, при котором обеспечивается нормальная жизнедеятельность населения»[7].
В большинстве современных публикаций подчеркивается многокомпонентное содержание продовольственной безопасности, подлежащее поэлементному структурированию и анализу. При этом, как правило, в качестве одного из конституирующих признаков выделяется самообеспеченность основными продуктами питания. «…Под продовольственной безопасностью, – указывают В.С. Балабанов и Е.Н. Борисенко, – подразумевается не только гарантированный доступ всех жителей страны к продовольствию, но и способность государства обеспечить продуктами питания текущие и чрезвычайные потребности за счет собственных ресурсов. Сейчас такая способность многими странами утеряна. Все это не только обостряет процессы развития, но и создает серьезные угрозы текущим и стратегическим перспективам, подрывая при этом национальные интересы государства»[8]. С. Тимофеев пишет: «Стратегической целью продовольственной безопасности является надежное обеспечение населения страны сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутренних источников продовольственных ресурсов»[9]. Схожую позицию высказывают А. Кравченко и Ю. Хлыстун: «Национальная продовольственная безопасность представляет собой систему, поддерживающую процесс жизнеобеспечения, имея при этом в виду возможную надежность снабжения из внешних источников, тем не менее базирующуюся на концепции самообеспечения основными видами продовольствия»[10].
Некоторые авторы предлагают расширительную трактовку продовольственной безопасности, включая в нее понятие качества и безопасности пищевых продуктов. Так, С. Руденко пишет: «Если говорить о сути дела, то следует выделить две ее составляющие: во-первых, это обеспечение за счет собственного производства основными видами продовольствия, его физической и экономической доступности для любого человека в соответствии с рациональными нормами здорового питания в объемах, достаточных для поддержания активной жизни, и, во-вторых, это высокое качество и безопасность потребляемых продуктов питания»[11]. По мнению Н. Соболева, продовольственная безопасность «охватывает по сути три важнейшие функции исполнительной и законодательной власти, бизнеса и общества, а именно: первая – обеспечение продовольственной безопасности населения страны, т. е. создание условий для производства отечественного продовольствия в достаточных объемах, контроль качества пищи, обеспечение физической и экономической доступности продуктов питания; вторая – обеспечение продовольственной независимости национального хозяйства и государства в целом, т. е. использование механизмов критериального регулирования объемов импорта-экспорта продовольствия, формирования государственных страховых продовольственных ресурсов на федеральном и региональном уровнях, построение системной инфраструктуры продовольственных рынков; третья – создание институциональной среды, обеспечивающей качество жизни и здоровье населения на основе науки о здоровом питании, т. е. внедрение в практику знаний об оптимальном питании и здоровом образе жизни»[12]. Е. Антамошкина считает, что понятие продовольственной безопасности раскрывается через следующие 4 критерия: 1) самообеспеченность страны продовольствием; 2) физическая доступность продуктов питания для потребителей, т. е. наличие продуктов питания на всей территории страны в каждый момент времени и в необходимом ассортименте; 3) экономическая доступность продовольственной продукции, состоящая в том, что уровень доходов независимо от социального статуса населения позволяет ему приобретать продукты питания, по крайней мере на минимальном уровне потребления; 4) безопасность продовольствия для потребителей, т. е. возможность предотвращения производства, реализации и потребления некачественных пищевых продуктов, которые могут нанести вред здоровью населения[13]. Однако для безопасности пищевых продуктов в англоязычной литературе используется другой термин – food safety, и соответствующие требования к безопасности продукции и производственных процессов в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности регулируются специальными законодательными и нормативными актами. На международном уровне вопросы безопасности сельскохозяйственной продукции регулируются, в частности, Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО и Кодексом Алиментариус (Codex Alimentarius, Пищевой Кодекс) – сводом пищевых международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам и охватывающих широкий спектр продуктов питания.
Некоторые авторы включают в понятие продовольственной безопасности признаки не только управляемой (продовольственный рынок), но и управляющей (государственное регулирование) системы. Так, С. Демин выделяет три основных ее признака: 1) поддержание снабжения населения продовольствием на уровне, достаточном для обеспечения здорового питания; 2) устранение зависимости страны от импорта, достижение ее самообеспеченности сельскохозяйственной продукции и защита интересов сельскохозяйственных производителей; 3) разработка национальной стратегии как политики, которая позволяет достичь наиболее высокой степени самообеспеченности страны продовольствием[14]. С. Демину вторит В. Власов: «Продовольственную безопасность следует рассматривать как политико-правовой термин, выражающий институциональную взаимосвязь между обеспечением продовольственных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, отдельных групп населения и отдельного взятого гражданина, и направленный на предотвращение и ликвидацию продовольственных угроз и рисков каждому из вышеперечисленных субъектов, посредством проведения эффективной государственной продовольственной политики»[15]. В последнем определении мы видим также попытку структурировать понятие продовольственной безопасности по уровням продовольственного обеспечения – федеральный, субфедеральный (региональный), местный (муниципальный), домохозяйственный.
Для понимания сути категории следует обратиться к истории вопроса. Аутентичный англоязычный термин food security имеет несколько значений и может быть переведен двояко: как «продовольственная безопасность» и как «продовольственная обеспеченность». На самом деле он как бы синтезирует оба этих значения. В значении «продовольственное обеспечение/обеспеченность» внимание акцентируется на факторах аграрного роста и бесперебойного продовольственного снабжения, в значении «безопасность» – на противодействии и предотвращении рисков и угроз продовольственному обеспечению.
В русском языке аналогичный двуединый термин, к сожалению, отсутствует, что и вызывает такой разброс мнений относительно сути этого понятия. В отечественной литературе в силу ряда причин изначально закрепилось значение «безопасность», хотя исходя из духа решений мировых форумов, возможно, более корректно было бы употреблять термин «обеспечение/обеспеченность». В дальнейшем я попытаюсь устранить это своеобразное противоречие путем формулировки собственных определений национальной продовольственной безопасности, национальной продовольственной системы и национальной продовольственной стратегии. Далее в тексте используется устоявшийся термин «безопасность», под которым, однако, в содержательном плане подразумевается термин food security в единстве обоих его основных значений.
Де-факто понимание двойственной природы национальной безопасности, в том числе продовольственной безопасности как ее составной части, реализовано в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия). Последняя определяет национальную безопасность как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации»[16]. Стратегия исходит из неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития страны[17], т. е. реализует идею единства национальных интересов и стратегических приоритетов социально-экономического развития страны, с одной стороны, и системы защиты от внутренних и внешних угроз – с другой. Стратегия включает в понятие национальной безопасности «оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности». Продовольственная безопасность определяется, прежде всего, как важнейшая гарантия национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан. Вместе с тем национальная продовольственная безопасность тесно сопряжена с национальными интересами и стратегическими приоритетами в областях экономической и экологической безопасности.
Термин «продовольственная безопасность» (food security) был введен в официальный оборот в 1974 году на Всемирной конференции по проблемам продовольствия, организованной ФАО по следам глобального продовольственного кризиса. Содержание понятия продовольственной безопасности развивалось и обогащалось в связи и по мере изменения ситуации на мировом продовольственном рынке, появления новых угроз продовольственной безопасности и осмысления причин и последствий глобальных продовольственных кризисов и обострения продовольственной проблемы. Взгляды мирового сообщества на проблему продовольственной безопасности последовательно эволюционировали от преимущественно технических вопросов продовольственного обеспечения (надежность поставок, объемы предложения и запасов) к идее обеспечения одного из фундаментальных прав человека – права на достаточное и полноценное питание для ведения активного образа жизни.
В 1950-е годы многие страны акцентировали внимание на продовольственной самообеспеченности в результате того, что военные действия нарушили налаженные ранее торговые связи, а также под воздействием платежного кризиса. Нехватка валюты для осуществления расчетов за продовольствие вынуждала многие страны (в частности, Латинской Америки) сокращать его ввоз даже на фоне дефицита внутреннего производства.
1970-е годы были отмечены серией продовольственных кризисов: мировое производство продовольствия резко сокращалось в 1972-м, а затем в 1974 году под воздействием неблагоприятных погодных условий в основных производящих сельскохозяйственную продукцию регионах. К моменту созыва в 1974 году Всемирной конференции по проблемам продовольствия мировые запасы пшеницы упали до самого низкого уровня за предшествующие 20 лет – с 50 млн т (1971 г.) до 27 млн т (1973 г.), а цены на зерно выросли в 3 раза. Продовольственный кризис усугубился резким ростом цен на сырую нефть по решению стран-участниц ОПЕК в ответ на девальвацию доллара США. В результате цены на минеральные удобрения в течение 1974 года возросли втрое. Во всех странах мира отмечался рост цен на продукты питания. Вполне логично поэтому, что в документах Конференции продовольственная безопасность определялась как «постоянное (at any time) наличие адекватных мировых запасов основных продуктов питания для удовлетворения устойчиво растущего потребления продовольствия и компенсации колебаний производства и цен»[18]. Центральной темой Конференции было создание и поддержание достаточных запасов продовольствия на национальном и/или региональном и международном уровнях. Предполагалось, что эти запасы создадут гарантии продовольственной безопасности в случаях локальных, национальных или региональных экстремальных ситуаций, а также покроют потребности мирового рынка (международного обмена).



