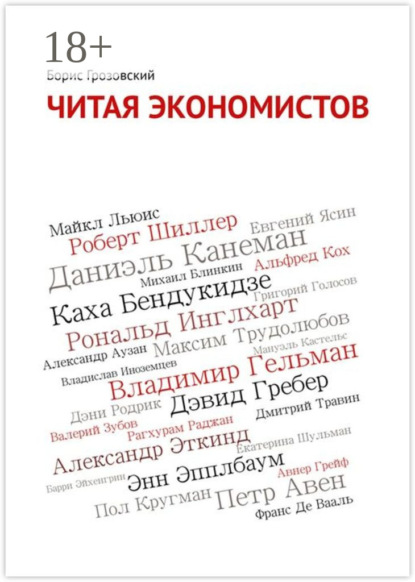
Полная версия:
Читая экономистов. 44 важнейшие книги 2000-х годов по социальным наукам, которые вы не успели прочитать
Может показаться даже, что каждый автор (а Московский центр Карнеги собрал настоящую dream team, включая Николая Петрова, Марию Липман, Алексея Малашенко, Наталью Зубаревич, Кирилла Рогова, Федора Лукьянова и многих других) развивал свои излюбленные темы. Итогом же стала серия разнородных, разных по качеству эссе.
Но это не совсем так. Во-первых, большинство авторов объединяет сходность восприятия реальности и общие ценности. Это немало. Во-вторых, в «Сценариях» при отсутствии единой матрицы обнаруживается большее – несколько сквозных идей, пронизывающих всю ткань книги. Они не задавались сценаристам как данность («напишите, что будет, если случится X, и что, если Y). И, кажется, даже появились помимо воли авторов. Просто в силу того, что честное размышление о «судьбах Родины» с неизбежностью приводит к определенным конструкциям.
Самой важной из них мне кажется вот какая: «В России не слишком мало, а чересчур много приватизации». Это не про то, можно ли разрешить правильным госкомпаниям ТЭКа скупать морские порты и энергокомпании. И не про то, сколько процентов «Роснефти» в каком году продавать. Речь о другом: все настолько приватизировано (т.е. обслуживает частные или узкогрупповые интересы), что в стране почти отсутствует общее, общественное пространство. Оно захвачено государством и частными структурами.
Большинство московских автовладельцев, замечает с проницательностью «нового Олеария» профессор РЭШ Сэм Грин, «приватизируют» московские дворы и тротуары, устанавливая там свои авто. Вы не согласны? Какая приватизация, просто авто некуда ставить? Но на лобовом стекле джипа, часто загораживающего выход на проезжую часть жильцам 80 квартир подъезда, в котором я живу, приклеен стикер: «Моя машина вам мешает, и вы хотите об этом поговорить?» Далее приведен мобильный телефон владельца, а стикер украшен надписью «Федеральная налоговая служба» и ее эмблемой. Это ли не приватизация общественного пространства?
«Общественные природные заповедники превращаются в частные охотничьи угодья любого лица, имеющего в своем распоряжении вертолет, – продолжает с наивностью иностранного путешественника Грин, – а леса страны захламлены мусором от бесчисленных пикников, как будто сам лес является предметом одноразового пользования». Результат этой ползучей приватизации – охваченный психозом социум, скрытая, подавленная агрессия всех против всех. Те, кто вынуждены подчиняться закону, недовольны теми, кто может жить по особым правилам (обладают вертолетами, мигалками, могут использовать бутылку из-под шампанского в качестве средства дознания).
Но агрессия деструктивна. Люди, недовольные захватом общественного пространства частными лицами, группами и государством, требуют от других подчинения правилам, но себе оставляют возможность при необходимости их нарушать. «Это ***ки», – объясняют пассажиры электрички машинисту причину использования стоп-крана (двое мужчин азиатской наружности замешкались и вынудили машиниста открыть двери, не желая пропустить свою остановку). Тон не оставляет сомнений: недовольные пассажиры, оказавшись в аналогичной ситуации, поступили бы так же. Люди протестуют против неадекватного поведения в общественном пространстве, но не готовы вести себя иначе.
«Политика вырастает из общества», пишет Грин, но общества как такового нет: есть кристаллизованные, атомизированные субъекты и группы, защищающие свои индивидуальные достижения, кто чем может: охраной на входе, бронированным автомобилем, высоким забором, недопущением конкурентов к кормушке, родственными связями в региональной администрации или федеральной госкомпании. Политика при таких общественных настроениях неизбежно оборачивается отчуждением власти и общества.
В такой среде трудно формировать общие ценности, «расширить масштаб доверия». Но только с этого и может начаться адекватная реформа, ведь какое общество – такая и политика. Если перемены в стране начнутся, когда общество еще не будет к ним готово, и будут происходить в нынешней атмосфере политического отчуждения («каждый за себя»), они не окажутся ни продуктивными, ни демократическими, уверен Грин. Если же удастся сформировать широкую коалицию за перемены, то не проблема обсудить дизайн и провести любую реформу – судебно-правоохранительную, военную, пенсионную, соцобеспечения, образования, таможни…
Пока такая коалиция не сформирована, периодически возникающие призывы все это реформировать будут постоянно гаситься интересами самосохранения властных групп, оппортунизмом элит и общей апатией населения, отмечает Лев Гудков. Неважно даже, кем инициируются изменения – прозревшей бюрократией или обществом, – все равно без доверия ничего не получится.
Взять, например, само государство. Его очень много, но оно слабое, доказывает Николай Петров: иллюзия всемогущества создается желанием гипертрофированного государства присутствовать везде. Вездесущее государство уверено, что без него мы не разберемся, сколько откладывать на будущую пенсию, какие фильмы смотреть, когда покупать алкоголь, сколько заплатить авторам скачанной в интернете музыки. Но в реальности влезающее во все государство разбито управленческим параличом: оно хочет контролировать все, но блокирует перемены и может лишь «стоять на месте, опираясь на сырьевые доходы».
Политическая элита целенаправленно испортила все политические институты (выборы, парламент…). Но они позволяют исключить вызовы доминирующему положению лидеров. Поддерживаться эта система будет до тех пор, пока издержки равновесия не превысят получаемые элитой выгоды, добавляет Владимир Гельман, описывая институциональную ловушку, в которой оказалась страна. Дурное равновесие оказалось самоподдерживающимся. Даже если завтра какая-либо группа в руководстве страны захочет провести преобразование, повышающие эффективность управления страной, демонтировать институты, несовместимые с демократией и верховенством права, она натолкнется на риск ухудшить положение других правящих групп. Поэтому осознание элитами необходимости перемен не ведет к действиям.
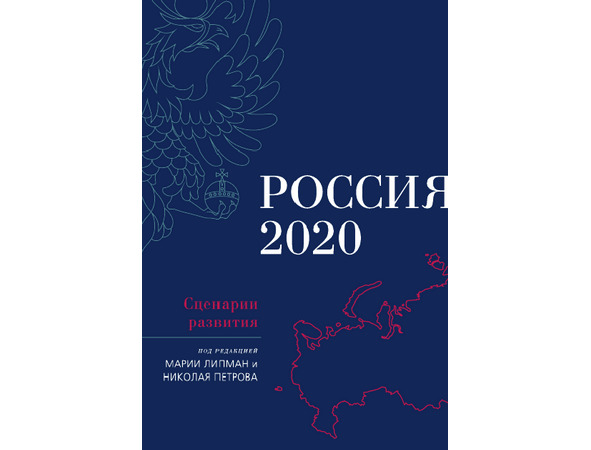
Россия 2020: сценарии развития. Под редакцией Марии Липман и Николая Петрова
Издательский цикл небыстр. Собранные в книге работы обсуждались и готовились осенью 2010 – летом 2011 годов (англоязычный вариант вышел в прошлом ноябре). Но это пошло книге на пользу. Публиковать сценарии на 10 лет не сразу, а через год-два после создания – хороший ход. Сразу видно, насколько правильно «сценаристы» увидели тренд и оценили его динамику.
В том старом, уютном мире, в котором готовились «Сценарии», свободолюбивый Кудрин еще был на страже российских финансов, творческая интеллигенция еще не прониклась революционными настроениями, еще не стало искрить между государством и гражданским обществом. Но Николаю Петрову уже было видно, что ситуация хуже, чем в симпатичном Дмитрию Пескову брежневском застое. Тогда партийная вертикаль контролировала гэбистскую и наоборот. У нас же выстроилось единое царство бюрократии с чекистским позвонком – силовая вертикаль, в отличие от партийной, более чем восстановила утраченные в 1990-е властные возможности. Конструкция с одной опорой неустойчива. Боясь потерять равновесие, бюрократия блокирует любую попытку гражданского контроля.
Патернализм – обратная сторона такой системы, ведь свое доминирующее положение, подчеркивает Лев Гудков, власть может сохранять только «путем систематического подавления у граждан собственного достоинства, посредством стерилизации мотивации и ориентаций на успех, склоняя людей к мысли «быть проще», «быть как все». Результат – отсутствие у общества критериев поощрения инновационного поведения.
В итоге возникает госмашина, неадекватная ни объекту управления, ни сложности стоящих перед страной задач, отмечает Петров. Отдельные части государства приватизированы (слишком много приватизации!) силовыми и производственными корпорациями. Государство становится корпорацией по извлечению и перераспределению природной ренты. Принудительно сузив круг не связанных с государством возможностей накопления частного капитала, Путин был вынужден дать подчиненным – суверенной бюрократии» – добро на кормление со своих должностей, добавляют в интересной главе об истории российской номенклатуры Иммануэль Валлерстайн и Георгий Дерлугьян.
Четкий образ 2020 года сценаристы Фонда Карнеги дать не решаются. И это правильно. Видны лишь отдельные закономерности. Например, такая: «Чем дольше удержание власти остается главной целью российского руководства, а его действия имеют ситуативный и реактивный характер, тем более вероятно, что развитие будет происходить через кризис» (Петров и Липман). Но рано или поздно придется восстанавливать доверие, отвоевывать у государства и «хозяев жизни» общественное пространство. Только тогда начнется политика, от которой не захочется бежать.
Forbes, 13.08.2012Убийственные привилегии
Михаил Блинкин, Екатерина Решетова. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые институции. М., Изд. дом Высшей школы экономики, 2013
«Князей» в России слишком много: до 10% участников дорожного движения уверены, что могут ездить как угодно.
Дорога не убивает, даже если она очень плохая. С этого тезиса, убежден известнейший российский транспортник и урбанист Михаил Блинкин, началась наука, занимающаяся безопасностью дорожного движения. Убивает в первую очередь агрессивное, опасное вождение. Но оно, в представлении множества водителей, является не архаичным и глупым поведением, а признаком социальной успешности. Ситуация не изменится, пока водители на дорогах не будут иметь равные права, не зависящие от богатства, места работы, принадлежности к правящему сословию.
Развернутое доказательство этих идей содержится в вышедшей недавно в издательстве ВШЭ книге «Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые институции». Авторы – директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин и его коллега Екатерина Решетова.
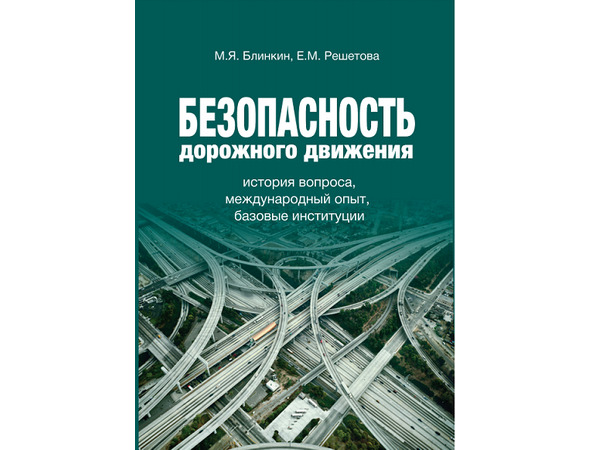
Михаил Блинкин, Екатерина Решетова. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые институции
Блинкин – убежденный институционалист и эгалитарист, сторонник общества, члены которого обладают равными правами. Улично-дорожная сеть – благо общего пользования, равнодоступное всем пользователям, которые должны следовать стандартам ответственного, грамотного и доброжелательного транспортного поведения, а их нарушение – априори посягательство на права других участников дорожного движения; главная задача дорожной полиции – защита принципа равнодоступности, охрана прав и свобод граждан от посягательств других участников движения. Когда эти принципы не соблюдаются, сосуществование автомобилей и пешеходов превращается в ад.
Почему институты, права и свободы так важны? Действительно ли нормы, правила и наказания за их нарушение перевешивают как факторы дорожной безопасности пресловутое качество российских дорог?
По уровню транспортных рисков (6,6 погибших в ДТП в 2012 году в расчете на 10 000 автомобилей, или 27 991 человек) Россия входит в группу наиболее небезопасных стран мира наряду с несколькими странами Юго-Восточной Азии, Бразилией, Турцией, Мексикой и Египтом. Если бы риск рассчитывался относительно не числа автомобилей, а их пробега, как это делается во многих странах, российская статистика выглядела бы еще хуже.
Базовая формула науки о транспортной безопасности – закон Смида, показывающий, как с ростом автомобилизации убывают транспортные риски. В основном смертность в ДТП во многих странах уже более полувека следует кривой Смида. Построенная в конце 1940-х годов, когда автомобилей было совсем немного, кривая позволяет оценивать успехи страны в транспортном самообучении – ее адаптацию к росту автомобилизации. Если бы самообучения не было и смертность в ДТП оставалась на уровне 1938 года, в США сейчас в ДТП умирало бы 1 млн человек в год, а не 42 000, а в Великобритании – 0,5 млн, а не 3200. Развитые страны отклоняются от кривой Смида в лучшую сторону, Россия – в худшую. У нас транспортные риски были запредельно высокими в первой половине 1990-х годов. С тех пор они заметно снизились, в том числе в последние годы. Но все равно в развитых странах транспортный риск в 4—10 раз ниже, чем у нас.
Дорожная смертность нигде не снижается автоматически. Это результат постепенного отказа от архаического right of way – права преимущественного проезда высших сословий по единственной полосе движения, когда пешая публика расступается и отходит на обочину, уступая дорогу важной персоне в автомобиле, – в пользу равенства транспортных прав.
За соблюдением принципа всеобщего равенства на дорогах во многих странах неукоснительно следят, пишут Блинкин и Решетова. В начале 1990-х парламент не разрешил премьеру Норвегии Гру Харлем Брундтланд даже в исключительных случаях пользоваться полосами для общественного транспорта, посоветовав вызывать такси (такси ездят по полосам для общественного транспорта). В 2007 году начальник дорожной полиции Рима был уволен за то, что оставил автомобиль на парковочном месте у ресторана, предназначенном только для инвалидов. Тогда же королю Швеции Карлу XVI Густаву пришлось платить штраф за неправильную парковку в центре Стокгольма и заявить, что впредь король «будет самым внимательным образом смотреть на знаки, запрещающие парковку».
Подобная практика вышла за пределы развитых стран. В 2010 году президент Филиппин, вопреки возражением своей службы безопасности, отказался от перекрытия дорог для президентского кортежа, использования спецсигналов и езды по встречке. Даже в Индии с ее кастовыми традициями Верховный суд год назад постановил, что особо важные персоны не должны иметь на дорогах общего пользования никаких преимуществ, а практика езды с проблесковыми маячками, сиренами и автомобилями охраны воспринимается как «репрессивный символ».
России до такого подхода пока далеко. На сверхвысокой скорости перемещается по Москве автомобиль вице-премьера Аркадия Дворковича. И с предсказуемой регулярностью попадает в ДТП – в июне 2011-го, в марте 2012-го, октябре 2013 года. Между первым и вторым ДТП на сайте сообщества «Синие ведерки» появился ролик, показывающий, как ночью авто Дворковича летит по Садовому кольцу со скоростью около 180 км/ч и маневрирует, не включая поворотников. Число ДТП с участием высокопоставленных чиновников, бизнесменов и их детей с трудом поддается учету.
Поведение элиты всегда и везде было образцом для подражания – поведение «хозяев жизни» задавало модели для тех, кто стремится попасть «в князи». Но тяжелая ситуация с дорожной безопасностью в российских городах связана не только с этим. Проблема в том, что «князей» слишком много: по оценке Блинкина и Решетовой, до 10% участников движения в регионах и как минимум вдвое большая доля московских водителей уверены, что могут делать на дорогах все что угодно. Инспекторы, пытающиеся наказать их за нарушения, обретут лишь неприятности. Да и как добиться всеобщего соблюдения правил в ситуации, когда от наказания можно откупиться. У нас это, к сожалению, закреплено еще и архаической практикой, когда виновник ДТП со смертельным исходом может избежать уголовного наказания, заключив мировое соглашение с семьей погибшего.
Без победы над сословными привилегиями России не удастся внедрить ключевой элемент, снижающий транспортные риски: выявление водителей, склонных к происшествиям – опасному, субстандартному вождению (демонстративное превышение скорости, нарушение дистанции, частая и маршрутно-немотивированная смена полосы движения, проезд на красный или «впритык» к окончанию желтого сигнала светофора). Опасное вождение, разумеется, куда чаще вызвано уверенностью в собственной безнаказанности, чем воздействием алкоголя или наркотиков.
Для выявления таких водителей и лишения их прав на управление автомобилем очень важен социальный капитал: это задача не только полиции, а всех участников движения. В Англии и Уэльсе суждения полицейского об опасном вождении не имеют для суда большего веса, чем суждения любого свидетеля-водителя. Такой подход позволяет постепенно формировать «неформальную позитивную дорожную коалицию» – сообщество доверяющих друг другу водителей, выполняющих ПДД и следящих за тем, как это делают остальные. Защита жизни, здоровья и психологического комфорта участников дорожного движения становится общим делом.
Наоборот, во многих странах третьего мира, где полиция охраняет не здоровье граждан, а в первую очередь власть и ее привилегии, формируется «негативная дорожная коалиция»: водители, включая добропорядочных, игнорируют опасные действия друг друга, совместно противостоя контролю со стороны полицейских. В России роль социального капитала в предотвращении пробок и аварий исследовал профессор ВШЭ Леонид Полищук и его коллеги.
Они показали, что пробки и аварии – результат неспособности водителей координировать свое поведение друг с другом, и чем выше социальный капитал – доверие людей друг другу, тем меньше пробок и аварий. Социальный капитал проявляется на дороге в самых простых вещах: пропускает ли водитель того, кто перестраивается, объезжает ли пробку по обочине, въезжает ли на перекресток, где образовался затор, заведомо понимая, что будет мешать перпендикулярному движению. Чем менее «кооперативно» ведут себя водители, тем хуже в итоге всем. Из городов, где проводился опрос, наиболее внимательными к другим оказались водители Новосибирска.
Книга Блинкина и Решетовой прекрасно дополняет подготовленный ими в прошлом марте доклад для правительства. Он нарисовал неприглядную картину сословного общества: основные нарушители ПДД в России – привилегированные классы, к ним ГИБДД относится лояльно – инспекторы в опросах подтвердили, что практически не могут применять к таким водителям санкции.
Привилегии водителей, занятых на дороге демонстрацией своего превосходства над остальными, в буквальном смысле слова убивают людей. Правительство послушало. Не сказать, чтобы информация шокировала – она вполне соответствует тому, что москвичи видят на дорогах ежедневно. Заметных изменений с тех пор не произошло: люди все так же умирают на дорогах, водители с особыми правами все так же используют дорогу для самореализации.
Forbes, 03.04.2014Институт забора: откуда в России несвобода и теснота жизни
Максим Трудолюбов. Люди за забором: власть, собственность и частное пространство в России. М., Новое издательство, 2015
Тотальное стремление к безопасности становится главной угрозой общественному благу в России.
Человек – существо общественное, но ценящее приватность. Естественная для нас возможность остаться наедине с собой и близкими стала важным достижением цивилизации. Но для всего мира это достижение сравнительно недавнее, а в России – вообще почти вчерашнее. Трудный путь из деревни в город, из коллективной бездомности к отдельной квартире как к цели и счастью жизни был пройден в 1960—1970-е годы поколением, родившимся в начале XX века. Так начинается вышедшая недавно в «Новом издательстве» книга «Люди за забором: власть, собственность и частное пространство в России». Ее написал Максим Трудолюбов, известный колумнист и многолетний редактор комментариев деловой газеты «Ведомости».
Чтобы у человека появилось приватное пространство для жизни, нужно не так уж мало. Право собственности на землю и имущество, разграничение между общественной, государственной и частной собственностью, защита прав собственника законом и правоприменительной практикой. Многие столетия европейские горожане расширяли свои права, отвоевывая их у феодалов и королей, укрепляя свою роль в управлении городом и страной. В России же экспансию вели не граждане, а государство. Отсюда, пишет Трудолюбов, «несвобода и теснота жизни в огромной России». Основным приоритетом государства стали территориальные приобретения и их защита, сохранение за элитой возможности контролировать ключевой источник благ (от пушнины до зерна и нефти), отражение угроз госбезопасности.
Результат: «места в стране много, а жить тесно».
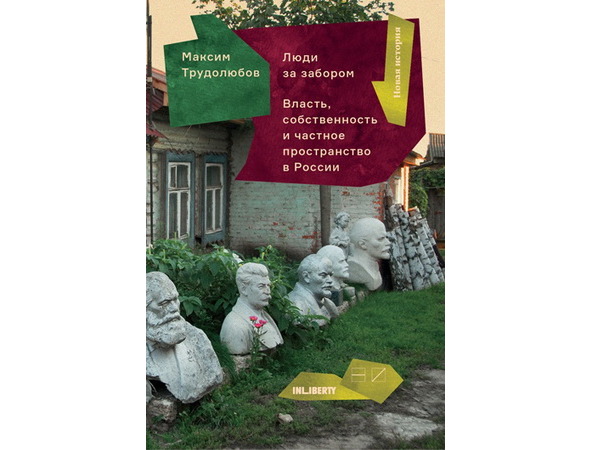
Максим Трудолюбов. Люди за забором: власть, собственность и частное пространство в России
В стране мало обжитого пространства. Рентная экономика с опорой на сырье стимулирует не к освоению огромных пространств, а к удержанию контроля над основным источником благ. Поэтому экономическая и политическая активность так сконцентрирована – все стремятся «в Петербург, в Москву, к казне, к центру принятия решений». Гигантские необжитые пространства и их одинаковость («куда ни глянь – все то же») – обратная сторона чрезмерной централизации власти.
Отсюда и российская «трагедия собственности». В Европе частная собственность стала символом борьбы за гражданские права и участие в делах общества. А в России собственность, часто дарованная верховной властью, символизировала для «класса угнетателей» его господствующее положение, а для остального населения – несправедливый порядок вещей, с которым трудно мириться. И те и другие воспринимали собственность как незаработанную и удерживаемую несправедливо. Поэтому собственность не продуцировала стремления к правовому государству.
Невероятно быстрое распространение частной собственности в 1990-е годы не превратило население в граждан, а электорат – в собственников своей страны, пишет Трудолюбов:
«Вещи стали своими, а страна своей по-настоящему так и не стала».
Собственность как результат присвоения, а не созидания не привела к образованию класса независимых собственников. Как и в Российской империи, право собственности и гражданские права стали явлениями разной природы: за них борются люди, которые могут оказываться по разные стороны баррикад.
Историю борьбы за частное пространство автор рассказывает не только теоретически, но и автобиографически, через личные истории. Он вспоминает, как радовался дед обретению собственной квартиры. Его поколение начинало жизнь в бездомных, нечеловеческих условиях, а к концу своего пути доросло до человеческих, попробовав «потребительскую жизнь». Пройдя советскую мясорубку, они выглядели так, как будто никакой мясорубки и не было. Из опыта наших дедов и бабушек видно, что патернализм – не культурная, а историческая особенность. Они многого добились сами и рассчитывали только на себя. Но другого работодателя, кроме государства, это поколение не знало.
Зависимость от государства – не «врожденное», а «благоприобретенное» свойство, выращенное революцией, раскулачиванием, коллективизацией, войной, а потом и распадом СССР. Каждое из этих событий обнуляло социальный (да и материальный) капитал: все приходилось начинать с нуля. Результат – постоянное ожидание помощи от государства и готовность идти против него, если «что-то пошло не так» (как в момент написания этой статьи делают дальнобойщики). И бесконечная повторяемость дискуссий – не происходит межпоколенческого накопления опыта, культурный капитал тоже обнуляется, новые поколения заново начинают спор, идущий как минимум с Петра Чаадаева – о ценностях, путях развития, месте России в мире.
Формирование в стране правового режима защиты частной собственности так важно потому, что оно ведет к появлению автономных деятелей, не зависимых от государства, к ограничению его влияния, к появлению суда как арбитра между человеком и государством. Это никогда не происходит бесконфликтно. Как показывают Дарон Асемоглу, Джеймс Робинсон и другие исследователи авторитарных режимов и демократических трансформаций, авторитарные лидеры и элиты не склонны добровольно делиться властью. Свобода добывается кровью. В России заменой правовых институтов стала силовая защита – забор, вынесенный Трудолюбовым в титул книги.
Всевозможные заборы (главный – кремлевский), огораживание, охранники на каждом углу, превращение каждого дома в крепость должны компенсировать невозможность защитить собственность легально.
Но они не спасают от силового захвата, государственной экспроприации или деятельного интереса к вашей собственности конкурентов, имеющих властный ресурс. Заборы возникают даже внутри общественных пространств, где их не должно быть по определению: в метро, перед входами в общественные здания. Это психология охранников: они начинают нервничать, если люди «неконтролируемо» входят через разные двери (даже если их четыре, открыта должна быть только одна), если не могут выстроить людей в цепочку очереди. Режим ограниченного доступа вводится даже там, где никаких угроз нет и в помине: недавно моя трехлетняя дочка плакала из-за того, что полюбившаяся ей детская площадка, построенная у нового дома, внезапно оказалась за оградой, пройти за которую могут только его жильцы.



