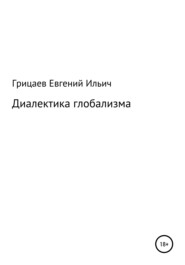 Полная версия
Полная версияДиалектика глобализма
Идея наличия «внешнего механизма, управляющего движением мысли», лишена смысла, поскольку мысль сама по себе представляет собой внешне-внутренний феноноумен – выражение ментального модуса действия. Это означает, что, не может быть никакого внешнего действия воли, хотя надиндивидуальный характер ее бытия остается, но на внешне-внутреннем целостном «уровне». Таким образом, в сфере субъективного не может содержаться никаких «внешних механизмов» регулировки, кроме материализации за счет ментального равновесия осмысление-осознание. Глагольный модус ментальности призван включать в себя надиндивидуальный механизм материализации, согласно направленному равновесию развития целостности субъективности.
Коллективный разум охватывает вопросы «саморегуляции» осознания, которые целиком зависят от его равновесия с осмысленностью. При этом направляющее действие со «стороны» фактора самоорганизации по линии объективных отборов неизбежно – они корректируются в ходе становления ментальных модусов. «Личностный смысл» ситуации определяется осознанием в терминальной стадии материализации – как корректировка действий, ввиду изменившихся внешних обстоятельств среды. Надиндивидуальный фон бытия остается неизменным, вариации происходят уже в лоне сферы субъективного, собственно «Я». То есть, ментальный глобализм главенствует в процессах обеспечения целостности социетального и личностного. Он формирует коллективный разум.
Воля как феномен не является «механизмом отбора направлений действия». Такое направление задается объективными отборами развития сущности в процессе осмысливания и рефлексии. Диалектическая связь предусматривает оптимизацию «команд», в том числе и рефлексивные процессы. Именно они определяют оптимизацию и «выбор направления действий», а не вторичная «воля. Если говорить о «свободе воли», то такой тенденциозный психологический термин в нашем диалектическом исполнении должен выглядеть как самоорганизация развития целостного субъекта. Но не как «самодетерминация сферы субъективного». Внешняя самоорганизация должна уравновешиваться самоорганизацией внутреннего. Это условие успешного формирования коллективного разума. Современные глобалисты принижают роль этих объективных процессов, особенно ментального глобализма.
Коллективный разум исходит из главенства имеющихся в сообществе ценностей. Императив общечеловеческих ценностей исключительно важен для становления разума. Он проявляется целостно в виде грегарного отбора, сопряженного со всем остальными отборами процесса развития. Императивность биосоциального потока обуславливает адекватную объективную материализацию, Она, пройдя субъективное преломление, связывается и проявляется в реальных действиях актуализации ментальных моделей. Таким образом, для личности существует императив ментальности, находящийся в диалектическом равновесии с императивом субъективного. Но это вовсе не надиндивидуальное бытие, а целостность коллективного разума.
Соотношение императивности процесса и явления основано на диалектической связи. А также из неизбежно вытекающего из нее принципа относительности. Связь всегда относительна, инвариантна, это подметил уже Альберт Эйнштейн в своих теориях как постулат. Но она абсолютна: она всегда есть, она процесс, который неизбежно проявляется относительно. Который основан на поляризационном субъективно-объективном взаимодействии ментальностей. Процесс – это субъективное в действии, явление есть процесс в субъективном, ментальном действии. Отсюда вытекает императивное тождество объективного процесса развития ментальности в связке осмысление-осознание как нечто «надиндивидуальное». Именно оно характеризует коллективный разум в виде развития ментального глобализма с социетальным и личностным.
Ментальность личностной субъективности выражается в полях мышления. Поле мышления – динамическое инвертирующее поле, в котором зарождается и развивается мысль. Причем, вначале она идеальная, затем материальная; вначале – в виде виртуальной непрерывности, затем – в виде материального электрического импульса, выливающегося в последствие в ментальное действие. Происходит связь в целостный феноноумен субъективности типа «Я»-«Не-Я», где оба «компонента» существования субъективности вырождены. Так процессность трансформируется в предметность разума, а помысел – в поступок. Мы не будем здесь подробно рассматривать собственно мышление как феноноумен. Отметим лишь некоторые моменты, связанные с его «полевой» условностью, которая делает более наглядной диалектическое воззрение на тему коллективного разума.
Материально-идеальная связь совершается в каждой точке. В случае мышления и идеального осознания – в точечных окончаниях синапсов коры головного мозга. Поэтому ее для наглядности удобно разворачивать – в виде временной развертки она выглядит как процесс разума. Динамическое, процессное ментальное поле, в котором постоянно изменяется и инвертирует вектор напряженности – это поле мышления. У каждой мысли свое поле мышления, свои параметры его. Таким образом, имеется бесконечное множество полей мышления по числу мыслей. Более корректно не считать мысли числом, а представлять их в виде бесконечного процесса мышления ментального глобализма.
Коллективный разум предполагает, что поля мышления взаимодействуют друг с другом группами по смыслам и объединены в единое поле разума – процесс мышления личности, социума, Вселенной. Этот процесс мы обозначаем как осознание – сознание в действии. Сам термин «осознание» очень глубок, он процессно связывает как чувственное сознание, так и ментальное осознание. В том числе внечувственную рефлексию и связь между ними в виде направленного процесса развития. Например, поле мышления при чтении книги – направленное поле, а поле мышления при созерцании телевизора – разорванное, ненаправленное, поскольку нет связи между ощущениями и смыслами. Куда «уходит» эта связь? В нежелание усваивать и осмысливать происшедшее, в отсутствие процесса работы мышления над собой. Современные глобалисты сознательно рвут эту связь.
Каждая мысль, зародившись в ходе рефлексии, должна до конца пройти свой путь развития – до поступка в поле мышления. Почему не доходит? Потому что гаснет, не дойдя до ментального волевого начала. Модус воления теряет стимулы развития. Появляются конкурирующие мысли, мешающие и обрывающие поля мышления. Обрывки мыслей, подобно виртуальным частицам полупроявленной субъективности, не фиксируется. Процесс коллективного разума прерывается. Субъективная геометризация мышления неизбежно приводит к коллективному разуму, как к качественной и количественной характеристике той или иной личности, сообщества. Мысль зарождается как идеальная ментальная реплика на фоне действия глобализма. Именно в ходе процесса глобализма происходит актуализация ментальных реплик в целостность коллективного разума. Этого не предусматривают трансгуманисты в своих устремлениях «улучшения человека».
Разум это не только мышление в процессе создания и развития мыслей, осмысливания информационного поля сознания. Это соотнесения явлений со смыслом процесса – общее, ненаправленное понятие разума. Последнее лишь развивает и структурирует это объективное проявление. Однако такое обстоятельство не означает отсутствие инициативы со стороны личности и то, что она идет на поводу объективного развития. Нет, объективность означает лишь направленность развития, а вот детали этого развития устанавливает сама личность. В этом ее «самость». Субъект активно действует по обратной связи при рефлексии того или иного поступка и, согласно, имеющемуся смыслу, постоянно улучшает модели с его участием. Так ментальная модусность достигает осознания необходимости материализации. Происходит непрерывная рефлексия, взывание к здравому смыслу: мысль идеальная – мысль материальная с разверткой в поле мышления в коллективный разум…
Последние десятилетия ознаменовались бурным ростом средств телекоммуникации. Множество телевизионных программ с рекламой и засилием боевиков, компьютеры с их невероятными возможностями, Интернет. Все это обрушило на человечество огромный поток информации, зачастую ненужной и вредной. Всякое благо может обернуться бедой, если коллективный разум идет против ментального глобализма. Особенно, если нет ясности в его использовании. Нужна культура феноноуменального использования информации как негоэнтропии, которая, зачастую, отсутствует в полях мышления. Почему отсутствует? – другой вопрос, здесь мы его касаться не будем.
Весь этот бурный поток информации неизбежно нашел свое отражение в единых полях мышления, как людей, так и общества в целом. Люди стали намного меньше читать и общаться. Онлайновское общение в социальных сетях не заменяет живое общение. Этот суррогат общения выигрывает в количестве, но проигрывает в качестве. Люди стали больше созерцать потоком льющийся на них шквал низкопробных готовых ментально-провоцирующих образов, лишенных смысла, далеко не всегда основанных на общечеловеческих ценностях. Мышление людей стало менее разнообразным и свободным. Как следствие того – коллективный разум оскуднел. Люди стали меньше размышлять и больше созерцать. Поток информации создает стрессы, зомбирует людей, разрывает идеальную компоненту полей мышления. В результате страдает ментальность, действие ее глагольных модусов сужается. Коллективный разум страдает – он не может уравновесить целостность личностей с сообществом, поскольку оно идет вразрез с метальным глобализмом. Подобное есть питательная почва для глобальных катастроф и кризисов.
Казалось бы, автор рисует мрачную картину. Но такие перекосы коллективного разума неизбежный итог урбанизации при субъективных искажениях ментального глобализма. Однако выход есть. Он заключается в творческом ментальном начале, вследствие оскуднения которого ставится проблема ментальности в целом. Речь должна идти об общечеловеческом идеальном, которое всегда приходит на помощь материальному. Поток информации это благо. Значит, необходимо научиться пользоваться им. Нужно создавать такие поля мышления, в которых смысл играет роль ведущего начала всякого поступка. Так должно быть – это направление развития всей цивилизации. А применительно к этому следует создавать и применять соответствующие рычаги воздействия. Коллективный разум, например, типа патриотизма или энтузиазма – это тот стратегический плацдарм, за который веками боролись и борются как мыслители-творцы, так и правители-прагматики, и революционеры-бунтари. Это психотронное оружие, но это и будущий прогресс.
Переход от чтения как основного средства воспитания личности к радостному и сладостному созерцанию под восторженную рекламу нарушил равновесие связей материально-идеального континуума личности. Ментальные связи стали более созерцательными. Отсюда исходил разгул социальных реформ, войн, насилия, наркомании, разврата и гулёного пьянства. Причина одна: недостаток коллективного разума.
Вот к чему приводит, казалось бы, безобидная и эйфоричная телекоммуникационная революция. Такая подмена в полях мышления привела к отсутствию сознательной работы над собой и отсутствию в ментальности природно-эстетического начала. Привела к отсутствию понятия и принятия общечеловеческих ценностей. Предметность мышления стала захлестывать его процессность. Так добро обращается во зло. Но так не должно быть, благо должно быть благом. Деградация сообщества и личностей начинается с оскуднения коллективного разума: в случае общества ослабевает идеальная компонента биосоциальной связи «общество-личность»; в случае личности – ослабевают связи «Я – обществу», «Я»-«Не-Я» и «Я – Существую».
Идея наличия «внешнего механизма, управляющего движением мысли» лишена смысла. Поскольку мысль сама по себе представляет собой внешне-внутренний феноноумен – выражение ментального модуса действия. Это означает, что, не может быть никакого внешнего действия воли. Хотя надиндивидуальный характер ее бытия остается, но на внешне-внуреннем целостном «уровне». Таким образом, в сфере субъективного не может содержаться никаких «внешних механизмов» регулировки, кроме материализации за счет ментального равновесия осмысление-осознание в ходе процесса глобализма.
Поэтому тщетны попытки трансгуманистов вмешаться в дела коллективного разума. Глагольный модус ментальности призван включать в себя надиндивидуальный механизм материализации, согласно направленному равновесию развития целостности субъективности. Так коллективный разум реализует свои разумные цели, не в пример глобалистам, которые мечутся со своими сумасбродными идеями, лишенными не только смысла, но и разума, как единичного, ментального, так и коллективного.
6.9. Урбанистический глобализм
Ученые от урбанистики до сих пор достаточно не прояснили вопрос: что преобладает в процессах урбанизации: капитальный отбор или грегарный. Вполне возможно, главную роль в этом играет ментальный глобализм, поскольку в условиях города личность имеет больше возможностей для развития своей духовной сферы. Однако при этом несомненны негативные стороны урбанизации. Они заключаются, главным образом, в глобализации человеческого разума в многотысячной людской среде мегаполисов. А также в закрепощении его свободы. Человек – природное существо. Если рвется целостная связь его субъективности с субъективностью природы, это приводит к урбанизационному засилью духа.
Засилье города ощущает каждый. Окружение громадин домов и смога на улицах, толчея круглый день, шум автомобилей – все это угнетает и давит на субъективности людей. Объективна ли урбанизация? Когда-то наступает момент, когда тяга к материальным благам стала тормозить развитие человека, тормозить самоорганизацию и грегарный отбор. Воздействие глобализма на человека более важно. Тело отрывают от души, смысл от сущности. В результате неизбежно страдает истина – ее субъективно извращают. Подобно искажениям ментального глобализма трансгуманистами.
Урбанистический глобализм это вариант надиндивидуального бытия человека, когда он из двух «зол»: материального и духовного выбирает первое. Такое добровольное согласие можно рассматривать как самоглобализацию ментальности, которая происходит помимо биосоциального потока. Урбанистический глобализм, прежде всего, выражается в ограничении степени свобод духа, его ментальности путем морального стеснения ментального глобализма со стороны городской инфраструктуры. Надиндивидуальность при этом приобретает антирефлекторный характер, а сама ментальность испытывает дискомфорт от внешнего противодействия его субъективным помыслам и объективным направленностям.
Отчасти такая неуравновешенная структура надиндивидуального бытия несет отпечаток неизбежного разделения субъективной сферы и процесса объективного в субъективности. То есть, в условиях, когда хочется большего, а внешнее не дает этого сделать. Особенно такое положение дел касается вырождения человечности в стереотипность банального бытия. Если привычки довлеют над личностью, – значит, человек оказался «под колпаком» урбанистического глобализма с его угнетением воли и чувств и серостью однообразного антуража. Человек, таким образом, вынужден мириться с этой «тихой» катаклизмой, – но ради чего? Это ли не «глобальный идиотизм», когда ментальность личности страдает, казалось бы, в благоприятной обстановке?
Ментальный стресс отличается от стресса нервного напряженностью связей субъективностей. Тогда природа исконно земного существа тянет к земле, а город с его чрезвычайными и экстремальными условиями бытия не хочет или не может ему это позволить. Отсюда исходит неуравновешенность и смятение, характерное для несбалансированности менталитета противоборствующими сторонами субъективного и объективного глобализмов.
Более того, надиндивидуальное бытие есть предвестник трансгуманизма в его сегодняшней ипостаси: под благостным пацифизмом оно прячет аморализм собственных действий. К тому же урбанистический глобализм смешивает смысловые окраски бытия со стороны, в результате чего сами смыслы отдаляются от личности. Но урбанизм есть продукт деятельности человека, а трансгуманизм – производное от влияния на ментальность. Хотя, в конечном счете, оба этих течения привносят в субъективности негативные тенденции.
Надиндивидуальное бытие подразумевает бытие связки осознание-осмысление совместно с процессами рефлексии и развития. Оно, конечно, может быть отделено от индивидуального бытия весьма условно, поскольку эти два «вида» бытия являются единой целостностью в диалектической связке субъективности. Однако у надиндивидуального бытия имеются свои особенности, связанные, главным образом, с проблемой ментальности. То есть, с поддержанием равновесия осмысление-осознание на достаточно устойчивом и активном уровне. От этого зависит «самочувствие» субъекта как личности и актуализация его потребностей, в том числе ментальных.
Рассмотрим в качестве примера феноноумен воления в процессе урбанизации. Он, как и подобные ему феноноумены действия, – желания, страха, боли, намерения имеют смысл в глагольности существования. Все они выражают не «готовность действовать», а только тенденции ментальных «действий». В ходе осмысливания осуществляется становление ментального модуса необходимости действия, который в процессе осознания ментального выливается в терминальный феномен действия. Как видим, «волевой акт» это вовсе не реализация готовности действовать, а сложный процессно-явленный комплекс, приводящий к действию. В действии процесса урбанизации смыкаются надиндивидуальность бытия и индивидуальность. Подобным образом действуют тенденции ментального глобализма.
Любое переживание субъекта представляет собой феноноумен. Нет, и не может быть «готовых» феноменов, которые могут действовать сами по себе. Иначе такой имманентный подход будет свидетельствовать об априористическом прагматизме. В этом случае процесс связи или развития субъективности снова и снова выдается за материальный результат. Именно такое начало видится в идеях трансгуманистов – материальным путем воздействовать на целостность личности. Здесь прослеживаются аналогии с урбанизационным глобализмом. Переживание осмысливается и становится через смысл глагольного существования надиндивидуального бытия. Но не через трансцендентное «предчувствование готовности».
Переживание городских неудобств становится именно феноменом, а не «нейтральным знанием», не как следствие возможности актуализации, а как актуализация возможного. То есть, как развитие связки ментального и чувственного в субъективности. Однако это «возможное» вырисовывается и готовится в сложных процессах ментального моделирования и уравновешивания осмысленности осознанием. Бывает так, что равновесие в условиях надиндивидуального городского бытия оказывается сдвинутым далеко в «сторону» материализации. Тогда оказываются возможными поспешные и необдуманные поступки, вредящие субъекту. Такое можно усмотреть в действиях современных глобалистов.
Урбанистический глобализм противопоставлен диалектическому глобализму самой человеческой цивилизации. Можно утверждать, что он есть создание капитального отбора. Например, мы не можем даже помыслить действие вне связки надиндивидуального бытия: осмысление-осознание. Иначе мы оказываемся в сфере действия так называемого «парадокса реального действия», когда действие действительно переносится во внешнюю трансцендентную область. При этом известный «эффект команды» оказывается ничем иным, как невозможностью «самостийного» действия, то есть лишенного осмысленности и осознания. Подобное тормозит объективный ментальный глобализм в условиях урбанизации.
Наивно полагать, что «внешняя реальность (по крайней мере, на чувственном уровне) нам непосредственно не дана». Она дана нам в целостной диалектической связке ментальности и сенсорности. Поэтому говорить о «субъективном заместителе» в виде непонятной идеи, позволяющей ментальный модус надиндивидуального бытия переводить во «внутреннюю субъективную сферу». Вряд ли целесообразно «улучшать» в этом отношении человека трансгуманистическими методами.
Разделение на внешнее замещение и внутреннее естество, по крайней мере, некорректно. Такой заместитель заведомо уже имеет место в действительности, его участие мы уже рассматривали в виде необходимости целостности. Это направленное равновесие развития, обеспечивающее материализацию только в рамках субъективности, но не в некоторой «внешней среде». Хотя бы в виде урбанизации особенностями городской среды. Изъяны подобного материалистического подхода с отрывом действительности от «внешнего» вряд ли приемлемы для глубоких философских обобщений. Как и само надиндивидуальное бытие, которое на деле оказывается в «составе» целостной субъективности. Но не в целостности ментального глобализма.
Урбанистический глобализм полагает влияние непонятного свойства на личности. Но это влияние на целостность существования. Известная идея «трансцендентной реальности», которая «позволяет мыслить волевые акты как продолженные за пределы субъективного» не может быть «базовым модусом» воления. Даже по причине того, что этот модус необходимо прежде обеспечить становлением на базе смысла воления. То есть, история «беспомощности» такого подхода повторяется в условиях города. Тем не менее, воление обязательно воплощается в моторное действие субъективной сферы после «прохождения» равновесия осмысление-осознание. Оно обладает определенной императивностью за счет объективной направленности существования «надиндивидуального бытия» в рамках феноноумена субъективности.
Таким образом, объективный надиндивидуальный императив (императив развития ментальности) выражается в материальном прогрессе городской инфраструктуры с ее засильем. Но этот прогресс не есть количественное выражение материализации. Это объективный процесс, субъективный результат развития феноноумена который мы замечаем как феномен. Это конформный процесс, одномоментно происходящий в каждой материальной точке и во все объеме. Поэтому он лишен количественных характеристик. Равновесие материализации-дематериализации Вселенной и его воздействие на человека (обратная связь с Землей и Космосом) происходит с участием субъективности Вселенной, для которого потерян смысл, как времени, так и пространства. То есть, ментальность как идеально-материальная тенденция развития «находится» в каждой точке и во всем объеме материальной Вселенной всемоментно. Это общий объективный процесс развития с его определенной императивностью независимо от материальных или надиндивидуальных урбанистических масштабов. Поэтому попытки современных глобалистов изменить всеобщее кажутся жалкими и никчемными даже в историческом плане.
Таким образом, существует материально-идеальный континуум урбанистического глобализма в виде объективного императива развития и становления глагольных ментальных модусов. Чтобы лучше понять данное утверждение, целесообразно разобраться в вопросе: откуда берется ментальное, идеально-материальная связь. В любом случае из неравновесности равновесия. Да, равновесие осмысление-осознание существует. Но оно действует в рамках субъективности. Объективно оно не может существовать, если не направлено, неполяризовано. При неизбежной связи субъективного и объективного, процесса и явления – появляется «неравновесность равновесия» как диалектическая категория отношения, связи материи и духа. Материя вроде бы есть как субъективное, но ее нет как объективное, надиндивидуальное.
Подобным образом в обществе существует императив биосоциального потока, хотя бы в виде урбанистического глобализма на платформе ментального глобализма. Поскольку общественные отношения основаны на общечеловеческих ценностях, то в обществе существует императив общечеловеческих ценностей или память городского социума. Он обеспечивается соответствующей направленностью развития ментальных образов. Благодаря императиву общечеловеческих ценностей, происходит воспитание и самовоспитание, становление субъективности и самого субъекта как личности. Но не как некая надиндивидуальная частность, а как холистический процесс развития ее связей с внешним. В условиях города к этому процессу прибавляется немалый довесок урбанистического влияния.
Императив общечеловеческих ценностей исключительно важен для становления и проявляется целостно в виде грегарного отбора. Тогда как урбанизация тормозит его объективацию через ментальный глобализм. Императивность биосоциального потока обуславливает адекватную объективную материализацию. Она, пройдя субъективное урбанистическое преломление, связывается и проявляется в реальных действиях. Таким образом, для личности существует императив ментальности, находящийся в диалектическом равновесии (материальной неравновесности) с императивом субъективного. Но это вовсе не надиндивидуальное бытие. Хотя в качестве такой оппозиции к ментальности может выступать урбанистическй глобализм.
Соотношение императивности процесса и явления основано на диалектической связи и неизбежно вытекающего из нее принципа относительности. Как уже отмечалось, связь всегда относительна, инвариантна. Это подметил уже Альберт Эйнштейн в своих теориях как постулат. Но она абсолютна: она всегда есть, она процесс, который неизбежно проявляется относительно. Отсюда императивное тождество объективного процесса развития ментальности в связке осмысление-осознание как нечто «надиндивидуальное». Урбанистический глобализм вряд ли способен существенно искажать это тождество. Куда хуже могут действовать идеи трансгуманистов и «страшилки» антиглобалистов. Ментальный глобализм наиболее чувствителен к внешним влияниям, чем его «собратья» по цеху объективной направленности.

