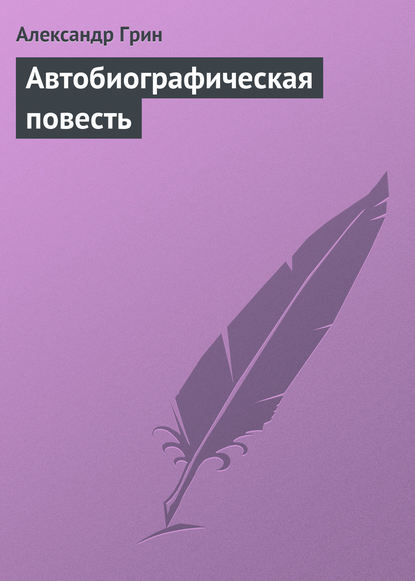 Полная версия
Полная версияАвтобиографическая повесть
Этот Кулиш несколько лет назад был до полусмерти избит командой своего парохода за то, что утаил пять тысяч рублей золотом, украденных сообща из почтовой каюты. Грудь его была разбита, ребра сломаны – оттого-то он держался неестественно прямо. Не знаю, чем он обошел следствие по тому делу, но его не трогали, а он даже считался у нас «старшим» и получал пенсию. Был слух, что в парке на одном дереве висят эти спрятанные Кулишом пять тысяч рублей, но мало кто верил такому слуху. Эта темная история была мне неинтересна.
Многого не помню, приведу лишь пример пикировки (скорее перебранки):
– Ты что, скаженный (проклятый), опять мою ложку взял?
– Та они же одинаковы.
– Одинаковы… одинаковы! Мать твоя одинакова.
– Заткни фонтан, огибалка, босяк!
– Ах ты… в гроб печенку… (и так далее, по всем частям организма, включая религиозные и моральные категории). Кнек проклятый («кнек» – чугунный постав, вокруг которого обматывают канат). Кнек! Кранец! Банберка (большой поплавок).
– Матрос с погоревшего корабля!
– Малахольный!
– Тебе гальюны (сортиры) чистить, а не борщ жрать!
– Ты голодный, на тебе кусок, подавись.
– Одинаковы!.. Та у моей ложки конец зарублен, на вот, чи бачишь?
Бывало сильнее, бывало слабее. Но пикировка обязательно кончалась отвратительной руганью.
Не знаю, что выдумывал обо мне Кулиш за моей спиной, но дело кончилось плохо: однажды Кулиш загадочно сообщил, что Хохлов требует меня к себе. Он и Силантьев сидели в отдельной комнате конторы.
По лицу Хохлова я сразу увидел, что он разозлен.
– Вот я пришел, – сказал я.
– Скажи, пожалуйста, – грубо сорвался Хохлов, – какой это я тебе «дядя»?
– Вы мне не дядя. Я не понимаю…
– Ты нагло врешь! Ты всем говоришь, что я твой «дядька» и что я сделаю тебе все, что ты только захочешь.
– Кто вам сказал такую чепуху?
– Кулиш. И я верю ему.
Разыгралась безобразная сцена. Мои объяснения, что Кулиш сам называл Хохлова «дядькой», что он клевещет, – ничему не помогли. Хохлов кричал, что я испорченный человек, я плакал и кричал, что «вы с Кулишом оба сумасшедшие, если так», что Кулиш негодяй; Хохлов кричал, что Кулиш – честнейший человек, а я на него клевещу. Силантьев хотя поддерживал Хохлова, но очень сдержанно – видимо, сочувствовал мне.
Как я узнал потом от Иванова, разросшаяся сплетня о родстве с Хохловым обратила меня в незаконного сына бухгалтера, и это взбесило взбалмошного, но, по существу, доброго человека. Еще обиднее, быть может, казалось ему, что (по словам Кулиша) я называю его «рыжий дядька».
Я настаивал, и Кулиш был вызван. Произошла очная ставка. Кулиш нагло утверждал, что автор сплетни – я. Задыхаясь от негодования, я осыпал его справедливыми упреками и видел, что поколебал мнение Хохлова о себе, – однако, по предложению Хохлова, из бордингауза мне пришлось уйти. Я получил лишь разрешение хранить временно свои вещи в команде.
Переночевав в порту под балками эстакады, я утром пошел в больницу, где, осмотрев мои ноги, фельдшер положил меня в хирургическую палату. Здесь было немного больных – среди них несколько матросов – кто без руки, кто без ноги; были также страдальцы с вырезанной челюстью и больные раком. Несколько почти здоровых парней бродило по палате, гогоча, задирая друг друга и флиртуя с сиделками. Один из них, помягче и деликатнее прочих, оказался мой земляк, вятский крестьянин, он плавал матросом на «Петербурге» Добровольного флота, а теперь ожидал операции: надо было вырезать под мышкой жировой нарост. Его звали Федор. Широкое, курносое и рябое лицо Федора располагало к нему. Он относился ко мне хорошо и старательно защищал меня от больных, которые меня как новичка в больнице приняли было на штыки разных проделок. Из них одну я запомнил: ночью меня разбудил торжественно и грустно один такой «больной» и сказал шепотом, чтобы страшнее было:
– Подвинься, Гриневский, надо положить мертвого; сейчас принесут.
Я не был труслив, а мертвецов вообще не почитал причиной паники; кроме того, заподозрил мистификацию.
– Пусть несут, – заявил я. – Кладите, места хватит.
Раздалось тихое пение «Со святыми упокой, господеви», и из дверей показалась процессия: несколько человек несло завернутый в простыню «труп». Впереди, со свечкой в руке, шел, тщательно закрывая лицо, какой-то тип. «Труп» торжественно положили рядом со мной, и я почувствовал, что мертвец теплый, даже чуть шевелится.
– Вставай, довольно дурака валять! – закричал я. Тогда мертвец воспрял и начал скакать козлом, а затем вместе с другими он кинулся на меня; озорники перекатывали и щекотали меня, а я так рассердился, что стал бить кого и как попало, и Федор наконец прекратил это ночное безобразие, разбудившее труднобольных; «пикировка» долго звучала под потолком палаты.
В более ужасной больнице мне не приходилось лежать. Порядки городской одесской больницы были известны всем в городе. Больные сами мели, сами натирали пол; халаты – короткорукие, рваные и нечистые; колпаки не по головам; жесткие постели и лепешки-подушки, набитые слежавшейся соломой; грубые простыни и редкие изношенные одеяла; нечистоплотные, грубые служащие; хулиганство больных и произвол старшего врача, кричавшего на больных, выгонявшего, если не ели скверную пищу, – все это действовало угнетающе, особенно при воспоминании о прекрасной земской больнице в Вятке. Лекарства не стояли на столиках у кроватей, а просто в определенные часы коновал-фельдшер обходил палату со склянками в руках и каждого заставлял глотать, что полагалось по его списку. Явное воровство правило этим домом. Кто же поверит, что, собирая с пятисоттысячного населения – ну, допустим, хотя двести тысяч рублей больничного сбора (шестьдесят копеек в год с человека – обязательное постановление), нельзя было бы нас кормить иначе, чем арестантским супом и слегка тронутым постным маслом, вдобавок пересушенным при «жаренье» картофелем. Кто там у них получал молоко, яйца, кисель, манную кашу – я не знаю, может быть, и получал, как чудо, но мы были всегда голодны и всегда неспокойны.
Предположение операции, пугавшей меня, – отпало; как-никак перевязки, мытье ног, малое движение и лекарственные мази заживили дней через пятнадцать мои ноги; опухоль рассосалась, раны сузились и затянулись струпом; тогда я попросился на выписку, с облегчением покинув эту больницу.
VII
По выходе из больницы мне ничего другого не оставалось, как влачить голодное существование, подобно прочим париям порта, ночующим в ночлежных домах, где я теперь ютился и сам. Ночлежных домов было в Карантине два или три – не помню. Не разрешалось оставаться в ночлежке дольше восьми часов утра, поэтому приходилось идти мерзнуть на улицу. Наступила холодная солнечная осень, и, лишенный теплого платья, я часто заходил греться в «Обжорку», в трактиры. Работать на выгрузке я не мог – не хватало силы, а грузить уголь, то есть катать его в тачках, меня не брали, хотя я и выходил несколько раз к босяцкому наряду возле угольных складов.
Совершенно не могу припомнить, как я питался тогда; едва ли я даже «питался», я систематически голодал, изредка выпрашивая на пароходах кусок хлеба, изредка обедая с матросами. Для этого надо было в двенадцать часов дня стоять возле борта парохода, у бака; почти всегда, видя маячащего, вздыхая, бродягу, матросы кричали: «Иди, бери ложку!» – или отдавали остатки обеда. Раз я так обедал на «Платоне» среди старых знакомых; однажды латыш с парохода из Либавы позвал меня в кубрик, дал кофе с молоком, хлеба и сала, и я наелся досыта. Свои башмаки я променял на опорки, брался за собирание старого железа, продавая его по одной копейке за фунт, пытался «стрелять» у прохожих с весьма плачевными результатами, потому что, стыдясь, не был никогда убедителен в своих обращениях.
Так промучился я недели две, не оставляя, однако, попыток получить место, обходя всякие суда, даже презренные «дубки». Сидел я как-то на набережной в конце гавани, где стояло много этих «дубков», и смотрел, как грузят на «дубки» черепицу, соль, арбузы. Тут подошел ко мне старик шкипер, украинец, и спросил, не хочу ли я поступить на его судно «Святой Николай», которое послезавтра, если будет ветер, пойдет в Херсон. Конечно, я с радостью согласился. Жалованья на готовой пище дали мне – увы! – шесть рублей. Спорить не приходилось.
Я сбегал в бордингауз, притащил свою полупустую корзину с вещами и сунул ее в кубрик под треугольник нар. Кубрик – вернее, сырое, полутемное гнездо – отсек бака, с малой дырой под бугшпритом, пропускавшей свет сквозь стекло, как в подвал.
Весь день я помогал шкиперу и его сыну, молодому хохлу с черной бородкой, грузить черепицу, а вечером был приглашен хозяевами пить чай. Мы отправились в ближайший трактир с органом. Старик купил баранок, сала, забрал мой паспорт и выдал мне один рубль задатка. Теперь я назвал бы это авансом, но остерегусь – чтобы не получить случайно где-нибудь этот рубль – только один рубль.
Старик и его сын были одеты тепло – в новые овчинные бушлаты сырой кожи, высокие сапоги, смушковые шапки, простеганные ватные жилеты и бумазейные рубахи.
На другой день снова грузили черепицу. Промерзнув ночью в кубрике – хотя свалил на себя все, какие нашел, обрывки брезента и мешки, – я бегал проворно, что ящерица; день был теплый; я даже вспотел. Мы (я и два грузчика) загрузили до верха трюм и уложили остаток черепицы на палубе так высоко и универсально, что она (черепица) загромождала палубу до края бортов, и негде было ступать, кроме как ходя по черепице.
Хозяева жили на корме в каюте с плоской крышей, где было тесно и грязно. Румпель ходил над крышей, где, то есть ходя по крыше и ворочая румпель, по очереди вахтили отец и сын. Середину палубы занимала маленькая кухня с железной печкой. Бочка с пресной водой стояла у каюты; в каюте хранилась провизия – бочонок солонины, крепкие, с дырочками, галеты, сало и хлеб. Чай пили кирпичный, из большого чайника.
Я исполнял обязанности матроса и повара. Хорошо еще, что украинцы на завтрак не ели горячего. Они ели много; я готовил им с утра на весь день (топил дровами) котел борща с серыми макаронами, с салом, иногда жарил солонину. Лук и картофель были. Затем я на ужин разогревал эту гастрономию.
Я зажигал фонари: зеленый – с правого борта, красный – с левого; зажигал мачтовый фонарь, стряпал, кипятил чай, колол дрова, вахтил на баке и почти не спал, а когда спал, то дрожал от стужи. Хозяева помыкали мной как собакой; ругали, издевались над неповоротливостью. Естественно, что, шагая по черепице, иногда раздавишь одну-две, – но нет, сын кричал: «Босявка, це будут твои ридные», то есть он вычтет двенадцать копеек за каждую черепицу из жалованья.
На завтрак, обед и ужин (хозяева стояли у руля поочередно, по четыре часа каждый) мне говорили, какой части, какого румба держаться по компасу, и я минут пятнадцать-тридцать заменял рулевого.
Сын был хуже – ехиднее, жесточе отца.
Я почти не спал. Ночью выдавалось несколько часов сна, однако спать на голой доске с черепицей под головой, укрываясь брезентом, – дело плохое. Подозреваю, что был простужен несколько дней. Резкая полуштормовая погода, очень холодная, развела такие валы, что «Святой Николай» не раз касался бугшпритом волн. Поплескивало и на палубу. Все же рейс прошел благополучно, и на рассвете шестого дня плавания «Святой Николай» плыл уже в низовьях Днепра – в днепровских гирлах. Это был мир камышовых островов с лазурно-стального цвета протоками, вскоре залившимися алым светом низкого солнца.
Все стало розовым – заря, камыши, вода; нигде я не видел берега, а если видел, то не узнавал его, принимая за острова. В этом дремуче-зеленом, ярко пылающем зарей мире зеленые отражения под водой, отражения встречных парусов, золото с вином солнца и торжественная белизна свивающихся из туманов озаренных облаков – сверкали, как изображение полного счастья рукой природы, и теми средствами, какие даны ей.
По гирлам мы плыли долго, при слабом ветре, и после двенадцати дня бросили якорь у Херсона, у набережной.
Я заявил «сыну», что служить такую собачью службу за шесть рублей больше не буду, и потребовал расчет. Хозяева с руганью подсчитали «мои ридные» черепицы – по их счету получилось, что я раздавил товару на рубль двадцать копеек; один рубль взял задатка; служил десять дней; выходит, что не они мне, а я должен им двадцать копеек.
Забрав свою корзинку, я пошел в рыночную чайную, вблизи берега, напился за последний гривенник чаю, отправился к портовому городовому и заявил ему, что хозяин не хочет уплатить деньги.
Совет городового, а также слушавших это объяснение бывалых людей был таков: надо идти в «Водяную муникацию» (коммуникацию?). С помощью прохожих я разыскал требуемое учреждение; там меня выслушали и велели прийти со шкипером, чтобы разобрать это дело.
Я возразил, что шкипер, конечно, не пойдет добровольно. Чины развели руками, пожали плечами. Возвратясь к «дубку», я начал звать идти со мной и «сына» и «отца»; в ответ, естественно, выслушал одну брань, а городовой, к которому я обратился за помощью, ограничился новым советом: подать в суд.
Дело кончилось ничем; я устал, плюнул и засел в чайной, где было тепло. Стоял мороз, градуса четыре-пять, без снега, при ярком солнце. За длинными столами чайной бабы и мужики аппетитно пожирали накрошенные в большие белые чашки (полоскательные) помидоры с луком, облитые постным маслом, уксусом, посыпанные перцем.
Было шумно, тесно. Иногда оставались недоеденные куски хлеба, и я подбирал их. Однажды, видя это, сердобольные женщины наспех состряпали мне такой же «рататуй» из помидоров, отрезали полхлеба и надавали копеек пятнадцать медью. Смысл их восклицаний сводился к скорби о том, что такой молоденький, жалостный матросик клацает зубами от стужи и голода.
Буфетчик согласился хранить мою корзинку, и под вечер я отправился в ночлежный дом, а утром сел без билета на небольшой колесный пароход «Одесса», шедший в Одессу. Буквально замерзая в полотняной блузе своей с синим воротником, весь путь я простоял, сунув плечи и голову в окно кухни, дыша банным теплом и съестными запахами. Никто не бранил меня за безбилетность, наоборот, я встретил даже сочувствие, а повар, который, как мне казалось, с раздражением относился к моему торчанию в окне, наподобие поясного портрета, – после захода солнца влил в жестяной бак полведра борща, бросил туда фунта три вареного мяса, дал целую булку, ложку, и я, скромно выражаясь на деликатном наречии южан, – «покушал». Я все съел; меня от еды ударило в пот.
Пароход пришел к молу поздно вечером. Не зная, куда девать корзинку, я упросил стрелочника поставить ее в его будку и переночевал в соломе за конторкой Российского общества транспортов, между ящиками и досками. Мне удалось не замеченным сторожами вползти под край брезента, покрывающего товар, так что я защитился от ветра, но почти не спал, все тело ныло и стонало от холода.
Утром я был близок к отчаянию. Я отправился, забыв о всяком самолюбии, в контору к Силантьеву, и тот отнесся ко мне очень тепло, при хмуром ворчанье – может быть, тоже тронутого моим положением – Хохлова, который сказал: «Я умываю руки; возитесь с ним, если вам нравится».
Силантьев дал мне свой адрес и, наказав прийти в шесть часов вечера, ничего больше не объяснил и сунул полтинник.
VIII
Дождавшись вечера, я позвонил у черной двери второго этажа на незапомненной улице. Меня встретила худенькая приветливая женщина лет тридцати пяти, с помятым маленьким лицом и украинским акцентом, – жена бухгалтера; провела меня на кухню, где были приготовлены чугуны с кипятком, таз, мыло, полотенце, белье и поношенный, но приличный костюм (темный), рубашка (синяя) была с мягким отложным воротничком, а к ней модный тогда галстук-шнурок. У плиты стояли шевровые ботинки.
Волнуясь, радуясь и стыдясь, я кое-как вымылся, затем оделся, а свои тряпки завернул в газету.
Хозяйка позвала меня выпить чаю. Скоро должен был прийти Силантьев. В маленькой столовой за столом, сидя против белого самовара, вкушая сладкий чай, я разомлел – устал от сытости, тепла и внимания.
Вскоре пришел Силантьев, с довольным видом посматривая на меня, – видимо, тронутый сам событием, которого был он автор.
Хотя разговор не клеился, но был тепл, полон моих благодарностей и наставлений мне – беречь вещи, для чего Силантьев советовал мне идти не в ночлежный дом, где много воров, а просидеть ночь в ночном трактире.
Прощаясь, Силантьев доделал последний штрих: снял с вешалки шелковое кашне и надел мне на шею.
Я вышел; дул ледяной ветер, и я, хотя был в пальто, однако промерз, пока прибежал в трактир на Карантине.
Как жена Силантьева подарила мне двадцать копеек, то я заказал чаю, купил папирос и провел бессонную ночь, страшно устав.
Тут я был свидетелем игры в карты. Вначале за столом играли четверо каких-то бродяг – скорее портовых рабочих; затем один ушел; из оставшихся трех – двое играли особенно азартно.
Проиграв последний гривенник, «А» срывал с себя тельник, ругался в гроб и печенку и бросал вещь на стол; «Б» поспешно оценивал ее, выигрывал и тем же путем отнимал у «А» брюки, подштанники, шапку, башмаки и складной нож. После того, достаточно осмотрев телосложение «А», фортуна свидетельствовала «Б»; «А» постепенно одевался, радостно урча про гроб и печень, а «Б» постепенно раздевался, горестно рыча «в гробовое рыдание» и «могильную плиту».
Выигранные вещи они прятали под себя – садились на них.
За этими наблюдениями кое-как прошла ночь, а на рассвете я отправился искать угловую квартиру.
На углу Почтовой и Карантинной я заметил объявление: «Сдаеца койка» – и зашел в третий, во дворе, этаж.
К моему удовольствию, я встретил там своего будущего сожителя – кочегара Иванова; недавно покинув бордингауз, он работал теперь в литографии, получал двадцать рублей помесячно.
Квартира состояла из двух комнат и кухни; наша комната была проходной.
У стен стояли – одна напротив другой – две койки; вторая пустовала, а стоила она два рубля в месяц.
У хозяйки – прачки, разбитной тридцатилетней хохлушки с рябинами вокруг носа, – был одиннадцатилетний сын.
К хозяйке под воскресенье и другие праздники приходил ночевать на две ночи ее любовник, электротехник городского театра.
Мы сговорились, и я отправился к Силантьеву. Он познакомил меня с заведующим складами, плотным, хорошо одетым человеком в каракулевой шапке, – Мисенко; тот сказал: «Хочешь работать маркировщиком? Тогда приходи с полдня, после обеда».
Так я начал работать в складах, получая рубль десять копеек в день, а если работы не было на полдня или меньше – то шестьдесят копеек.
Надо упомянуть, что, забрав у стрелочника свою корзинку, я обнаружил пропажу моей драгоценности – китайской чашки. Правда, корзина была без замка, лишь завязана, но отрицать вину мог только такой прохвост, как этот стрелочник. Я долго стыдил его, а он утверждал, что ничего не знает о чашке.
Работать приходилось, к сожалению, не каждый день. Зимой пароходы часто задерживались или приходили с таким грузом, при каком маркировщику делать было нечего. Например, коринка: мешки с коринкой приходили без марки.
«Марка» есть условное обозначение литерами груза по принадлежности его тому или иному получателю. Каждая марка груза – мешки, ящики, тюки – складывалась в пакгауз отдельно, чтобы не спутались товары.
Я стоял у входа в пакгауз и смотрел марки на ноше, тащимой грузчиками. Груз лежал у них на спине. В зависимости от марки, я кричал рабочим: «Прямо к стене! К стене налево! В угол направо! Посредине!» и т. д.
Эта работа требовала полного внимания, потому что носильщики вбегали с ношей через три-пять секунд и марки иногда были похожи.
Здесь я также подвергался насмешкам босяков: вначале за свой вид «интеллигента», затем потому, что препятствовал мелким кражам из дыр мешков или разбитых ящиков. Меня дразнили «попович», «поповская шляпа», «фараон», «фискал», хотя я никому не доносил о проделках грузчиков, а, наоборот, видя, что таскают все – и грузчики, и бондари, и таможенные, – сам начал носить домой апельсины, фисташки, лимоны, миндаль, коринку; однажды унес даже кусок краски – индиго, фунта два.
Артель бондарей, на обязанности которых лежала починка разбившихся ящиков, зашивка дыр в мешках и т. п., часто не упускала случая сунуть за нагрудник своих белых передников горсть миндаля, или точенных из черного дерева четок, или пригоршню кофе. Таможенные или смотрели сквозь пальцы, или шептали: «Ребята, осторожнее»; выбрав момент, они сами брали что-нибудь для хозяйства.
Вероятно, поэтому я и не помню случая, чтобы таможенный у ворот при выходе грузчиков на обед или после конца задержал хоть одного похитителя с явно оттопыренными карманами или полами их «польт» (как иначе назвать верхнее тряпье босяков?).
Грузчик, уличенный в краже, изгонялся Мисенко, и его больше на работу не брали – по крайней мере, пока не забывалось это деяние.
Я любил пряный запах пакгауза, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Все пахло: ваниль, финики, кофе, чай; в соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неописуемо хорошо было дышать здесь, особенно если грело солнце.
Я иногда ходил обедать домой, тратя из полуторачасового отдыха почти час на ходьбу и еду (хлеб, сало или колбаса с вареной картошкой… м-м-м… ну, апельсины, случалось), а большей частью проводил это время в бордингаузе или в здании таможни. Чай я тогда пил мало, и крайне редко – водку.
К вечеру, совсем закоченев (зима стояла холодная), я становился в ряд с грузчиками, а Мисенко, проходя наш строй, вручал из мешка – рубль и гривенник.
Ранней весной мне удалось совершить рейс в Александрию на пароходе Р. О. П. и Т. матросом, но по недостатку времени я должен отложить эту в своем роде интересную историю до печатания всей книги. Скажу лишь, что уволили меня за сопротивление учебной шлюпочной гребле: этому бессмысленному занятию предал нас капитан «Цесаревича», пленившийся артистической работой веслами английских моряков.
Дело произошло в Смирне, на обратном из Александрии пути. В наказание (а я публично высмеивал потуги капитана и однажды бросил даже весла) меня сняли с работы, и я окончил путь пассажиром, ничего не делая.
На мне осталась хорошая одежда, полный комплект тельников, голландок, две «фланельки», двое брюк – белые и черные. Некоторое время я жил продажей этих вещей, потом работал на погрузке угля; часто, не имея пристанища, ночевал в порту.
Все было уже продано мной – даже моя корзинка, даже краски, которыми хотел я рисовать на берегах Ганга цветы джунглей.
Я сохранил лишь на своем теле голландку с синим воротником, тельник, черные брюки и фуражку с лентой, имевшей надпись золотыми буквами: «Цесаревич».
В начале июля меня потянуло домой. Я получил разрешение капитана одного угольного парохода ехать на нем «за работу» до Ростова-на-Дону. Из Ростова я, также за работу, проехал до Калача-на-Дону; из Калача проехал шестьдесят верст по железной дороге в Царицын, а из Царицына плыл в Казань то «зайцем», то с разрешения; в общем, пересаживался раза три.
В Казани молодой капитан вятского парохода «Булычов» взял меня проехать бесплатно до Вятки и, кроме того, угостил меня в своей каюте прекрасным ужином. По его распоряжению я в дальнейшем ел с матросами.
Из-за перекатов пароход остановился там же, как когда я отправлялся в Одессу, – двести верст от Вятки. Эти двести верст я шел неделю пешком по жидкой грязи: лил беспрерывный дождь, подсекаемый студеным ветром.
Утром, на восьмой день этого шествия, засияло солнце, и стало почти жарко. Вдали уже виднелся голубой купол собора. Я выстирал свою голландку в ручье, почистил башмаки, обсох, умылся, вычистил брюки и к первому часу дня шел уже по деревянным тротуарам города, обращая на себя внимание прохожих.
– Где же твой багаж? – спросил отец после первого радостного напряжения и любопытства встречи.
Как я уже солгал ему, что проехал двести верст на почтовых лошадях, то, естественно, прилгнул и еще:
– Мой багаж остался на почтовой станции… Знаешь… Понимаешь… Не было извозчика.
Отец, жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал; а через день, когда выяснилось, что никакого багажа нет, спросил (и от него пахло водкой):
– Зачем ты врешь? Ты шел пешком? Где твои вещи? Ты изолгался!
Очень многое мог бы я возразить ему, если бы умел: и ложное самолюбие – эту болезнь маленького города, и нежелание мириться с действительностью, и, наконец, желание пощадить, хотя бы в первый день, отцовское чувство.
Вскоре, однако, отец, что-то продумав, повеселел и начал водить меня в гости – показывать сына-моряка.
Тогда я еще не считал конченой свою морскую жизнь, а потому сам ободрился и с увлечением рассказывал о шторме под Порт-Саидом и тому подобное, тщательно обходя все унизительное, что пришлось вынести за этот год самостоятельной жизни.



