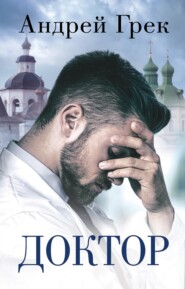скачать книгу бесплатно
Доктор
Андрей Грек
Писатель Андрей Грек (А.Ю. Убогий) – хирург-уролог в Калужской городской больнице скорой помощи. Член Союза писателей России с 1993 года. Прозаик, эссеист, литературовед. Лауреат всероссийских и областных литературных премий, в том числе премии имени Леонида Леонова (2002 г.), имени Вадима Кожинова (2003г.), имени братьев Киреевских (2006 г.) и др. Награжден Орденом Гиппократа за преданность и верность клятве Гиппократа, долголетний добросовестный труд в системе здравоохранения и высокий профессионализм.
Роман «Доктор» недавно вышел в Италии в издательстве «Культура, наука, искусство» и бурно обсуждается среди читателей. Подобного сюжета в отечественной литературе еще не было.
В монастыре умирает пожилой истопник. Монах, обнаруживший тело, находит и четыре тетради, в которых, как оказалось, покойный описал свою необыкновенную историю.
Некогда успешный хирург Днепров думать не думал, как круто может вдруг измениться его налаженная жизнь – доктор становится инвалидом, обузой для близких, почти что изгоем. Он начинает жизнь железнодорожного нищего, кормящегося подаянием и ночующего, где придётся. Но злодейке-судьбе мало и этого: после скитаний по поездам и вокзалам герой оказывается на свалке. Но, видимо, испытания, выпавшие на долю доктора Днепрова, были не случайны и не напрасны, поскольку, несмотря на болезнь, на невзгоды, на одряхление тела дух его остаётся светел и чист, а милосердие, понимание ценности человеческой жизни и преданность профессии вызывают истинное восхищение.
Содержит нецензурную лексику
Андрей Грек
Доктор
I
«Отчего же так холодно? – О. Яков, дрожа, посмотрел в темноту за окном кельи. – Может быть, что-то случилось в котельной?» Поток неотвязных забот одолевал его с тех самых пор, как о. Якова, молодого еще человека, назначили замещать игумена монастыря – о. Нил долго и тяжко болел – и даже утром, в час ранних келейных молитв, не отогнать было мысли о кухне, о прачечной или о том, где достать денег рабочим, ведущим ремонт лазарета.
Озябшие руки монаха ощупали ребра остывшей, сырой батареи. Тоска и тревога вдруг так усилились, что даже заныло в груди.
– О господи… – вздохнул о. Яков и перекрестился.
В такие минуты, он знал, помогала молитва. Но, когда о. Яков подлил масла в лампаду – огонёк ее вытянулся, озарив скорбный лик Богородицы – вновь осенился крестом и начал привычною шепчущей скороговоркой: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…» – как в дверь постучали.
– Кто там? – раздражённо спросил о. Яков, и сам не узнал свой пустой, сиплый голос.
– Молитв ради… отцов наших… и всех святых… – забормотал кто-то за дверью. – Отец Яков, откройте!
Это был суетливый Василий, послушник, который всегда самым первым узнавал монастырские новости. Его бабье лицо выражало испуг: глаза бегали, губы дрожали от нетерпения доложить о случившемся.
– …Холодно, спать не могу, – торопливо рассказывал он. – Дай-ка, думаю, добегу до котельной: вдруг там что случилось? И с фонариком, стал-быть – туда…
– Ну, и что там?
– А там, отец Яков, страх Божий – там мёртвое тело лежит!
– Что за тело? – О. Яков вздрогнул, и оба – монах и послушник – перекрестились.
– А это Григорий, наш истопник, ну, тот, что с весны при котельной живёт. И он-то, сердешный, холодный уже – и котлы уже все поостыли…
Поспешно надев телогрейку, скуфью, монах вышел вслед за Василием. На дворе ему показалось даже теплее, чем было в каменной келье. Поначалу в глазах зарябило от звёзд, но потом, опустив взгляд долу, о. Яков различил свет фонаря на глыбистой, мёрзлой земле под ногами.
– Осторожнее, отец Яков, – бормотал задыхавшийся, тучный Василий. – Ступайте за мною, вот прямо по пятнышку света…
Он причитал на ходу, продолжая заботливо двигать перед о. Яковом пятно фонарного света. В это пятно попадали сухие травины, комки индевелой земли, отпечатки рубчатых подошв и суконный подол его, о. Якова, рясы. Всё это было настолько отчётливым, резким, что сама беспощадно-нагая отчётливость, как бы враждебность, предметов, встречавшихся им на пути – обостряла в душе о. Якова чувство тревоги.
Пока они медленно, словно бы крадучись, шли через ночь, монах вспоминал человека, что жил при котельной. Да, он попросился в истопники как раз на Страстной. Монастырь задыхался тогда от нехватки рабочих, на кухне и прачечной мучились без горячей воды, и о. Яков был рад любому помощнику. Григорий – так он назвался – не просил ни жилья, ни, тем более, платы, сказав, что поселится прямо в котельной. Документов с ним, правда, не было никаких, но какой же бродяга имеет с собой документы? Еще он сказал, что раньше был доктором, что болен тяжёлой болезнью – так, что и помирать ему, скорее всего, придётся в монастыре. «Что ж, на всё воля Божья», – ответил тогда о. Яков. Почему-то он верил всему, что ему говорил измождённый, с седой бородой, незнакомец. То ли скорбный, светящийся взгляд его глаз, то ли нервные длиннопалые руки, чуть не по локти торчавшие из рукавов телогрейки, но что-то в Григории было такое, что его отличало от прочих бродяг, попрошаек, юродивых, отиравшихся около монастыря. Потом о. Яков несколько раз собирался наведаться к истопнику, поговорить с ним пообстоятельней, не торопясь, но, как водится, не было времени. К тому же, котельная заработала без перебоев, и о. Яков всё реже вспоминал и о ней, и о новом истопнике. «Теперь-то не поговоришь, – вздыхал о. Яков. – Теперь никогда не узнаешь: что это был за человек, и как Бог привёл его в монастырь?» К чувствам тоски и тревоги, что переполняли его, прибавилось чувство досады, стыда, и еще страх собственной смерти – которая, не дай бог, будет столь же внезапной, как смерть того человека, на последнюю встречу с которым они теперь шли.
Луч фонаря скользнул по угольной куче, затем вспрыгнул на невысокую дверцу, нашарил скобу замка, ручку – и о. Яков с Василием, пригибаясь, вошли в кочегарку.
Тело лежало у топки, раскинувшись навзничь по крошеву угля. Едва ощутимым теплом еще веяло от распахнутой топочной дверцы, поэтому, может быть, и о. Яков подумал: «А вдруг он еще жив?»
Но ледяная щека, до которой монах осторожно дотронулся, не оставляла сомнений: покойник.
– Не суетись, наведи свет на лицо, – задержал о. Яков дрожащую руку послушника с прыгавшим в ней фонарём. – Или дай-ка, я лучше сам посвечу.
Поражала значительность мёртвого лика. Черты его были искажены: одной половиною губ мёртвый как бы улыбался, а другой угол рта был скорбно опущен. «Инсульт, – догадался монах. – Моя мать умирала с таким же вот перекошенным ртом».
Всё в лице мёртвого было крупным, породистым: уши, нос, складки грубых морщин и седая, по грудь, борода. Залысины делали очень высоким, внушительным лоб. Глаза были полуприкрыты – казалось, что мёртвый доселе сурово следит за живыми.
– Непростой, видать, был человек, – зашептал Василий. – Вон какие глазищи! А лоб? Я таких лбов и не видывал…
И он снова поспешно перекрестился – как зачарованный, не сводя глаз с мёртвого. О. Яков поводил пятном света вокруг, освещая котельную. Колена изогнутых, сдвоенных труб и их черные тени так сложно смещались, накладываясь друг на друга – словно переплетённые змеи зашевелились во мраке. На одной из остывших труб уже мерцал иней.
В углу помещалась постель: на трёх деревянных составленных ящиках лежала куча тряпья, а изголовьем служил серый дерюжный мешок, чем-то туго набитый. Рядом был стол: тоже ящик, стоявший на четырёх кирпичах и покрытый истёртой клеёнкой. Из стакана, залитого стеарином, торчал огарок свечи. На столе о. Яков увидел четыре истрёпанных толстых тетради, одна из которых была раскрыта. Нагнувшись над нею и подсветив фонарём, монах полистал исписанные страницы. Почерк был крупным, размашистым: даже по беглому взгляду, и то было видно, какой быстрой рукою всё это писалось.
«Что это? – удивился о. Яков. – Похоже на исповедь или дневник… Если так – надо взять почитать».
– Вот что, – сказал он Василию, напряжённо дышавшему рядом. – Ступай к привратнику и сообщи с его телефона в милицию. И поскорее: вот-вот зазвонят к заутрене.
– Ох, батюшки, я и забыл: нынче ж праздник! Отец Яков, вы уж простите меня: я вам всё утро испортил.
– Да ты-то, Василий, при чём? Ладно-ладно, ступай. И фонарь забери: я и так добреду.
Когда о. Яков, забрав тетради, вышел снова во двор – там уже посветлело. Звезды сделались мельче, а на краю небосвода обозначились кроны деревьев и башни их древнего монастыря – те, что помнили еще Смутное время.
Не успел о. Яков пройти двух десятков шагов, как с колокольни Введенского храма донёсся гудящий чугунный удар. Сердце монаха забилось поспешно и радостно – в такт переливчатых, бодрых трезвонов, сопровождавших гул главного колокола. Благовест ширился, рос. О. Яков чувствовал, как его словно приподнимает, волна за волной, колокольный размеренный звон: с каждым гулким, могучим ударом из души уносило тоску, раздражение, страх – и он, о. Яков, становился как будто крупнее и чище.
Менялся и мир, что лежал в зябкой утренней мгле. Недавно пустой и потерянный, весь какой-то чужой сам себе – он наполнялся, удар за ударом, энергией жизни. Упорно и радостно бившие колокола словно выковывали новый, уверенный день – из тревожных, сомнительных сумерек утра.
II
О. Яков даже не представлял, как ему будет трудно в монастыре. Он был человеком любви – или гнева; а монастырский быт, весь этот сложный людской, непрерывно бурлящий, котёл для любви оставлял места мало – зато ежедневно поддерживал гнев, раздражение и недоверие к людям.
Расположенный на том самом «сто первом километре», куда столица выбрасывала отсидевших по тюрьмам людей, монастырь до сих пор подвергался нашествию освободившихся уголовников. Донимала и «чистая» публика. Паломники и экскурсанты, больные и новобрачные, окрестные жители и бизнесмены, у которых не ладилась личная или торговая жизнь – все стремились в старинную эту обитель. Казалось, что люди везут свои беды, грехи со всех концов света – и что стены монастыря, несмотря на могучую их толщину, вот-вот не выдержат напор бесконечных грехов и несчастий. Почти ежедневно случались скандалы и кражи, из гостиницы для паломников то и дело выносили пустые бутылки и даже шприцы (наркоманы тоже нередко наведывались сюда), и о. Яков большую часть своих сил и времени тратил на то, чтоб поддерживать хоть какой-то порядок. «Словно это и не монастырь, – вздыхал он, крестясь, в час вечерних молитв, – а, прости господи, вшивый рынок какой-то…»
Побыть с самим собою наедине, разобраться в своих мыслях и чувствах не оставалось ни сил, и ни времени. Порою казалось: он вовсе и не живёт здесь, в монастыре, а видит мелькающий, путаный сон. И как часто бывает во сне, всего тягостней было чувство бессилия, невозможность что-либо исправить в том хаосе, в котором он вдруг оказался.
Время, когда он служил в храме, было для о. Якова лучшим временем дня. Покой самозабвения опускался тогда на него: то блаженное состояние, когда тебя самого, со всеми тревогами и бытовыми заботами уже как бы и нет, а есть гулкий храм, весь наполненный блеском подсвечников, ламп и окладов, полный клубящимся ладанным дымом, есть густой бас диакона, от которого даже колышется пламя ближайших свечей, и есть множество ликов, внимательно-скорбно следящих с икон за неспешным течением службы. Литургия была как река – и о. Яков плыл в ней, забывая себя. Что делать и что говорить, когда выходить на амвон, а когда возвращаться в алтарь, он не думал: все совершалось само по себе, словно и не о. Яков вёл службу, а, напротив, сама литургия, сам ее древний порядок и чин направляли и руки, и речи иеромонаха. О. Яков был только малою частью чего-то огромного, древнего – и вот именно эта причастность старинному таинству службы наполняла о. Якова самозабвенным, блаженным покоем.
Он бы хотел, чтобы служба совсем не кончалась, чтобы густые басы монастырского хора всегда продолжали гудеть под высокими сводами храма, чтобы вечно был слышен треск тонких свечей, и мерцал бы их свет, так волшебно умноженный позолотой иконных окладов, чтобы лился и лился тот сложный, таинственный, древний поток литургии, в котором так радостно плыть…
И четыре, и пять часов долгой службы порой пролетали, как один миг, а потом, когда служба кончалась, и о. Яков, сняв облачение, выходил на крыльцо опустевшего храма, он не сразу осознавал, где же он оказался. Озираясь, он думал: зачем этот двор, эти люди, снующие мимо с озабоченным выражением лиц, к чему эти груды красного кирпича и штабеля сырых досок – и чего, например, хочет вот эта растрёпанная старуха, вдруг повалившаяся перед ним на колени?
– Встань, матушка, встань, – растерянно бормотал о. Яков, поднимая рыдающую старуху. – Не меня проси, Бога проси…
Он что-то делал, ходил, говорил, но в душе его долго еще сохранялось недоумение перед этим назойливым, суетным миром, который был так непохож на высокий, торжественный мир литургии и храма, но в котором ему, о. Якову, опять надо было трудиться и жить.
Иногда было чувство, что он погружается в чан с нечистотами: настолько был резок контраст между чистым, восторженным настроением храмовой службы – и той мелко-суетной жизнью, что мутно кипела вокруг.
Вот и сегодня: едва он, отслужив, пришёл к себе в келью, за ним прибежали из кухни.
– Отец Яков, идёмте скорей, там опять безобразят!
– Что такое?
– Двое урок напились за трапезой, а теперь требуют, чтобы их поселили в гостиницу.
Когда о. Яков, катающий желваки по напрягшимся скулам, быстро вошёл в трапезную – пьяных там уже не было.
– Где они?
– Только что вышли, отец Яков, – ответил послушник, гремевший посудой. – Покурить им, видите ли, захотелось…
Те двое, одетые, как попугаи, в цветастые куртки, стояли, пошатываясь и сыто икая, на ступенях Введенского храма – и оба курили. Вытатуированные перстни синели на их пальцах вперемежку с литыми печатками, рты сверкали золотом фикс, а на оголившейся, потной груди одного синело не меньше десятка церковных куполов: по одному на каждый год отсидки. Вот этот-то, с куполами на жирной груди, был особенно мерзок: лысый, огромного роста, с лицом, перечёркнутым шрамом. Он посмотрел на подошедшего о. Якова хмельным и насмешливым взглядом.
– Ты, батя, не бзди, – гигант положил на плечо о. Якову руку. – Мы еще по бутылочке скушаем, да пойдём себе баиньки. Есть у вас тут номера поприличнее?
Монах, резко дёрнув плечом, сбросил тяжёлую руку. Пьяный гигант помрачнел.
– Что это здесь какие-то нервные все? – спросил он худого, курившего рядом, напарника. – Что шестёрки на кухне, что этот монашек… Я так не люблю: я люблю, чтоб со мной по-хорошему!
И он, пожевав сигарету, с досадою сплюнул: комок жёлтой слюны шлёпнулся на ступень храма.
Никто не успел понять, что случилось: через мгновение жирный гигант лежал на спине, его ноги дёргались, а изо рта текла кровь. О. Яков и сам с недоумением, как на что-то чужое, посмотрел на свой собственный, в кровь разбитый, кулак.
Второй уголовник куда-то исчез, а вокруг о. Якова и поверженного гиганта засуетились люди.
– Оттащите его за ворота, – пряча разбитый кулак в подол рясы, приказал о. Яков послушникам. – Пусть там полежит, пока не очухается. И помойте ступени…
Его всё сильнее знобило: как будто вся ярость и всё напряжение краткого боя достигли своей высшей силы вот только сейчас, когда всё было кончено. От высокого, чистого настроения службы не осталось следа. С окаменевшим и серым лицом о. Яков пошёл к себе в келью, стараясь ни на кого не смотреть. «Что ж за люди-то, господи? – думал он. – Да и сам-то хорош: распустил кулаки, как мальчишка в уличной драке… Завтра к настоятелю надо пойти исповедаться, чтобы он епитимию наложил, а то служить нельзя будет…»
До самого вечера мучился он отвращением к людям и к себе самому: он был словно отравлен всем тем, что случилось сегодня. «Похоже, я болен…» – вздыхал о. Яков. На глаза вдруг попались тетради, которые он еще утром принёс из котельной. «Что это? Ах, да: записки покойного истопника…»
И он раскрыл верхнюю из лежавших на подоконнике четырёх тетрадей. Первое, что поразило его, и чего не заметил он раньше – это то, как разгонистый почерк Григория был похож на его собственный. «Надо же, – удивился монах. – Словно я сам всё это и написал…» Почерк был неразборчив, но о. Яков легко разбирал строчку за строчкой, как будто читал своё собственное письмо.
Чтение всё сильнее его увлекало. Он пододвинул поближе настольную лампу и сел поудобнее. Было чувство, что кто-то находится с ним, о. Яковом, в келье, вместе с ним перелистывает тетрадь, и это незримое чьё-то присутствие утешало монаха, уставшего от одиночества.
III
«…Счастье мать, счастье мачеха, счастье бешеный волк…» Так говорила покойная бабка, Матрёна Ивановна – и мне почему-то всё чаще теперь вспоминаются эти слова. В них вроде нет очевидного смысла, но всё же сквозит смысл иной, тот, который не так просто выразить мыслью и словом.
Так вот и эти записки, которые я, для себя неожиданно, взялся писать. Очевидного смысла в них вроде и нет – кому нужно знать, как жил бомж, пусть даже бывший хирург? – но мне самому перед смертью, уже недалёкой, хочется снова увидеть свою миновавшую жизнь. Увидеть не в том хаотически-путаном виде, в каком ее воскрешают капризные и непослушные воспоминания – а увидеть изложенной более или менее связно. Ведь нам, людям, нужно не просто прожить свою жизнь от рожденья до смерти, но нужно еще и осмыслить ее: нам нужно сознанье того, что пройдённый нами путь был не случаен и не напрасен.
И чувствую, надо спешить. Провалы беспамятства, те, что случались и раньше, всё учащаются, и мне всё трудней отнимать у забвения то, что оно поглощает так жадно и вместе с тем так равнодушно. Пока лето, пока ночи теплы, и работа в котельной не слишком обременяет меня – постараюсь усердно, как и подобает монастырскому труднику, писать свою летопись.
Если бы кто-нибудь из моих прежних знакомых повстречался со мною сейчас – он бы ни за что меня не узнал. Теперь я похож на скелет, обтянутый жёлтой кожей, с седой бородой и трясущимися руками: не человек, а выходец с того света. А всего год назад я был доктором, человеком довольно известным в том городе, где я жил – и, уж конечно, мой облик тогда был другим. Я был осанистый, крупный мужик с животом и двумя подбородками, лицо моё было всегда чисто выбрито и благоухало хорошим одеколоном, белый халат всегда был отглажен – сама внешность моя излучала уверенность, бодрость, желание жить. «На вас, Григорий Александрович, только посмотришь – так сразу и сил прибавляется», – бывало, говорили мне пациенты.
Двадцать пять лет – полный рекрутский срок – я отработал хирургом. К сорока стал заведующим отделением, оперировал много и с удовольствием – в общем, вёл жизнь успешного доктора, на которого молодые медсестры смотрели влюблённо, а молодые коллеги – ребята, как правило, самолюбиво-ревнивые – тем не менее, всегда признавали за лидера и за неплохого врача.
И вот что интересно: те двадцать пять лет, что я отработал в больнице, сейчас вспоминаются, как один, всего-навсего, день. Как будто я утром, совсем молодым человеком, вошёл в хирургический корпус больницы, провёл долгий день в палатах, перевязочных и операционных – а вечером, уже в сумерках, с больничного крыльца утомлённо спустился пожилой доктор Днепров. Конечно, так промелькнуть может только счастливая жизнь: только самозабвенье живой, интересной работы позволяет не замечать даже время.
Больница притягивала, словно магнит. Случалось, гуляя с семьёй в воскресенье по городу, я испытывал неодолимую тягу зайти в отделение и проведать больных – хоть в этом и не было никакой неотложной нужды. И я говорил жене Вале и сыну Серёже:
– Возвращайтесь домой без меня, а я забегу на работу.
– Сто, дуса неспокойна? – спрашивал, шепелявя, мой маленький сын, повторявший мои же собственные слова.
– Неспокойна, Серёженька, – смеясь, отвечал я ему. – Вот вырастешь, станешь врачом, тоже будешь в свои выходные наведываться в больницу.
– Нет, врачом тогда быть не хочу, – отвечал мой сынок, рассудительный не по годам. – Я хочу лучше на самолёте летать!
И по утрам, когда шёл на работу, я всегда чувствовал притяженье больницы. Уж, казалось бы: что хорошего ждёт меня там, где скопилось такое количество боли и горя, где придётся выслушивать бесконечные жалобы, мять животы, отдирать в перевязочных набрякшие кровью повязки и часами потеть за операционным столом? А вот, поди ж ты, я всегда прибавлял шагу, когда видел семиэтажную эту громаду, напоминавшую грузный корабль, что плывёт над гудящей машинами улицей, над людьми и домами, над всей городской суетой.
Я входил в нее с чувством, что будто ныряю в стремительный, сильный поток – и он подхватывал, нёс, не давал ни опомниться, ни оглядеться, ни даже подумать о чем-нибудь, кроме работы. Передо мной бесконечно мелькали знакомые и незнакомые лица, каталки и лестницы, гулкие коридоры больницы, шипящие струи воды и мыльная пена, вспухавшая между ладоней, в глубине раны хлюпала кровь, ритмично гудел аппарат для наркоза, и непонятно, что больше слепило и утомляло глаза: многоглазая лампа, чей диск висел над столом, или блеск инструментов в распахнутой ране? Как ни странно, но доктору, погруженному в операцию, думать, в сущности, не о чем: работа сама все диктует ему. Надо шить – значит, шей; надо что-то отсечь – бери ножницы или скальпель; если вдруг струя крови выпрыгнула из раны – значит, надо искать, перевязывать повреждённый сосуд. Так хороший пловец на поверхности сильной, его подхватившей, реки – он, конечно, не думает, какой именно сделать гребок, как толкнуться ногой или выбросить руку; ему надо лишь чувствовать реку, надо не спорить с потоком, но надо грести, помогая реке, совпадая с движением струй – и тогда, может быть, тот пловец и сумеет достигнуть намеченной цели.
Так вот и я плыл в потоке работы, порой забывая о времени и о себе, пока в мой кабинет не входила Даниловна, старая санитарка.
– Чтой-то, Лександрыч, ты нонича припозднился? – говорила она дежурную фразу. – Не пора ли, голубчик, домой?
Она опиралась на швабру потешно и важно, как солдат на ружье, и я порой думал, что это не просто хмельная старуха, которая моет полы, а ведунья, которая знает о жизни и времени больше всех нас.
– Виноват, засиделся! – отвечал я Даниловне, как рядовой генералу, и мы с нею дружно смеялись.
Уже в сумерках, оглушённый всем тем, что случилось в течение дня – уставшие ноги гудели, и ныла спина – я медленно пересекал двор больницы, потом шёл по улице вдоль чугунной ограды – с чувством, что я, утомлённый заплывом, сейчас выбираюсь на берег, а больничный поток продолжает куда-то нестись, но уже без меня…
IV
В больнице я любил всё. Мне нравилось, как, например, валит пар из распахнутой форточки пищеблока, и как несколько прикормившихся возле больницы собак, скулящих и перебирающих от нетерпения лапами, ждут повариху Наталью – весёлую, толстую бабу, – которая скоро вынесет миску с объедками.
Или мне нравилось наблюдать, как, наподобие белого флага, треплется сетчатый лёгкий мешок, что надет на трубу вентиляции прачечной, чтобы в него набивалась летящая вата и нитки. Этот бьющийся белый мешок напоминал корабельный вымпел; и сходство больницы с ковчегом, спасающим множество самых различных людей – это сходство опять приходило на ум.
Мне даже нравилось, как гудят лифты, как хлопают двери и как мелкой дробью стучат в коридорах колеса каталок: все эти звуки говорили о том, что больница живёт и работает, дышит – и я, вместе с ней, тоже двигаюсь, тоже дышу.
В дежурные ночи, когда я лежал на диване в своём кабинете и слышал сквозь дрёму все звуки бессонной больницы – тогда я испытывал странное чувство: как будто громада больницы находится где-то внутри меня самого. С урчаньем гудели водопроводные трубы – казалось, гудящее это урчанье я слышу внутри своего живота. Скрипят где-то двери или половицы, а мне мерещится, что хрустят мои собственные суставы. По коридору стучат, приближаясь, колеса каталки: как будто во мне, всё сильнее и громче, стучит моё сердце…
Можно было подумать, больница была мной самим, а я, в полудрёме лежащий внутри ее чрева, был целой огромной больницей, был чем-то таким, что вмещало в себя и больных, и палаты, вмещало пожарные лестницы и коридоры, гулкие залы реанимации и оперблока – то, что вмещало весь этот родной и любимый мной мир.
Но больше всего я любил оперировать. Уже в раздевалке, где мы облачались в просторные, тёплые – только-только из автоклава – штаны и рубахи, я начинал себя чувствовать лет на десять моложе. Вот странно: при всей любви к чистой, добротной одежде – я и в других терпеть не мог затрапеза и неаккуратности – затрёпанное белье оперблока мне всегда нравилось. И пусть мы, хирурги, потешно выглядели в этих штопаных, драных, линялых портах и рубахах – ни дать, ни взять, оборванцы в исподнем – но мне было приятно напяливать эти лохмотья. Неужели тогда, в мои самые благополучные годы, я уже как бы предчувствовал, что меня ожидает судьба оборванца-бродяги?
Переодевшись, шёл мыть руки. Шипела тугая струя, обмылок мелькал в потиравших друг друга ладонях, и серая пена вспухала меж пальцев. Казалось, я мою сейчас не одни только руки – но очищаю и душу. Все суетно-мелкое, лишнее – будто смывалось струей воды. Пожалуй, нигде, кроме как в оперблоке, я не бывал так спокоен и собран, никогда так отчётливо не сознавал, что я в мире есть, и я миру – нужен. И круглое зеркало, что висело над раковиной, подтверждало моё ощущение: в нём отражался спокойный, уверенный взгляд человека, которому ясно, зачем он живёт.
Подняв руки – с локтей капало, и на подоле рубахи расплывались мокрые пятна – я быстро входил в операционную залу.
– Добрый день! – бросал я в ее гулко-кафельное пространство.
Мне вразнобой отвечали врачи, санитарки и сестры – и только больной, что лежал на столе обнажённый, с дыхательной трубкой во рту, не мог ничего сказать. Несмотря на обилие здесь и людей, и приборов, и самых разнообразных предметов, от пластмассовых вёдер до ярко сияющих ламп, пространство, в котором мы все находились, казалось огромным и гулким – как в храме. Здесь каждый звук, каждый жест становился как будто весомей себя самого.