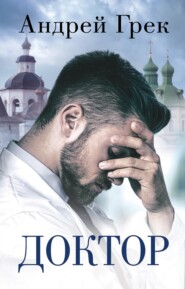скачать книгу бесплатно
– Не люблю я эти иллюминации, – пробурчал Жуков, садясь спиной к Кремлю. – Значит, так: мне попроще чего. Ну, там водки, огурчиков… И чтоб никаких червяков и лягушек!
– Лапоть ты, Сашка! – засмеялся Иван. – И как тебя только в твое министерство пускают?
– А попробуй его не пусти, – похлопал я Жукова по богатырской спине.
Нам хорошо было видно, как за невысокой, до пояса, перегородкой работала дюжина поваров-азиатов.
– Японцы? – спросил я Ивана.
– Нет, буряты. Здесь много студентов, среди них есть и наши. Вон тот, например, Ян Бадмаев: – толковый парнишка. Английский знает лучше меня. А здесь подрабатывает, чтобы учиться.
Повара торопливо лепили комочки из риса, накрывали их ломтиками рыбы, кальмара или осьминога и выставляли тарелки на транспортёр, чёрная лента которого медленно двигалась через весь зал.
– Это кайтен, – пояснил нам Иван. – Ручей, по-японски. Если вошёл в ресторан – можешь брать с него всё, что понравится.
– Сколько угодно? – спросил недоверчиво Жуков.
– Сколько угодно, – засмеялся Иван.
Бутылку «Столичной» распили стремительно – как бывало в студенчестве где-нибудь в подворотне. Японские суши оказались отличной закуской. Даже Жуков, который экзотики не любил, и тот увлечённо жевал эти рисовые комочки.
– Конечно, сальца да картошечки навернуть было б лучше, – бурчал он с набитым ртом, – но, на худой конец, сойдёт и эта японская тарабарщина. Ну, что: заказываем вторую?
– Конечно. Когда еще так посидим?
Захмелев, говорили в тот вечер сумбурно и много, мешая воспоминания с тем, что каждого волновало сегодня. Иван сначала рассказывал об Японии, где он проработал полгода и где как раз пристрастился к тамошней кухне, а потом перешёл на свою любимую тему.
– Вот вы говорите: вынь, да положь вам лекарство от СПИДа! – звенел его голос. – А того не хотите понять, что этого вируса просто так не возьмёшь. Это вам, братцы, не какая-нибудь гонорея, от которой сделал укол – и гуляй себе дальше, как новенький!
– Почему «не возьмёшь»? – басил Жуков. – Возбудителя определили? Вот и ищите, чем его, гада, давить.
– Э-э, братцы, не всё так просто! – горячился Иван. – Вот вы мне скажите: что такое, по-вашему, СПИД?
– Как что? Приобретенный иммунодефицит.
– Правильно! – потирал Подобед ладони. – А что такое иммунитет?
– Иммунитет? Ну, это… Система защиты. Против всяких там чужеродных вторжений.
– И опять, Гриша, в точку! Нет, ну до чего ж у меня друзья умные! – захмелевший Иван восхищённо вскидывал руки. – Иммунитет, стало быть, есть стремленье остаться собой – вы согласны?
– Угу, – бурчал Жуков, в очередной раз дотягиваясь до бутылки «Столичной».
– А если человек оставаться собой не желает? Что тогда с ним прикажете делать: антибиотиками лечить?
– Да, – вздыхал я. – Антибиотики здесь не помогут…
– Вот-вот, я к тому и веду! – Глаза у Ивана болезненно и горячечно блестели. – СПИД это выбор, который больной совершает на клеточном уровне: быть собой – не хочу, и пошли вы все в задницу!
Подобед возбуждённо размахивал деревянными палочками так, что даже невозмутимые повара-буряты с любопытством поглядывали на нас.
– Погоди-погоди, – придержал я Ивана. – А вот если, к примеру, человек сильно влюблён, если он сам, как говорится, не свой – это ведь тоже, в каком-то смысле, иммунодефицит?
– Конечно! – горячо соглашался Иван.
– Эк, куда вас шарахнуло, – хмыкнул Жуков, который почти не хмелел. – Так вы скоро и от любови начнёте лекарство искать…
– И начнём, что ты думаешь?! – почти кричал Подобед. – На кой хрен сдалась эта любовь, когда от нее люди сходят с ума?
«Да-а, – думал я, глядя на расходившегося Ивана. – Видно тебе от баб тоже досталось, раз ты так на любовь нападаешь…»
Оказалось, что я угадал. Когда Иван отлучился, Жуков, нагнувшись ко мне, прогудел:
– А Ваньку-то нашего, знаешь, жена бросила…
– Да ну?!
– Вот те и ну… Взяла, да уехала с дочкой в Америку – нашла там какого-то сраного миллионера.
– Вон оно что, – вздохнул я. – То-то смотрю Иван вроде как не в себе…
Засиделись мы за полночь. Выходили из ресторана уже на нетвёрдых ногах и, когда шофёр Жукова вёз нас к Ивану – я должен был у него ночевать – мне всё казалось, что красотки на придорожных рекламных щитах вот-вот оживут: так улыбались, подмигивали их лукавые лица. Одна из них показалась похожей на Ольгу – такая же точно капризная линия губ и крыло ярко-рыжих волос – и я всё, помню, ждал, всё таращился в ночь: не мелькнёт ли еще, среди ярких реклам, ее удивительная улыбка?
XIII
Я поселился в большой холостяцкой квартире Ивана на Рублёвском шоссе – сам хозяин через пару дней улетел в Лондон – и жил себе, что называется, кум королю. Холодильник был полон еды, бар полон выпивки, деньги тогда у меня водились: чего еще было желать одинокому джентльмену?
Плохо было одно: со мной не было Ольги. Первое время она мне и снилась, и даже являлась порой наяву. То мерещилось, что ее рыжие волосы колышутся впереди, в тротуарной толпе – то казалось, что ее взгляд плывёт мне навстречу в метро, и я, вздрогнув, хватался за поручень эскалатора…
Желание видеть и слышать Ольгу порой становилось мучительно-острым. Несколько раз я попробовал до нее дозвониться, но ее телефон почему-то был недоступен. «Что ж, не судьба, – думал я. – Ничего, ждать не так уж и долго: вернусь, тогда и наговоримся…»
Но через несколько дней – сам себе удивляюсь – мне стало легче. То ли новая обстановка отвлекала меня, то ли мне помогали забыться разнообразные впечатления съезда – я ходил на его заседания регулярно, как на работу, – но я мало-помалу, как ослабевший больной после тяжкой болезни, начинал приходить в себя.
А Москва помогала мне в этом. Само ощущенье огромного города, в водовороте которого вертелось великое множество человеческих судеб, ощущенье гигантски-безбрежных масштабов столицы – оно, как ни странно, меня утешало. Казалось: ну что значу я сам, и все мои чувства и переживания – на фоне вот этой безбрежной, куда-то несущейся, жизни? Для Москвы я – ничто, и любовь моя – тоже ничто; так, может, и в самом-то деле не стоит особенно все усложнять?
Заседания съезда я посещал с удовольствием. Интересными, главное, были там люди: со всей страны съехались сотни хирургов, и совсем молодых, и уже патриархов с почти легендарными именами. Я гордился, не скрою, своею причастностью к этому миру. Здесь были собраны, в сущности, лучшие люди страны: работяги и умницы, те, с кем можно было и побалагурить, и выпить, и поговорить о серьёзных вещах.
Пообщавшись с коллегами, я даже вспомнил о своей диссертации, которую начал было писать после смерти жены – надо было хоть чем-то заполнить постылую, вдруг опустевшую, жизнь – но потом я забросил научную эту работу. А теперь вдруг подумал: «Почему бы мне к ней не вернуться? Материала собрано предостаточно, тема самая что ни на есть актуальная. Очень кстати я и в Москве оказался: похожу-ка в научную библиотеку, посмотрю, что нового появилось по язвам желудка – а потом доведу, наконец, до ума то, что начал. Как-никак, уже четверть века оперирую эти самые язвы – пора подводить кое-какие итоги».
Когда закончился съезд, и я отлежался-отмяк после заключительного банкета – я стал ходить в центральную научную библиотеку. Это дело меня так увлекло, что я часто засиживался там до закрытия, и деликатные женщины из отдела периодики спрашивали меня: «Простите, а вы не могли бы прерваться до завтра?»
С шумящей после долгого чтения головой шёл гулять по вечерней Москве. Я когда-то неплохо знал старый центр, и теперь, вспоминая, распутывал хитросплетения улиц и переулков внутри Бульварного кольца. Конечно, многое здесь изменилось – теперь не узнать было фасадов старинных домов и витрин магазинов, знакомых по прошлым наездам в столицу – но многое и осталось таким, каким было. Остался задумчивый Пушкин над шумною площадью – такая же прозелень проступала по складкам его бронзового плаща, – остались скамейки и липы Тверского бульвара, остался храм Вознесения у Никитских ворот, где венчались Пушкин и Гончарова, и остался сидящий за храмом «третий Толстой»: даже в чугунном обличье он производил впечатление редкостного обжоры, пьяницы и жизнелюба.
Я неспешно бродил по сиявшей огнями Москве, наслаждаясь еще непривычной мне волей и праздностью. Из запасов того коньяка, что привёз я с собой, каждое утро я отливал полбутылки в карманную плоскую фляжку, и потом делал глоток-другой «Наполеона» или «Ани» в любой момент, когда мне захочется. Иногда заходил выпить чашечку кофе в какое-нибудь, по пути подвернувшееся, кафе. Красивые, как на подбор, официантки неизменно радушно встречали немолодого, но хорошо сохранившегося мужчину в отличном пальто и костюме, безупречно побритого и благоухавшего дорогим одеколоном – то есть, встречали меня. Случалось, на меня с любопытством посматривали и красотки из-за соседних столиков – видимо, по одежде и по манерам принимая меня за какого-нибудь дипломата или банкира. Эти женские взгляды мне были, конечно, приятны – стало быть, я, как мужчина, был до сих пор интересен – но я не хотел затевать никаких новых романов: с меня хватало и старого, там, откуда я только недавно уехал.
XIV
Я гулял по Москве, удивляясь тому, как же быстро она из растерзанно-дикого города, заполонённого мусором и бомжами – а именно такой я помнил Москву начала девяностых годов, – превратилась в благопристойную и процветающую столицу.
Нищих на улицах теперь не встречалось. Разве что возле вокзалов, в подземных, кишащих людьми, переходах еще попадались и инвалиды в колясках, тянувшие грязные руки к прохожим, и чумазые дети неизвестной мне национальности, клянчившие подачки так весело, с таким живым блеском в глазах, что хотелось не пожалеть их, а, напротив, завидовать их напористой жизненной силе.
Подземные нищие странным образом привлекали меня. Нередко, делая вид, что листаю журналы или рассматриваю безделушки на пёстром лотке коробейника, я наблюдал жизнь нищей братии.
Оборванцы сидели на грязном асфальте у стен перехода, словно на берегу реки. Брызги монет вылетали время от времени из гомонящего, шаркавшего людского потока – и, блеснув, падали в грязные шапки или жестяные коробки. Услышав, как звякнула очередная монета, нищие начинали кивать головами – но поразительно равнодушными, даже высокомерными оставались их лица. Возможно, что кто-то из нищих и впрямь сознавал свое превосходство над суетливо спешащими мимо людьми. Как ни крути, обитателям подземелья было больше известно о жизни, чем благополучным и сытым – но всегда озабоченным чем-то – жителям верхнего мира. Видно было, что даже и милостыню горожане бросают с таким виновато-испуганным видом, словно вот этою жалкой подачкой хотят откупиться от рока, задобрить судьбу – ту судьбу, что как будто глядит на прохожих глазами вокзальных бомжей.
А этим бояться уже было нечего, они уж и так опустились на самое дно: поэтому их отупелые, бледно-опухшие лица порой выражали бесстрашие обречённости. И во мне оживало народное, древнее чувство благоговейного страха перед юродами, нищими, перед бродягами или слепцами – перед Божьими, как говорится, людьми…
Как-то, в переходе под площадью трёх вокзалов, мне попытались гадать. На ступенях, ведущих в Казанский вокзал – я как раз шёл туда за обратным билетом, – мою левую руку схватила цыганка.
– Подожди, дорогой, погадаю! – хрипло выкрикнула она.
С любопытством я посмотрел на гадалку. Худая, подвижная, смуглая, она вся состояла, казалось, из шелеста юбок и звона монист, да еще беспокойного яркого взгляда.
– Ладонь-то, ладонь-то раскрой! – нетерпеливо приказывала цыганка.
Ухмыляясь и пожимая плечами, я разжал пальцы левой руки. Взгляд цыганки напрягся.
– Подожди-подожди, – удивилась она.
Склонившись, она жарко дохнула мне на ладонь, потом быстро протёрла ее рукавом жёлтой кофты. Казалось, цыганка сама не верила в то, что увидела. Отпустив мою руку, она неуверенно пробормотала:
– Рука не годится! Я лучше тебе по-другому сейчас погадаю…
Запустив руку в юбки, она достала круглое зеркальце и, наведя его мне на лоб, стала что-то высматривать.
– Напрямую смотреть нельзя – так чужую судьбу на себя принять можно, – поясняла она не то мне, не то себе же самой.
Но и зеркало, видимо, мало ей помогало. Подышав на него, протерев водянисто мерцающий круглый глазок, она вновь попыталась всмотреться в мое отражение. Неподдельный испуг проступил в ее смуглом лице.
– Да ну тебя к чёрту! – И она неожиданно бросила зеркальце оземь.
Цыганка, со всем ее шелестом, звоном, горячечным взглядом – мгновенно исчезла, как будто растаяла в зыбких тенях перехода.
«Вот так штука…» – Я озирался, потирая занывшую левую кисть. Что было делать: смеяться иль плакать, идти, куда шёл, или, может, вернуться? Осколки разбитого зеркала, помню, хрустели в ногах торопящихся мимо людей, и от этого хруста мороз пробирал по коже…
XV
Возвращаясь, я с нетерпением ждал встречи с Ольгой. Пока ехал в поезде, всё представлял, как увижусь с ней, что ей скажу – и как мне навстречу засветится ее взгляд.
Однако наша с ней встреча меня оглушила. Я только-только поднялся к себе на этаж, вставил ключ в дверь кабинета – как услышал шаги за спиной. Конечно, я их узнал – и, расплываясь в улыбке, обернулся к шагающей Ольге.
Но ее взгляд был каким-то слепым. Рассеянно, словно не узнавая, Ольга скользнула глазами по мне, потом, спохватившись, кивнула и, склонив голову набок, торопливо прошла дальше по коридору.
Я так и замер, с ключами в руке, с застывшею глупой улыбкой – и тупо смотрел, как она удалялась. «Что это значит? Я брежу, или это сон?» Машинально я открыл дверь, снял пальто и швырнул его на диван, а потом, встав к окну, прислонил к ледяному стеклу свой пылающий лоб. Слепой, равнодушно скользнувший по мне ее взгляд вновь и вновь возникал у меня перед глазами. Весь ужас был в том, что, при всей слепоте – Ольга словно не видела ни меня, ни сестёр-санитарок, сновавших вокруг, ни обшарпанных стен коридора – взгляд ее был несомненно счастливым! Ясно, что только влюблённая женщина может смотреть вот таким, ослеплённо-сияющим, взглядом. Где уж ей видеть кого-то еще, если только один человек занимает и мысли, и душу, но теперь это вовсе не я…
Несколько дней прошли, как в дыму. Я, конечно, ходил на работу, что-то там делал, консультировал и оперировал, но всё это совершалось автоматически, словно само по себе, по инерции многолетней привычки.
Я только теперь осознал, как мне плохо без Ольги. «Ну не может же быть, – думал я, – чтобы всё оборвалось так быстро, так вдруг? Просто нам надо встретиться, поговорить, надо вспомнить друг друга…» Но я не мог с ней увидеться, как ни старался: похоже, что Ольга нарочно меня избегала.
Зато я встретил счастливого, как это пишут в романах, соперника. Это было во время утреннего обхода в реанимации. Мы, полтора десятка врачей, переходили от больного к больному; я, как обычно в те дни, плелся позади всех с видом потерянным и отрешённым.
– Смотри, Гриша, – толкнув меня в бок, прошептал толстяк Юровский, заведующий гинекологией. – Вон с тем красавчиком у Ольги Фокиной роман. Его только месяц, как приняли анестезиологом, а по нему уже все наши девки сохнут…
Я ничего не ответил на смрадный, одышливый шёпот Юровского – эта старая жаба никогда не упускала случай посплетничать, – зато мрачно, не отрываясь, смотрел на высокого смуглого парня, которого мне указали. Тот даже поёжился и передёрнул плечами – как видно, почувствовав мой ненавидящий взгляд.
Молодой доктор был, в самом деле, красив – и, похоже, не сомневался в том, что его все вокруг любят. «А как же иначе? – словно бы говорило его улыбавшееся, приветливое лицо. – Разве я что-нибудь сделал плохое?»
Голова моя зашумела, и багровые пятна поплыли в глазах… Не помню, чем завершился тот злополучный обход; помню только, как я, уже у себя в кабинете, тупо смотрел в окно, ничего в нем не видя, и катал языком во рту таблетку нитроглицерина. Грудь и голову всё сильнее сжимали тиски – и казалось, что сердце вот-вот остановится…
Не стану подробно описывать, как мне было плохо. Я жил тогда, словно в аду. Меня самого словно вовсе и не было; а тот мой двойник, что еще, по инерции, утром шёл на работу, проводил там планёрки, потом оперировал, потом пил коньяк в закрытом на ключ кабинете – этот чужой, механически выполняющий все человек почти не имел ко мне отношения. Мне даже казалось, что, если избавиться вдруг от него, если бы он, скажем, попал под машину, или выпил смертельную дозу снотворного, то в моем мучительном существовании его, двойника, исчезновение мало бы что изменило. Страдание словно превосходило меня самого – казалось, что даже и смерть ничего не могла б с ним поделать…
А иногда, во хмелю, мне мерещилось: «Может, всё это мне только снится?» Казалось, какая-то словно ошибка вдруг вклинилась в жизнь – и эту ошибку не поздно исправить. В таком состоянии я доходил до поступков постыдных и жалких: я начинал звонить Ольге.
– Да! Я слушаю! – отзывался ее бархатистый, взволнованный голос. Но уже по самой затянувшейся паузе Ольга догадывалась, что звонит вовсе не тот, кого ей хотелось бы слышать, и повторяла почти раздражённо: – Ну, говорите же, слушаю вас!
– Здравствуй, Оля… – насилу выдавливал я. Мой голос был сиплым, безжизненным.
Теперь уж она не спешила ответить. Мне мерещилось: в паузу, что повисла меж нами – как воздух в пробоину – вытекает вся жизнь. Уже было нечем дышать, сердце сжимало и я торопливо нашаривал нитроглицерин…
– Зачем ты звонишь? – наконец отзывалась она.
– Не знаю, – сипел я растерянно. – Просто хочу тебя слышать…
– Ну, слышишь и что, тебе легче? – с жестокой усмешкой спрашивала она.
– Нет, не легче…
– Тогда и названивать нечего, всё и так ясно. – Голос ее становился холодным и твёрдым, как лёд. – Прости, но между нами всё кончено.
И Ольга вешала трубку.
XVI
В отделении многие недоумевали: что это сделалось с шефом? Я стал раздражителен, груб и рассеян; я стал придираться к таким пустякам, на которые раньше не обратил бы внимания и моя раздражительность создавала вокруг нервозно-болезненную обстановку.
Я мог, например, за сущий пустяк накричать на сестру, да еще при больных, но при этом я мог позабыть ее имя.
– Галина! – орал я на весь коридор. – Сколько раз я тебе говорил: не зови больных к телефону!
– Я не Галина, а Таня, – обижалась сестра, и глаза ее наполнялись слезами. – А к телефону зову потому, что у Петракова из третьей палаты только что мать умерла…
– Всё равно непорядок! – рычал я, не в силах сдержаться.
Что делать? Несчастье распространяется, словно вирус – стараясь и всех вокруг сделать тоже несчастными.
И оперировать я стал хуже, нервознее и торопливее. Пропала та точность и ясность движений, которая отличает хирургов высокого класса. Откуда ей, ясности, было взяться, когда в голове и в душе моей всё было вверх дном?
Даже и ассистенты, мои молодые ученики, которыми прежде я был так доволен, стали вдруг бестолковы, неловки – а это уж верный признак того, что сам оператор работает плохо. Нет, конечно, огромный мой опыт длиной в двадцать пять лет что-то значил – даже тогда оперировал я довольно прилично – но пропала та лёгкость рук, при которой стороннему зрителю кажется, что операция движется словно сама по себе. Когда работает мастер, и все у него получается – кажется, что любой человек, позови хоть прохожего с улицы, может сделать все то же самое. Я же стал оперировать так сложно и вычурно, что операция превращалась в какой-то запутанный фокус с переставлением крючков, многократной наводкой лампы – мне всё казалось, что в ране тесно, темно – и с неестественно-сложными выкрутасами собственных рук. Всё меня раздражало, и операционные сестры уже и не знали, чем мне угодить. Я швырял прямо на пол зажимы и ножницы – инструменты гремели по кафелю – и орал дурным матом: