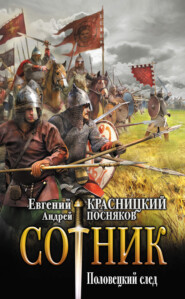
Полная версия:
Сотник. Половецкий след
Передернув плечами, Вячко встал на широкие лыжи и, закинув за спину самострел, заскользил по узенькой лесной тропке, уклоняясь от тяжелых веток, сгибающихся под тяжестью налипшего снега. Спугнув стайку синиц, отрок выбрался на опушку, поднялся на вершину холма, к ольховнику… и замер, увидев свежие следы!
Кто-то совсем недавно проходил на лыжах. Видно – шел от реки к Погорынью, в земли боярина Журавля. Вячко не поленился, наклонился… Ну да – именно туда и шел. От реки, да. А кто? Да кто угодно. Скорее всего, кто-то из тамошних людишек хаживал по делам в Туров и вот теперь возвращался обратно с попутным обозом, река-то зимой – дорога, причем довольно-таки многолюдная, обозы, сани туда-сюда так и снуют! Ну, так, считай – Киевский тракт, пусть и зимний. Летом же до Киева – только на ладье.
Это хорошо, что вдоль реки посты-сторожи выставлены. Отроки Младшей стражи за речкой следят, присматривают – мало ли кто там окажется? Да и здесь, недалече – верстах в трех, в чаще, – тоже пост. На границе с «журавлями», там и их пост – лешаки, воины-невидимки. После того, как князь туровский сместил тамошнего гниду-старосту Торопа да поставил на его место Глеба, вроде как и отношения «журавлей» с Ратным стали куда более дружественными, нежели прежде. Однако сторожа все же нужна. На всякий случай. Мало ли. Сегодня там Глеб, а завтра? До Турова далеко, а лихих людишек хватает.
Эвон куда хватил! Щурясь от выглянувшего солнышка, юноша глянул на лыжню, явно забиравшую влево, к ольховнику… прямо к настороженному самострелу! Хороший там самострел, большой – на кабана, на волка… Ну, а человек – так тот бечевку всяко заметит, не дурак ежели. Разве что коли спешит куда да прет, глаза окорячивши, куда попало! Так такой и на простой сук напорется запросто, без всякого самострела.
А похоже, и впрямь напоролся!
Заметив на снегу красные пятна – кровь, охотник прибавил шагу. С неба вдруг начало сыпать, еще немного – и все следы заметет…
Ну да! Вон он, самострел, меж раздвоенной осиной прилажен. Уже разряженный! А куда стрела полетела? Да вот, прямо туда… в неведомого раззяву! Это ж надо так глупо подставиться! Что, бечеву-растяжку не разглядел? О чем только и думал… Или – думала. Может, это – дева… Вячеслав еще раз присмотрелся к лыжне… Ну да! Вон, шаг-то какой – девичий, короткий. И как только сразу не углядел?
Напоролась же на стрелу, дурища! Видно, в ногу попала… и вскользь – иначе б вообще не шла. Знать, просто поранилась – повезло. Вон – видно, хромает. Эх, не дойти тебе, дева, не дойти! Перехватить тебя, да на заимку. А там – дать знать «журавлевым», пущай сани шлют.
Интересно, почему девку послали? Так а кого еще? Зима ж. Мужики на охоте, в лесу или дерева на подсеку рубят. А девкам что делать? Лясы точить да прясть. Вот и послали…
Эх, дурища!
Не дойдешь ведь, ослабнешь. Да если еще волки вдруг… Ага… к ельнику свернула… ага… А крови-то – да-а…
Свернув, отрок прибавил шагу – впереди, за деревьями, явно кто-то лежал!
– Эй, эй!
Что щелкнуло… Со свистом вылетела тяжелая злая стрела, впилась в грудь юному охотнику Вячко. Да что там впилась, насквозь пронзила! Вылетела из спины, чавкая и разрывая плоть в кровавые ошметки, уткнулась в старый пень, задрожала…
А Вячко потом стражники нашли, когда сменились… Уже закоченевшего, мертвого. Да уж, неудачная охота вышла!
* * *– Что-о?! Еще и Вячко?!
Узнав о гибели еще одного из своих верных людей, Миша долго не мог прийти в себя: мерил шагами горницу и ругался.
Ну как так? Как так-то? Охотник, стрелок от Бога – и так нелепо погиб! На настороженный самострел напоролся. Труп обнаружили отроки из младшей стражи, когда сменились с поста. Нашли, можно сказать, случайно – просто решили поехать вдоль реки, там хорошо на лыжах-то – с горки, славный такой тягун! Дети, чего уж…
Так вот, если б не гибель Вячко, так эти отроки на стрелу бы точно угодили! Кто-нибудь из них.
Собрав полусотников и наставников, Михайла тот же час приказал строго-настрого запретить менять утвержденные пути смены постов. Чтоб как шли, так же и возвращались под угрозой самого строгого дисциплинарного наказания. Изменить маршрут можно было только в случае крайней необходимости. Вот так! А как иначе?
– Прямо напасть какая-то! – в сердцах пожаловался сотник секретарю Илье – сутулому сухопарому парню с длинными, перевязанными узким кожаным ремешком волосами и ухоженною бородкой. – Вчера – Златомир, сегодня – Вячко! Этак я и совсем без людей останусь. Слушай, Илья… Там точно все без подставы? Чей самострел-то?
– Да бог его знает чей, – вздохнув, секретарь перекрестился на висевшую в красном углу икону святого Николая Мир-Ликийского. – Так бывает. Хозяина-то, может, уже и в живых нет, а самострел все стоит – настороженный! Пока тетива не истлеет… или покуда зверь али человек какой… Случаи, господине, нередки!
Миша упрямо набычился:
– И все равно – дознание произвести надо. Архип послал кого?
– Уряднику Ермилу поручил. Как сменится со стражи, так и отправится.
– Ермил? Это – хорошо. Этот дотошный.
Смуглолицый, чернявый Ермил из Нинеиной веси, чем-то похожий на ромея юный книжник и воин, тоже был из числа самых верных людей Михаила. Как и рыжий Велимудр, как полусотник Архип… Как вот погибшие парни – Златомир и Вячко. Как девица Добровоя, Войша…
* * *Добровоя с самого детства считалась всеми некрасивой и даже можно сказать – страшненькой! Круглолицая, ребристая и плоская, как доска, этакая мускулистая долговязая дылда, она больше походила на воина – да воином и была, и очень даже неплохим. Вернее сказать, неплохой. На внешность свою Добровоя откровенно плюнула, занялась воинским совершенствованием и вспомнила, лишь когда пришла нужда изображать невесту. Там целая история была с изяславльскими и полоцкими князьями да боярами… И вот как раз тогда на помощь Войше пришла Горислава-Горька, супруга варяга Рогволда Ладожанина, старого приятеля Михаила Лисовина. Именно Горька сделала из деревенской замухрышки-оглобли настоящую светскую даму, коей не стыдно было бы показаться и в самом Царьграде-Константинополе.
Понятия о женской красоте даже в двенадцатом веке были везде разными. В северных русских землях уважали варяжский тип – такие, как Войша; южнее же, наоборот, красивыми считались пухленькие, с большой грудью, в Царьграде же ценились утонченные жеманницы-стройняшки с детскими личиками и почти без груди. Везде по-разному. Как говорится, на вкус да цвет товарищей нет!
Вот и из Войши сотворили тогда северную платиновую красотку – блеклые серые волосы высветлили, вымыли ромашкой – уложенные в затейливую прическу, они уже не торчали паклей. Изменили и походку, и говор; эту чертову присказку – «ясен пень» – вот только не удалось убрать до конца, нет-нет да и до сих пор проскальзывала.
Самой Добровое новый образ понравился, но не до фанатизма, вернувшись обратно домой, она причесок не делала, но и косы не заплетала – предпочитала хвостики или просто перевязать волосы ремешком. Волосы, правда, мыла почти каждый день – в горячей воде, с золою и с отваром сушеной ромашки. Красивы стали волосы – платиновые, сверкающий водопад по плечам!
А еще по праздникам Войша надевала варяжские подарки – желто-коричневое плиссированное платьетунику с короткими рукавами и темно-голубой сарафан, с лямками, застегивающимися затейливыми серебряными фибулами. Еще браслетики были и изящный костяной гребень – новые подарки Ермила. Ах, Ермил, Ермил… все-таки угодил в сети! Впрочем, не только он один… Останавливающиеся в гостевом доме на пристани заморские купцы при виде Войши просто теряли дар речи, гадая, откуда занесло в сей болотный край такую красу? Даже Михайла-боярич называл деву непонятным, но явно одобрительным словом – «фотомодель»… А вот земляки ратнинцы по-прежнему считали ее дурнушкой! Еще бы, в каноны сельской красоты Добровоя явно не вписывалась, а по-другому деревенские мыслить и не умели.
Большак, дед Унятин, на Добровою из-за кос – вернее, их отсутствия – не рычал и заплетать не неволил, знал, что у сотника Михайлы Добровоя-дева в большом уважении ходит, и через уважение это можно многого для семьи да для рода добиться.
Сама по себе нынче была Добровоя, как кошка. В девичью школу к боярыне Анне, Мишиной матушке, не шла, к иным – тем более. Пуще всего девица свободу ценила. Свободу и вящее к себе уважение.
Так что не только из-за красоты Ермил к ней «присох»… По хозяйству же Добровоя хлопотала исправно и всю работу девичью делала: колола во дворе дрова, таскала воду в больших кадках, даже полоскала в проруби белье. Однако же при всем при этом не забывала и в Михайлов городок на тренировки воинские сбегать, и в библиотеке над книжкою посидеть. Не одна – с Ермилом. Давно уж приметила Войша – отрок от нее млел, и оттого возникало в девичьей душе некое горячее томление, отчего хотелось то ли запеть, то ли пойти в пляс, а лучше предаться лихой плотской любви, и потом сразу – в церковь. Упасть на колени пред образами – и молиться, молиться, молиться… Это старые боги плотскую любовь чем-то плохим не считали, по учению же христианскому – грех это все, грех, а помыслы такие – греховны!
В тот самый день, когда сотника Михайлу терзали недобрые подозрения из-за плохих вестей, на двор Унятиных заглянул странник с письмом – да не с какой-нибудь там берестой, а все честь по чести – бумага в свитке! Бумагу здесь же, в Ратном, на мельницах делали и в Туров с выгодой отсылали. В первую голову – ко двору княжескому, но и иным не возбранялось купить, коли средства имелись.
Встал у калитки странник, дождался, когда кто-то из челяди на улицу выглянет, поклонился, шапку сняв:
– Добровоя, девица Унятина, тут ли живаху?
– Войша-то? Тут. А что тебе до нее, божий человек?
– С обозом я, из Турова в Киев и дальше, по святым местам, – оглянувшись, странник перекрестился на видневшуюся невдалеке деревянную церковную маковку. – Так в Турове проездом Рогволд-варяг был и супружница его Горислава…
– Ой, наша ж эта Горислава-то – Горька!
– Так вот, она просила послание сие передать родичам своим в Василькове… Говорит, девица Добровоя их знает.
– Ну, ясен пень, знаю! – выглянув из калитки, деловито пробасила Войша. Хмыкнула да, отодвинув челядинку, протянула руку: – Давай письмо-то.
Что ж, пришлось идти. Да в Васильково-то – по хорошей лыжне – в радость! Вдоль реки, потом перелеском, и сама не заметишь, как уже и пришла, прикатила. Погодка-то хороша – солнечно, морозец легкий – лыжи словно сами несут.
Так Войша и сделала – сунула за пазуху письмо, встала на лыжи да покатила, только ветер в ушах засвистел! Быстро ехала, да, по правде сказать, на лыжах-то мало кто за Добровоей угнался бы.
Мчалась девчонка по наезженной санями дорожке, радовалась хорошему дню и вот этой своей прогулке. Раскраснелась вся, довольная, даже песню запела – до чего ж стало на душе хорошо! Так и песню пела хорошую, радостную:
Приди к нам, весна,Со радостью!Со милостью!Со рожью зернистою,Со овсом кучерявым,С ячменем усатым…[1]От ворот Ратного, мимо пристани, мимо гостевого дома, тоже пели – спускались к реке девчонки, несли корзинки с бельем:
Сиди, сиди, Ящер, под ракитовым кустом!Сиди, сиди, Яша!Ешь орешки каленые!Сиди-сиди, Яша!Непростая была песня, не такая уж и веселая, добрая… Про древнего бога Велеса – Ящера, Яшу, злобного дракона, пожирающего людей.
Пели девчонки да несли к проруби тяжелые корзины с бельем. Вот еще одна из ворот вышла. Тоже с бельем. Хорошая знакомая – маленькая востроносенькая худышка. И как она только тяжесть такую тащит? Корзина-то больше нее!
– Здрава будь, Мира! – Войша вспомнила имя, поздоровалась.
Девушка улыбнулась:
– И ты!
– Небось, своих уже не нагонишь, – остановившись, Добровоя сунула руку за пазуху – проверить, не потерялось ли письмо. А то ведь, неровен час, могло и выпасть! Не, на месте… вон оно, вон…
– Да никакие они мне вовсе не свои, не полруки даже, – Мира с видимым удовольствием опустила корзинку в снег. – И поспешать мне некуда – вот еще! И без них приду – меньше народу. А ты куда справилась?
– В Васильково.
– Небось, красиво там посейчас, да. А уж летом – ух! Дух такой кругом медвяный… Одуванчики, васильки…
– А сейчас – снег один. Правда, солнышко. Ладно, пойду…
– Доброго пути, Войша.
Полчаса, час – Войша уже далеко усвистала. Оглянулась на круче – и Ратное, и Михайловский городок – в дымке, едва видать. Пристань, крепость, домики – все такие маленькие, игрушечные.
– По-бер-регись!
Мимо, по санной дороге, подгоняя лошадь, прокатил какой-то дядька в рыжем лисьем треухе и овчине.
– Эй, дядько! До Василькова как ближе?
Возница обернулся – услышал:
– Эвон, к дубраве сверни. Налево.
– Спаси тя Бог, дядько!
Налево, к дубраве, уже было кем-то хожено – виднелась припорошенная свежим легким снежком лыжня. По ней Добровоя и пошла, недолго думая. Теперь уж точно не заплутает! Кто-то ведь шел же!
Мимо орешника, через ракитник, мимо трех высоченных лип, и дальше – резко вправо… И что бы это так резко-то вдруг?
Оп!
Провалился вдруг снег под девчонкой! Разверзлась под ногами темная яма, затянула. Войша и вскрикнуть не успела, как уже упала на самое дно! Темно кругом, страшно и еще чем-то воняет противно.
Девушка быстро пришла в себя, в первую голову себя осмотрела, прислушалась… Руки-ноги целы – уже хорошо, значит, можно жить, значит, ничего – выберемся! А ведь могла бы… Вон колья-то кругом – острые! Еще б немного и… Ух-х! Добровоя пнула ближний кол ногой – тот и переломился тут же! Трухлявый. Старая волчья яма, ага! Однако кто ж ее на тропинке-то устроил? Или – не на тропинке… а на звериной тропе. Но… кто же по ней недавно проехал и не провалился? Как так? Ведь она-то, Войша, по чужой лыжне шла. И вот тебе на! Не гадала, не думала… Ладно, что зря тосковать – выбираться нужно.
Девушка поднялась на ноги и осмотрелась. Резкая боль вдруг саданула в бок… Все же задело-таки колом? Да нет, крови вроде не видно. Может, просто ребро сломано… Двигаться больно, да… И правую руку толком не поднять. Плохо. Как теперь выбираться-то? Тем более что колья все кругом старые да гнилые. А до верху-то сажени полторы – не допрыгнешь, не выберешься… Вот ведь угораздило-то!
Сверху, сквозь образовавшуюся дыру, пробивался свет оставшегося где-то в недосягаемой вышине неба. Превозмогая усилившуюся боль, девушка вытащила все колья, выбрала наиболее подходящие. Сняв с ног обмотки, связала – получился длинный такой шест. Проткнув слой старых веток и снега, Войша прислонила шест к краю ямы. Поплевала на руки… полезла… Ах, больно-то как… Ну, еще чуть-чуть, еще… еще… Вот и солнышко! И…
С треском переломился шест, и бесстрашная девушка ухнула вниз, едва не сломав ноги… Хорошо еще, жива осталась. Сиди теперь, кукуй! Или пой песни, авось да услышит кто. Только вот кому в это чертово Васильково нынче надо? Да и от дороги вдалеке… Кто же все-таки здесь прошел-то, а?
* * *Осматривать место происшествия Ермил отправился сразу после полудня. Пока сменился со стражи, пока получил приказ… После всех недобрых известий на душе как-то мерзко стало, тревожно. Златомир, Вячко… Старые друзья-соратники… и вот так, погибли. Невзначай, по-глупому… Можно сказать – у себя дома. Эх, жизнь! Как сказал Тимофей Кузнечик – «жиза»!
Поначалу отрок хотел взять на конюшне лошадь, но пока шел, раздумал – на лыжах-то выходило куда быстрее, напрямки. Сначала по васильковской дороге, потом к реке свернуть – там, по пути, и будут Вячкины охотничьи угодья, там же рядом и пост.
Взяв с собой котомку с нехитрой снедью, отрок встал на лыжи и живенько заскользил по санному тракту. Туда – час, да столько же обратно, да час-полтора – там. До темноты вполне можно успеть. Если не оставаться в казарме на обед. Вот Ермил и не остался, прихватил, что было, с собой.
Хорошо продвигался парень, быстро – лыжи скользили ходко, несли с ветерком. Вот уже и ольховник показался, повертка у трех высоких лип. Еще версты две и… Где вот только повернуть лучше? Сразу за липами? Или дальше к Василькову проехать?
Прикидывая, отрок остановился невдалеке от лип, поглядывая на чью-то недавнюю, уже припорошенную снегом лыжню, что пересекала опушку… Наверное, лучше все же ближе к Василькову повернуть.
Подумал так и тут вдруг услышал песню. Где-то за ольховником, что ли, пели… Девка! И голос такой… грубоватый. Но девичий, да…
Приди к нам, весна,Со радостью!Со милостью!Ишь, как поет. Коряво, но старается! Этак с надрывом, будто от песни той жизнь и смерть зависит…
Со рожью зернистою,Со овсом кучерявым,С ячменем усатым…Песню эту Войша напевать любила. Когда не слышит никто. Вернее, это она думала, что не слышат. Кому надо – слышали. Тот же Ермил. Вот и сейчас насторожился парень! И песня знакомая… и голос… кажись… знаком!
Приди к нам, весна-а-а…Господи! Так не «кажись», а знаком – точно! Это ж Добровоя, Войша! Ну да – она и поет. Интересно, что тут и делает-то? А пойти да глянуть! Вдруг и впрямь – Воя! Парой бы слов перекинулись, уговорились бы о встрече…
Со рожью зернистою,Со овсом кучерявым,С ячменем…Она – не она?А ну-ка!Навострив лыжи с дороги, Ермил погнал быстро, как мог… И едва не угодил в разверзшуюся прямо на пути яму!
Со рожью зернистою,Со овсом…Что такое? Да, похоже, в этой вот яме и пели! Чудны дела твои, Господи!
– Со овсом кучерявым, с ячменем усатым! – подобравшись к самому краю, подпел Ермил.
Внизу резко умолкли.
– Эй! – отрок свесился над самым провалом, позвал.
– Есть там кто?
– Ну ясен-пень, есть, – глухо донеслось в ответ. – Давай уже, помогай. Хватит орать-то!
* * *Нерадостный, отправился Михайла проверять караулы. Так-то и полусотники проверяли, и наставники иногда, но вот захотел сам. Просто проехаться, развеяться, да, по возможности, отвлечься от мрачных своих мыслей.
Набросив поверх полушубка подбитый куницей плащ, сотник вскочил в седло, да, выехав со двора, поворотил на реку, на зимний тракт. Реки в то время – дороги: и зимой, пока лед не подтает, и летом – до самого ледостава почти. Зимушка-зима – время для поездок хорошее, можно и по делам торговым, и просто так, в город – на ярмарку либо на праздник какой скататься, знакомых навестить, родню.
В город… Обозы со свечками да стрелами арбалетными посланы еще третьего дня, скоро уж и вернуться должны с прибытком. Еще рыбу мороженую посылали – осетра да сома. Рыбу в Турове брали хорошо, осетры-то там повывелись – больно народу загребущего много!
Еще ножи в городе продавали, сговорились с купцом Никифором, Мишиным дядькой, родным братцем Анны Павловны, матушки. Братец-то, конечно, братец, да держи ухо востро, потому как купец, а у торгового люда во первую голову завсегда одно – прибыль. Правда, тут договорились взаимовыгодно, в выборе товара Никифору уступив. Тимка Кузнечик хотел было на продажу хорошие ножи ковать, с наваренным лезвием – на сталь еще железные «щечки». Железо со временем стачивалось, нож от того вострел сам собою. Удобно, да дорого! Не понравилась Никифору цена – две куны, не многие за такую цену ножик возьмут. Давайте-ка что попроще шлите – проще, побольше, подешевле. Обычные – дешевые – ножики хорошо пошли. Да и делать их недолго, тем более – в мастерских, устроенных по типу мануфактуры – с «конвейером» и разделением труда. Кто железо тянул, кто клинок ковал, кто вострил, совсем иные рукоятки вырезали, а все вместе собирали – опять же другие. Так куда быстрей выходило. А чем больше товара – тем выше прибыль. Кроме ножей, еще браслетики стеклянные хорошо шли, сырье для них закупили по осени на ярмарке в Турове, у булгарских купцов с великой Итиль-реки. Тоже вот, казалось бы, дешевка, а как берут! Ну так каждая девушка хочет быть красивой, но не каждой достанется злато да серебро. Богатых людей мало, бедных – много, на этом и бизнес, так сказать – массового спроса товар.
Спустившись на ледовый тракт, сотник оглянулся, невольно залюбовавшись Ратным. В те времена селенья так ставили, чтоб с реки глянулись, ибо реки – дороги. Несмотря на все трудности, похорошело в последнее время Ратное, во многом – Мишиными стараниями, тут уж что и говорить.
Раньше-то почти все избы в Ратном топились по-черному. Многие – несмотря на сырую болотистую местность – еще строили по старинке, закапывались в землю этакими полуземлянками, даже и доски на пол не стелили, оставляли так. Входя в такое жилище, приходилось не подниматься на крыльцо, а спускаться на три-четыре ступеньки вниз, словно в погреб. Окошки в домах служили скорее для вентиляции, чем для освещения, вытягивая с очага дым, и либо затягивались бычьим пузырем, либо просто задвигались дощечкой. Так и назывались – волоковые.
А вот в последнее время в Ратном много чего появилось, в том числе и роскошные, по здешним меркам, дома – с резными крылечками, с сенями, на высоком подклете, в коих хранились нужные для хозяйства вещи.
Выстроили в Ратном и шикарную пристань с гостевым домом, торговыми рядками и прочей инфраструктурой. От села к главному – грузовому – причалу шла вымощенная булыжниками дорога, вдоль которой как раз и располагались рядки вместе с амбарами. Гостиницу же – постоялый двор – на самом бережку поставили в складчину местные богатеи. Роскошный двухэтажный домина, корчма, где варили пиво, медовуху и бражку не только по праздникам, но и во все иные дни, периодически – чтоб было. Тем более что разлитый по запечатанным глиняным кувшинчикам (местное производство) хмельной товар в сезон расходился быстро, как горячие пирожки. Так же влет уходили «пивные» плетеные баклажки – из лыка и липы. Собственно говоря, сезонов было два – зимний и летний, в иное время, когда только становился лед или, наоборот, в ледоход – никаких проезжих путей не имелось практически повсеместно. В свое время римляне до этих мест не дошли и дорог не построили.
Когда-то Михайла задумал было своими силами вымостить-починить зимник (чтоб был и летником) в сторону Нинеиной веси и дальше, на выселки, да воевода дед Корней на пару со старостой Аристархом вовремя отговорили юного сотника от этой дорогостоящей и пропащей затеи. И правильно отговорили: при почти полном господстве натурального хозяйства дороги как-то не очень-то и нужны были. Строго говоря, и в летний-то сезон прибыль от продажи алкоголя, пирогов, свечек и прочего исходила лишь от торговых караванов, ладей, идущих по пути «из варяг в греки» и обратно. Караваны, конечно, в сезон появлялись периодически, но не слишком-то и часто. Соседям же здесь, в Погорынье, ни пиво-бражка, ни пирожки были как-то не очень нужны – сами пекливарили. Правда, в голодное время меняли пирожки на свежую рыбу, кою ратнинцы нынче брали из милости: мол, рыбы-то мы можем и сами наловить, а вот вы где до конца лета-осени муку возьмете?
Прокатившийся по всем русской земле страшный голод последних трех лет ратницы пережили куда лучше соседей, всегда были с хлебом. Потому как применяли трехполье, сажали озимые… Все как советовал Михаил Лисовин. А ведь поначалу-то как артачились, особенно скот ради навоза разводить! Ничего, постепенно привыкали… Правда, далеко не все. Да и не все тут смердами-земледельцами были, большинство – воины, да не простые, а как бы сказали в Европе – риттеры, шевалье, дворяне! Ведь село Ратное носило такое название не зря.
Около ста лет назад, повелением князя Ярослава, прозванного за морем варягами Ярислейбом Скупым, а позднейшими историками – Мудрым, сюда, на границу бывших древлянских и дреговических земель, определили на жительство сотню княжеских воинов с семьями. С тех пор по первому призыву князя киевского, а позже туровского, все, способные носить оружие, жители Ратного нацепляли на себя кольчуги с шеломами и садились в седла. Село было богато и многолюдно, так как по жалованной княжеской грамоте не платило никаких податей, рассчитываясь с князем за землю и привилегии воинской службой. Да и землю эту никто не мерил, как, впрочем, лесные, рыбные, бортные и прочие угодья, которыми пользовались жители Ратного. Пользовались по праву сильного, поскольку отвоевали эти угодья с оружием в руках у местных, поощряемых на сопротивление языческими волхвами.
Эх, Златомир, Вячко… Проверив посты, Михаил все же не смог отвлечься от мрачных мыслей. Да и как отвлечешься-то? Коли самые верные да надежные люди вот так вот, глупо, погибли – не в сече, не от вражьей стрелы, не от лихоманки даже, а дома – от какого-то нелепого случая! Так бывает, да… Никто своей судьбы наверняка не знает, или, как говаривал варяг Рогволд Ладожанин, «никто не избегнет норн приговора». Норны у вярягов – слепые девы, плетущие нити человеческих судеб. Где-то сплетут, а где-то и оборвут ниточку… Вот и у Златомира оборвалась, у Вячко…
Уже подъезжая к Ратному, сотник вдруг увидел скопление народа у проруби, у «стиральных» мостков. Бабы обычно там полоскали белье, ну и чесали языками, чего уж – женсовет, по-другому не скажешь. Рядом была устроена наледь, горку для детишек залили еще на Рождество – кати себе на ледянке с кручи к реке, так, что дух захватывает! Не только детишки катались, а и кто постарше не брезговали, отнюдь! Обнимутся парень с девчонкой – и покатили.



