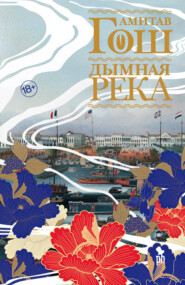
Полная версия:
Дымная река
В голосе ее прозвучало нечто, не позволившее Бахраму ответить в его обычной снисходительной манере: в нем слышались неподдельная мольба и беспросветное отчаяние. Казалось, наконец-то Ширинбай воспринимает мужа не просто как суррогат надлежащего супруга, но после сорока лет вялого и педантичного исполнения супружеских обязанностей в ней внезапно пробудились иные чувства.
И надо же было этому произойти именно сегодня! После стольких лет глубоко несправедливой жизни, в которой Бахрам сносил разочарованность и покорное безразличие супруги, ныне вдруг во всей наготе открылась ранимая душа близкого человека. Случись это хотя бы днем раньше, он бы, наверное, поведал о Чимей и Фредди, но теперь корабль, готовый сняться с якоря, делал этот разговор невозможным. Бахрам подсел к жене, которая, сжав в кулаке разбитый браслет, скорчилась на краю кровати, и обнял ее за худые плечи, обтянутые однотонным сари китайского тисненого шелка, как будто испускавшим туманное свечение. Кроме браслетов, Ширинбай не носила других украшений, и единственным цветным пятном в ее наряде были китайские алые туфельки, когда-то давно привезенные ей в подарок из Кантона.
Бахрам осторожно разжал ее пальцы и забрал разбитый браслет.
– Послушай, Ширинбай, отпусти меня в последний раз, и по возвращении я все тебе расскажу. Ты поймешь, почему это было так необходимо.
– Когда ты вернешься? А вдруг… – Она смолкла, не в силах закончить фразу.
– Моя мать всегда говорила: молитвы жены не бывают напрасны. Уверься, что и твои зря не пропадут.
Каким я стану?
Вопрос этот мучил не только А-Фатта и Нила, но всякого посетителя толкучего рынка в квартале Чулия-Кампунг, где проживали сингапурские матросы, кули и мелочные торговцы. В этом квартале, одном из беднейших в новоиспеченном городе, на пятачке, зажатом между густыми джунглями и топкими болотами, скопище бамбуковых лачуг и халуп из подручных материалов выросло как грибы после дождя.
Рынок устраивали на лугу возле притока реки Сингапур. Дорога к нему тонула в грязи, и посему большинство покупателей и торговцев добирались сюда по воде. Обитатели малайских и китайских кварталов прибывали в проа и нанятых джонках, а матросы и ласкары с кораблей – в ярко раскрашенных баржах, груженных тем, что они надеялись продать или обменять: связанные в «личное время» свитера, грубо стачанные шершавые робы, дождевики и бушлаты, позаимствованные из рундуков утонувших товарищей.
Нил и А-Фатт были среди тех, кто, изрядно намучившись на почти безлюдной дороге, притопал пешком, и вид внезапно открывшегося шумного сборища на берегу притока в кайме мангровых деревьев их ошеломил. Здешняя атмосфера напоминала ту, что царит на обычных рынках и ярмарках: и тут сновали разносчики, лоточники, торговцы сластями и мясным и охотники за женским полом, но ряды с одеждой были главной изюминой, ради которой все сюда и приезжали.
Матросы и ласкары называли толкучку «ворди-маркет» – видимо, потому, что некогда здесь торговали варди, военной формой. Сей товар был в ходу и поныне: на свете вряд ли сыскалось бы другое такое место, где можно обменять гренадерский кивер на малахай монгола, а каску пехотинца на шаровары зуава. Однако рынок не ограничивался воинским ассортиментом и за двадцать лет своего существования стал широко известен не только в Сингапуре, но и далеко за его пределами. На Пакайан Пасар, Барахолке, как называли рынок на окрестных островах и мысах, можно было купить и продать все что угодно: от папуасского чехла на пенис до сулу[20], от бенгальского сари до филиппинских штанов. Возможно, зажиточные гости острова предпочитали делать покупки в европейских и китайских магазинах на Торговой площади, но для людей, ограниченных в средствах, обладателей тощих кошельков или вовсе неимущих, приготовивших для обмена рыбу или дичь, рынок, не отмеченный на городском плане и не значившийся в уличном реестре, был желанным местом. Ибо где еще женщина сможет обменять кхмерский сампот[21] на билаанскую[22] кофту? Где еще рыбак махнет саронг на куртку или соломенную островерхую шляпу на балийский уденг[23]? Куда еще можно прийти лишь в набедренной повязке, но уйти в корсете из китового уса и шелковых туфлях?
Часть гардероба поставляли поиздержавшиеся паломники, миссионеры, солдаты и транзитные путешественники. Однако много товару прибывало из дальних уголков и представляло собою добычу грабителей и пиратов, ибо они, бороздившие воды Индийского океана, прекрасно знали, что Барахолка – лучшее место для сбыта краденого. Здесь, как нигде, покупателю стоило внимательно рассматривать товар, поскольку многие вещи были отмечены пятнами крови, пулевыми дырками, ножевыми порезами и прочими неприглядными дефектами. Особого внимания требовали роскошные наряды – расшитые золотой нитью халаты и балахоны, ибо многие из них были взяты из склепов и захоронений и при ближайшем рассмотрении оказывались изъеденными могильными червями. Однако риск здешних сделок окупался с лихвой: где еще за треуголку и нагрудную бляху дезертир мог получить костюм-тройку английского сукна? Ясно, что подобное не могло продолжаться вечно, но пока что Барахолка существовала, и все ее считали благом, ниспосланным с небес.
О толкучем рынке Нил узнал от лодочника-индуса, проживавшего в Чулия-Кампунге. Информация была очень кстати, поскольку друзья ходили в том, что удалось раздобыть по дороге – штаны, жилетки и заношенные саронги. Эта потрепанная одежда привлекала бы к ним ненужное внимание, но предложения городских магазинов были им не по средствам.
Барахолка стала идеальным решением проблемы. Первым делом друзья купили холщовые мешки, которые постепенно заполняли, проходя по рядам и торгуясь на смеси языков. Нил приобрел европейский сюртук, широкие и узкие брюки, отрез муслина и вязки для тюрбана, несколько легких хлопчатобумажных курт. Покупки А-Фатта были столь же эклектичны: пальто, сорочки и бриджи, черная и белая блузы, пара китайских халатов.
Они направились к обувному ряду, и тут вдруг прогремел голос, перекрывший рыночный гомон:
– Мать твою за ногу!.. Фредди!
А-Фатт сильно побледнел, но не оглянулся и подтолкнул Нила – мол, не останавливаемся. Через пару шагов он прошептал:
– Смотри-гляди, кто это. Какой вид.
Глянув через плечо, Нил увидел поспешавшего за ними пузатого человека в шляпе и безупречной европейской одежде; на очень смуглом лице его сверкали белки глаз навыкате, в руках он держал свертки купленной одежды.
– Ну что?
Ответить Нил не успел, ибо вновь прогремел тот же голос:
– Фредди, стой, черт тебя побери! Это же я, Вико!
Краем рта А-Фатт прошептал:
– Ступай вперед. Говорить после.
Нил кивнул и, не сбавляя шага, отошел подальше, а затем из-под укрытия стоек с одеждой стал наблюдать за незнакомцем и А-Фаттом.
Даже издали было понятно, что первый о чем-то упрашивает, а второй отказывает наотрез. Но потом А-Фатт вроде как уступил, и толстяк, облегченно вздохнув, его обнял и побежал к причалу, где стояла изящная корабельная шлюпка.
– Кто это был? – спросил Нил, дождавшись друга.
– Вико, отцовский управляющий. Я о нем рассказывать, помнишь?
– Чего он хотел?
– Говорить, отец болеть. Сильно желать меня видеть. Очень звать.
– Ты согласился?
– Да. Я идти на корабль. Вечером. За мной прислать лодка, – в своей отрывистой манере проговорил А-Фатт.
Сам не зная почему, Нил встревожился.
– Надо бы это обсудить, – сказал он. – Как ты объяснишь отцу, где ты был все это время?
– Никак. Скажу, поступить на корабль и уплыть из Китай. Три года в море.
– А если он проведает, что ты был в Индии? Узнает о тюремном сроке и прочем?
– Невозможно. Никак. После Кантона я все время менять имя. В тюрьме меня держать, настоящее имя не знать. Не доказать.
– А что потом? Вдруг он захочет, чтобы ты остался с ним?
А-Фатт покачал головой.
– Нет. Не захочет. Очень бояться, что старшая жена узнает. Про меня.
Порой он выказывал почти сверхъестественную проницательность. Вот и сейчас А-Фатт обнял друга за плечи и спросил:
– А ты бояться я оставлю тебя одного, да? Не тревожься. Ты мой друг, верно? Я не бросать тебя на чужбине.
Вечером, когда А-Фатт уехал на «Анахиту», Нил дожидался его на лодке-кухне. Прошло довольно много времени, он уже сомневался, что друг нынче вернется, а потом досадливо подумал: с какой стати я решил, что мое будущее зависит от встречи А-Фатта с отцом? Если пути наши разойдутся, что ж, я и один как-нибудь проживу. Нил перебрался в «домик» на корме, где провел предыдущие ночи, и почти мгновенно уснул.
Ночью встав по нужде, он увидел яркую луну, зависшую над рекой. Справив дело, Нил уже хотел вернуться ко сну, но вдруг на носу лодки различил два силуэта.
Сна как не бывало. Вглядевшись, в этих фигурах, привалившихся к борту, Нил узнал своего друга и хозяйку лодки.
– А-Фатт?
Ответом ему было приглушенное мычание. Подавшись вперед, Нил разглядел, что друг его в руке баюкает трубку.
– Чем ты занят?
– Курю.
– Опий?
А-Фатт медленно запрокинул голову; на освещенном луною лице его, бледном, но отнюдь не сонном, застыло незнакомое выражение покоя и мечтательности.
– Да, опий, – тихо сказал он. – Вико угостить.
– Осторожнее, ты знаешь, как он на тебя действует.
А-Фатт пожал плечами:
– Ты меня застукать. Но сегодня есть причина.
– Какая?
– Отец кое-что рассказать.
– Что?
После долгой паузы А-Фатт ответил:
– Мама умереть.
Нил ахнул, а на лице А-Фатта не дрогнул ни один мускул, голос его был бесстрастен.
– Как это случилось?
– Отец говорить, наверное, грабители. – А-Фатт опять пожал плечами и промолвил, как будто подводя черту: – Нет толку говорить.
– Погоди, нельзя так оборвать разговор. Что еще сказал отец?
Голос А-Фатта стал глуше, он как будто доносился из глубокого колодца:
– Отец очень обрадоваться. Все время плакать. Говорить, сильно беспокоиться обо мне.
– А ты был рад его увидеть?
И снова А-Фатт пожал плечами, но промолчал.
– А еще что? Он сказал, что тебе делать дальше?
– Отец думать, мне лучше ехать к сестре в Малакку. После Кантона он давать мне деньги начать свое дело. Надо ждать три-четыре месяц.
А-Фатт как будто уплывал куда-то, и Нил понял, что больше ничего не добьется.
– Ладно, давай-ка спать, – сказал он. – Утром поговорим.
Нил шагнул на корму, но А-Фатт его окликнул:
– Постой! Для тебя тоже есть новость.
– Какая?
– Хочешь работать у отца?
Отсутствующий взгляд и застывшее лицо подали мысль, что друг просто заговаривается.
– О чем ты?
– Отцу надо секретарь – писать-читать бумаги. Старый секретарь умереть. Я сказать, я знаю, кто годится на такую службу. В тюрьме ты писал письма, да? Ты владеешь английский, хиндустани и прочее, верно?
– Да, но…
Нил схватился за голову и подсел к другу. Бахрама Моди он знал только со слов А-Фатта, и рассказы эти давали немалый повод для опасений. Порой он вспоминал собственного отца, старого заминдара Расхали, с которым тоже виделся нечасто, ибо и тот больше времени проводил с любовницами, нежели в семье. Всякая редкая встреча с отцом требовала усиленной подготовки к ней и порождала большое волнение, но, представ перед родителем, Нил терял дар речи, охваченный странной смесью страха, злости и ослиного упрямства. При мысли о встрече с Бахрамом все это накатило вновь.
Но как хорошо было бы получить работу и прекратить существование беглеца.
– Отец хотеть встретиться завтра, – сказал А-Фатт.
– Завтра? Так скоро?
– Да.
– Что ты рассказал обо мне?
– Мы случайно встретиться здесь, в Сингапур. Я знаю только, что раньше ты работать секретарь. Отец звать тебя завтра. Говорить о работе.
– Но, понимаешь… – Нил не мог подобрать слов, однако А-Фатт, похоже, угадал, что его тревожит.
– Он тебе понравится. Отец всем нравится. Некоторые говорят, он великий человек. Много видеть, многих знать, много изведать. Он не как я, поверь. А я не как он. – А-Фатт усмехнулся. – Лишь порой я – как отец.
– Когда?
А-Фатт приподнял трубку:
– Видишь? Когда курю, я становлюсь как отец. Великий человек, которого все любят.
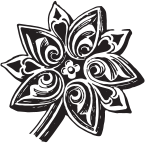
5

Лишь за неделю до прихода в Китай Полетт узнала, что помимо драгоценной коллекции растений «Редрут» везет еще и «живописный сад» – собрание ботанических иллюстраций.
Причина запоздалости этого открытия состояла в том, что картинки не предназначались для обозрения: аккуратно уложенные в папки с тесемками, они были убраны в темную кладовку, где Хорек хранил гербарные прессы, банки с семенами и всякий инвентарь. Иллюстрации оказались там не случайно: для Хорька, далекого от искусства, художественная ценность рисунков ничего не значила, он воспринимал их как своего рода инструмент – подсказку в поиске новых, неизвестных видов растений.
Это весьма оригинально, однако странно, думала Полетт. Не разумнее ли искать новые особи в самой Природе, нежели в изящной сфере человеческих творений? Но Хорек утверждал, что это старый испытанный метод, вовсе не им придуманный. С давних пор его применяли первые исследователи китайской флоры, среди которых был английский ботаник Джеймс Канингем, еще в прошлом веке дважды посетивший Китай.
В те времена иностранцам было чуть проще попасть в Поднебесную, и Канингему посчастливилось провести несколько месяцев в портовом городе Амой. Там-то он и обнаружил, что китайские художники чрезвычайно умелы в реалистическом изображении цветов, деревьев и прочих растений. Это стало большой удачей, ибо в те дни перевезти живые особи из Китая в Европу было делом безнадежным, и потому натуралисты ограничивались сбором семян и «засушенных садов». И вот Канингем добавил к ним новый вид коллекции, привезя в Англию свыше тысячи рисунков. Иллюстрации вызвали неописуемый восторг с изрядной долей скептицизма: европейцам, чей глаз привык к домашней флоре, было трудно, почти невозможно поверить в реальное существование столь невиданной красоты. Кое-кто утверждал, что нарисованные цветы являют собой ботанический аналог птицы-феникса, единорога и прочих мифических существ. Разумеется, они были неправы; в свое время весь мир поймет, что коллекция эта представляла достопримечательные растения, избравшие своей родиной Китай, а позже проникшие в другие страны: гортензии, хризантемы, цветущие сливы, древовидные пионы, первые ремонтантные розы, гребешковые ирисы, примулы, лилии, хосты, глицинии, астры, азалии и бесчисленные виды гардений.
– Но главная заслуга Канингема в том, что он открыл камелию, – сказал Хорек. – Не постигаю, отчего Линней решил назвать ее в честь Георга Йозефа Камела, малоизвестного германского лекаря. Вся стать ей называться Cuninghamia в честь Канингема, для кого она был страстной целью поиска и кто первым представил Британии листья ее чайного вида.
Камелия вызывала его особый интерес не только своими цветами и пищевой ценностью – он считал, что она, возможно, представляет собою ботаническую особь, наиболее значимую из всех известных человечеству. И это вовсе не надуманная фантазия, ибо семейство камелии одарило мир чайным кустом Camellia sinensis, к тому времени уже ставшим источником весьма прибыльной торговли. Интерес Канингема к иным видам камелии разожгла китайская легенда о человеке, который очутился в долине, не имевшей выхода, и прожил там сто лет, питаясь исключительно одним растением. Настой его насыщенно золотистого цвета, гласила легенда, возвращал первозданный цвет седым волосам и былую гибкость старческим суставам, а также излечивал легочные хвори. Назвав это растение «золотистой камелией», Канингем пребывал в убеждении, что, найденное и размноженное, своей ценностью оно превзойдет чайный куст.
– И что, сэр, он его нашел?
– Возможно, только сие никому не ведомо… Возвращаясь из второго путешествия в Китай, Канингем бесследно исчез возле южных берегов Индии. Коллекция растений, которую вез ботаник, тоже сгинула, и пронесся слух, что она-то и стала причиной его безвременной смерти. Слухи еще больше окрепли, когда в целости и сохранности дошла бандероль с его бумагами, которую он отправил в Англию, перед тем как пуститься в свой последний путь. Там была картинка с изображением неизвестного цветка.
– Золотистой камелии?
– Судите сами, – коротко ответил Хорек и достал из папки двойной бумажный лист размером с почтовую открытку.
На одной пожелтевшей странице был изящный рисунок кистью, занимавший пространство не больше шести квадратных дюймов: на заднем плане размытый контур горы в туманной дымке, на переднем – кривой кипарис, под которым сидит старик с чашей в руках. Рядом с ним ветка с яркими цветками. Масштаб рисунка не позволял разглядеть форму лепестков, но цвет бутонов – пурпурный, плавно переходящий в золотистый – впечатлял необычайно.
На противоположной странице два вертикальных ряда китайских иероглифов.
– Известно, что здесь написано, сэр? – спросила Полетт.
Хорек кивнул и перевернул лист обратной стороной, где была выцветшая, но каллиграфически исполненная надпись по-английски:
Лепестки на зеленоватых стеблях сияют, как чистейшее золото.
В центре бутона сверкает пурпурный глазок.
Избавляет от ломоты в костях, улучшает память и проясняет ум.
Изгоняет смерть, поселившуюся в легких.
Ниже стояла подпись: Се Линъюнь, князь провинции Кан-ло.
– Этот князь вовсе не мифический персонаж, он реальная личность, – сказал Хорек. – Жил в пятом веке нашей эры и считался одним из самых видных китайских натуралистов. Надпись его говорит о том, что растение это способно не только повернуть вспять процессы старения, но и послужить в борьбе со страшным бичом человечества – чахоткой.
Через много лет после смерти Канингема его бумаги попали в руки сэра Джозефа. Он тоже пришел к выводу, что «золотистая камелия» – это, видимо, величайшее ботаническое открытие, этакий Грааль натуралистов. Потому-то и решил за государственный счет направить в Кантон обученного садовода Уильяма Керра.
– Но тот не нашел эту камелию?
– Нет, однако отыскал свидетельство ее существования. Последняя коллекция растений, им отправленная, была чрезвычайно внушительной, и дабы груз благополучно прибыл в Лондон, Керр нанял сопровождающего – молодого китайского садовника. Этот А-Фей, совсем еще паренек, отличавшийся сообразительностью и отменной сноровкой, сумел доставить коллекцию почти в полной сохранности. Вместе с ней он передал сэру Джозефу небольшой «живописный сад» – пару дюжин ботанических иллюстраций, выполненных кантонскими художниками. И среди них оказалось изображение неизвестного цветка, чрезвычайно похожего на тот, что был на рисунке, найденном в бумагах Канингема. – Раскрыв другую папку, Хорек подал картинку Полетт. – Вот, взгляните.
Рисунок был выполнен не на бумаге, а на чем-то ином, очень плотном и чрезвычайно гладком. Хорек пояснил, что эта основа изготовлена из сердцевины тростника, любимого материала китайских художников. На картинке размером с лист писчей бумаги царило буйство цвета. Яркое впечатление усиливала техника многослойного мазка, делавшая изображение бутона, лепестки которого располагались концентрическими кругами, почти рельефным. Завиток тычинок в центре чашечки как будто испускал пурпурное сияние, заливавшее основания лепестков, но постепенно менявшее оттенок и превращавшееся в пиршество золотого цвета на вершине венчика.
Полетт никогда не видела столь необычную цветовую вариацию в одном бутоне.
– Невероятно красиво, – сказала она. – Даже трудно поверить, что такой цветок и вправду существует.
– Сомнение ваше вполне естественно. Но приглядитесь, и вы поймете, что моделью служила реальная особь. И что тогда скажете?
Полетт вновь взглянула на рисунок и поняла, что он, как и традиционные ботанические иллюстрации, полон красноречивых деталей. Теперь она присмотрелась к двум листикам на черешках: художник тщательно передал эллиптическую форму с каплевидным окончанием и даже прожилки, просвечивавшие сквозь глянцевую поверхность. А рядом набухла почка, из плотной чешуйчатой оболочки которой был готов выглянуть третий листик.
– Этот рисунок вам показал сэр Джозеф?
– Именно он.
Вскоре после получения последней коллекции сэр Джозеф Бэнкс вновь призвал Хорька, и тот, представ перед Куратором, узнал, что в сопроводительном письме Уильям Керр просит освободить его от должности. В Кантоне он провел несколько лет и жаждал уехать. Поскольку помощник собрал больше двух сотен новых растений, сэр Джозеф решил уважить его просьбу и отправить Керра на Цейлон. «Однако в Кантоне еще много полезной работы, – сказал Куратор. – Я получил сведения о цветке, перед которым меркнут все наши прежние находки. И сие – одна из причин, почему я намерен отправить в Китай человека, который будет представлять не Королевские сады, но группу частных инвесторов». И вот тогда он показал Хорьку недавно полученный рисунок «золотистой камелии». «Надеюсь, вы понимаете, Пенроуз, что все это строго конфиденциально. – Конечно, сэр. – И что скажете? Вы парень не промах. Как насчет того, чтоб прославиться? Да еще хорошо заработать?»
Хорек моментально смекнул, что теперь жизнь его так или иначе изменится. С первой поездки в Китай минуло три года. По возвращении он получил работу в Королевских садах, где дорос до чина десятника. Окрепнув материально, он женился на девушке из Фалмута, в которую давно был влюблен. Сейчас она ждала ребенка. Хорьку претило оставлять ее одну в таком положении, но именно жена убедила его принять предложение Куратора. Те два-три года, что тебя не будет, сказала она, я поживу у родителей. В Фалмуте полно жен моряков, которым приходится ждать своих мужей, а такую возможность упускать нельзя.
Вот так вышло, что Хорек во второй раз отправился в Кантон. Через два года он вернулся с коллекцией растений, составившей ему имя и заложившей основу его капитала, но в ней не было «золотистой камелии».
– Вы не нашли никаких следов этого цветка, сэр?
– Нет.
Сэр Джозеф побоялся доверить ему подлинники рисунков, и Хорек поехал с далеко не совершенными копиями, которые за время долгого путешествия вконец истрепались.
– Но теперь у меня есть оригиналы, а это совсем иное дело. – Хорек убрал рисунки в папки. – Я знаю, с чего начать.
Едва ступив на борт «Анахиты», Нил понял, что назвать ее «плавучим дворцом» отнюдь не преувеличение. Всего ста двадцати футов в длину, шхуна уступала размером впечатляющим европейским и американским парусникам, стоявшим на внешнем рейде Сингапура. Но те большие корабли, пусть надежные и ухоженные, были рабочими лошадками, тогда как «Анахита» выглядела скорее прогулочной яхтой, этаким капризом богача. Под солнцем сияла ее начищенная медь, сверкала отдраенная палуба. Кроме сгинувшей ростры, от повреждений, полученных в шторме, не осталось и следа. Все, до последнего каната и перлиня, было на своих местах, восстановленный бушприт гордо похвалялся новеньким такелажем.
Оглядывая палубу, Нил засмотрелся на фальшборты, которые с внешней стороны выглядели вполне обычно, а с внутренней были украшены резными панелями по художественным мотивам древней Персии и Месопотамии: крылатые львы, желобчатые колонны, шагающие копьеносцы. Хотелось изучить их во всех подробностях, но Вико подтолкнул его к полуюту:
– Поторапливайтесь, мунши-джи. Патрон ждет.
Полуют, где были гостиные, каюты и кают-компания, производил впечатление самой роскошной части корабля. Благодаря орнаментальным люкам в потолке, сквозь которые лился мягкий естественный свет, центральный коридор казался просторным и полным воздуха, тогда как на других кораблях он выглядел сумрачным и тесным. На стенах, обшитых панелями красного дерева, висели обрамленные гравюры руин Персеполя и Экбатаны. Нил охотно задержался бы возле них, но Вико, не сбавляя шага, прошел к хозяйской каюте и постучал в дверь.
– Патрон, здесь мунши, присланный Фредди.
– Пусть войдет.
В легкой хлопчатой ангаркхе и туфлях из серебристой парчи, Бахрам сидел за столом. Борода его была аккуратно подстрижена, голову украшал простой, но безупречно завязанный тюрбан.
В смуглом лице с прямым носом легко угадывался источник не одной лишь миловидности, но и других качеств А-Фатта – скажем, волевого взгляда, светящегося проницательным умом и решительностью на грани жестокости. Однако на этом сходство Бахрама с сыном заканчивалось, ибо в облике А-Фатта не было ни намека на ранимость, но только признаки легкого нрава, добродушия и обезоруживающей напористости, составлявших немалую часть обаяния отца.

